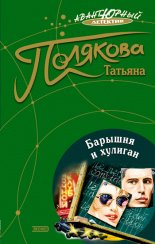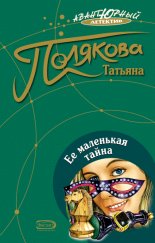Первое правило королевы Устинова Татьяна
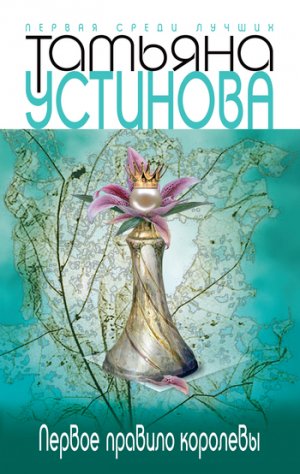
– Вам некогда. У него любовь. Все правильно.
– А вы откуда знаете, правильно или нет?!
– Все оттуда же, Инна Васильевна, откуда и вы. Мне было некогда, и к моей жене нагрянула большая любовь.
Инна внезапно почувствовала жгучий интерес. Такой, что даже головная боль полыхнула напоследок и сгорела.
– Вы… развелись?
– Развелся.
– А… дети?
– Сын. Он со мной, слава богу.
– Ваша жена вам его отдала?!
– Отдала. У нее любовь, новая семья. Новые дети. Старые дети не нужны. Надоели.
– А… давно вы развелись?
– Шесть лет назад.
– А я только вчера, – пожаловалась Инна. – Говорят, что мужчины переживают все это легче.
Он пожал плечами:
– Не знаю.
Принесли ужин – гору сказочной еды, бутылку в серебряном ведерке, белые свечи, две штуки, два бокала – вот до чего догадлива и услужлива оказалась директриса! – небольшой тазик с пирожками, вазочку с клубникой, и еще что-то такое, и еще что-то эдакое.
– Вот видите, – сказала Инна уныло, – придется вам со мной романтически ужинать. Хотите?
Он мельком глянул на нее.
– Есть хочу, – объявил решительно, – романтически ужинать – нет.
– Все равно придется романтически. Куда же мы свечи денем и шампанское?
– Это точно, – согласился он, – девать некуда. Вы курите?
– Нет, – призналась Инна.
– Значит, нет зажигалки?
Она пожала плечами – у нее не было зажигалки. Тогда он вытащил из кресла свое пальто и долго рылся в карманах, то в одном, то в другом, потом опять в первом, и наконец нашел.
Он зажег свечи, некоторое время полюбовался на них – в темных зрачках плеснулось золотистое пламя, – потом отчего-то поморщился и посмотрел на нее.
– Может, потушим?
– Ну нет, – сказала она решительно, – не станем. Все, Александр Петрович. Хватит политес разводить. Снимайте ваш пиджак, и давайте поедим. Поздно уже.
Романтический ужин и вправду не получился – несмотря на свечи, серебряное ведерко и льняную белоснежность скатерти. Они быстро ели и думали каждый о своем.
Несколько раз она на него взглянула – он просто ел и явно не был озабочен, какое впечатление производит. Когда она посмотрела в очередной раз, они встретились глазами, и ей стало неловко – заметил, все ее рассматривания заметил, только виду не подал!..
Он глотнул вина, как воды, и спросил без всякого интереса:
– Вы в команде Мухина работаете?
– Да.
– Давно?
– Год.
– А до этого где работали?
– На телевидении. В Москве.
– Из Москвы в Сибирь?! Эк вас угораздило!..
– Работа такая.
– Белоярск – город сложный. Один алюминиевый комбинат чего стоит.
– Вы там были?
– Инна Васильевна, я читаю газеты. Про алюминиевые войны только ленивый не написал.
Она улыбнулась:
– Это точно.
Девяносто процентов того, что на-гора выдавала пресса, Инна придумывала сама. Нет, не писала, а именно придумывала. И про войны, и про «хороших и плохих» парней, и про директоров заводов, и «хозяев города».
Это была ее собственная война, почти карманная.
Кто-то воюет, стреляя из «калашникова». Кто-то воюет, придумывая сюжеты.
– А как вы из Москвы попали в команду Мухина?
– Это долгая история, Александр Петрович. Мухин – умный человек и умеет ценить преданных людей, а я однажды ему помогла.
– Вы помогли губернатору края?!
– Ну да. И он предложил мне работу. Я согласилась.
Тут она вспомнила про джакузи, в которую вода как пить дать налилась два часа назад, и кинулась в ванную, некрасиво подхватив полы длиннющего халата и чуть не свалив со столика свой бокал.
Ванна оказалась умнее Инны – она налилась до какой-то там отметки и автоматически отключила воду.
Вода уже остыла, сидеть в ней было нельзя.
И тут ей так жалко стало себя, своей жизни, которая кончилась сегодня, когда Виктор вытащил из их общего гардероба свою куртку, и этой горячей воды, в которой ей не удалось посидеть, и ужина, который пришлось делить с незнакомым человеком, и этого вечера, когда по-хорошему следовало бы выть и кататься по полу, а она почему-то ведет светские, никому не интересные беседы, что, присев на краешек ванны, она вдруг заплакала – громко, навзрыд.
Она рыдала довольно долго – никто не шел из гостиной утешать ее, видно, гость опять принялся рассматривать стены и очень увлекся этим занятием.
Потом она открыла золотую пробку, и вода стала с шумом уходить из ванны – Инна почему-то была уверена, что так же, в канализацию, утечет ее жизнь, вся, до капли, и больше уж ничего не останется.
Потом она перестала рыдать – когда в ванне не осталось больше воды, – поднялась, не глядя вытерла лицо и побрела в гостиную, уверенная, что Александр Петрович, как человек деликатный, давно уже покинул ее «приют».
«Он покинул гостеприимный приют» – так писали в романах про герцогов и графов. Гостеприимный приют, как правило, помещался в замке, а сам герцог или граф помещался верхом на лошади, а вокруг бушевала метель…
Додумать до конца она не успела, потому что Александр Петрович, вовсе не покинувший «приют», появился откуда-то сбоку, взял ее за руку, повернул к себе, посмотрел внимательно и даже как будто сердито, а потом поцеловал, и целовал ее долго и со вкусом. От изумления она даже слегка пискнула – никто не целовал ее уже лет сто или двести, – но он не обратил на ее писк никакого внимания.
Очень быстро они оказались на диване в гостиной, а потом в светелке, на пышнотелой кровати, а потом в джакузи, куда заново налилась вода, а потом опять на диване.
Почти никаких слов. Только одно огромное чувственное изумление – такое огромное, что оно нигде не помещалось, лезло наружу, словно таращилось на них.
Что это за мужик?!. Откуда он взялся?!. Что она делает с ним на диване в гостиной?!
Десять лет она была «верной женой» – и на второй день после развода угодила в постель с незнакомым человеком, о котором ничего не знает, кроме того, что зовут его Александр Петрович, и еще того, что он тоже когда-то там развелся!..
Десять лет она не знала никаких мужчин, кроме собственного мужа, который вчера… нет, сегодня забрал из ее гардероба свои вещи. Десять лет не знала, а теперь оголтело занимается любовью на казенном диване – и даже толком не понимает, с кем!
Они уснули очень поздно – или слишком рано – поперек пышнотелой кровати, потому что ни у нее, ни у него не было сил переползти и лечь нормально.
Ей показалось, что она совсем не спала, – только что в последний раз он отпустил ее, поцеловав напоследок, – но что-то свербело в ухе, и она с трудом разлепила веки и поняла, что за окнами утро, что ее любовник крепко спит, свесив до ковра волосатую смуглую руку, а у нее в сумке звонит телефон.
Кое-как она поднялась, и, шатаясь, пошла искать сумку, и долго искала, тихо и жалобно ругаясь себе под нос, и наконец нашла.
– Да.
Ее собственный голос был хриплым и низким – голос женщины, которая всю ночь напролет занималась преступной любовью.
– Инна Васильна, ты?
– Да. Кто это?
– Ты в Москве?
– Да. Кто это?!
– Это Якушев. – Так звали первого зама губернатора. – Прилетай, у нас беда. Мухина убили. Сегодня ночью.
Похороны губернатора, как все официальные похороны, прошли с фальшивой помпезностью и показались Инне очень холодными – под стать наступившей в Белоярске зиме.
В Москве стояла золотая осень – синее небо, чистый холодный воздух, ветки деревьев, словно нарисованные тушью на красном и желтом, бульвары, заваленные листьями. По утрам под ногами вкусно хрустел ледок, а днем почти пригревало, и казалось, что до зимы далеко-далеко.
Зима оказалась намного ближе к Белоярску, чем к Москве, – ветер с Енисея был ледяным и острым, взметывал вчерашний снег, лез под шубы и темные очки, надетые не от солнца, а для того, чтобы вездесущие камеры не снимали глаза.
Руки у Инны совсем заледенели в тонких перчатках, и пришлось сунуть их в карманы. Деревянные и бесчувственные от холода пальцы нащупали что-то твердое, и она долго не могла сообразить, что там такое. Почему-то это казалось страшно важным, и она чуть успокоилась, поняв, что это зажигалка.
Зажигалка. Ничего особенного.
Откуда она там взялась?..
Городское кладбище даже в «привилегированной» его части было унылым и неуютным – все снег да снег, все кусты да кусты, все гранит да гранит, да еще черный мрамор, и не разберешь, кто там под ним – местные ли «братки», устроившиеся здесь с наибольшим почетом, начальники высокого ранга, священники и академики из «ссыльных».
От темных очков снег казался желтым, а низкое небо – фиолетовым.
Ухали трубы, мешали думать. Солдатики переминались с ноги на ногу, мерзли в худых шинельках. Московская траурная делегация, постно потупившая государственные головы, стояла вроде бы среди толпы, а вроде бы и обособленно. «Местные» все стремились туда, к ним поближе, и даже те, что стояли неподвижно, – стремились, подсовывались, метали взгляды.
Инна от них отвернулась.
Может, она и была слишком «чувствительной», как это называл верный Осип Савельевич, но все же считала, что похороны – не место для карьерных затей. Ну пусть хоть в присутствии мертвых, ну хоть на время живые позабудут про «хлеб насущный», про «доходное место», про «начальничье око»! Все равно – доходное у тебя место или нет – кончится все кладбищенской тоской, снегом, вывороченной землей, присыпанной твердыми белыми шариками, которые катятся и катятся, сыплются в расхристанную яму, отчего-то казавшуюся Инне непристойной.
– Загрустила совсем, Инна Васильевна? Или замерзла?
Это Симоненко, отвечавший в области за сельское хозяйство. «Кадровый работник» – так было написано в его служебной характеристике. Инна не испытывала к «кадровым работникам» никакого почтения. Или работник, или нет, а там уж – кадровый, не кадровый – значения не имеет.
– Замерзла, Василий Иванович.
– Шубейка у тебя…
– Что?..
– Больно фасонистая. В Европах, что ль, прикупила?
Дает понять, что передачу «Единственный герой», в исполнении Гарика Брюстера и ее собственном, видел и не одобряет, поняла Инна. И черт с ним. Ее многие не одобряли, но так уж она устроена, что по большей части ей было на это наплевать. Людей, чьим мнением она по-настоящему дорожила, было немного, остальных она не боялась и умело использовала в своих целях – не торопясь, не сбиваясь с нужного тона, не «переходя на личности», корректно, со сверкающей ледяной улыбкой.
Никто не знал, как это трудно. Она одна.
Ветер взметнул полу шубы. Инна придержала ее рукой и улыбнулась затвердевшими от холода и «траурности» губами.
– Ну что, Василий Иванович? Король умер, да здравствует король?
– Это… в каком смысле?
То ли «кадровый работник» действительно был несколько тугодум, то ли так специально притворялся, «из интересу».
– Выборы назначили?
– Ты же знаешь, – буркнул он и боком повернулся к ледяному ветру, вновь примчавшемуся с Енисея, – Власов сроки предложил, теперь Хруст должен рассмотреть и утвердить.
Власов возглавлял краевой избирательный комитет, Хруст – местное законодательное собрание.
– Пока обязанности Якушев исполняет.
– А Мазалев?
– Он в крае всего полтора года, а Якушев, считай, пять лет! Ты устав не читала, что ли?
– Я не только читала, Василий Иванович, я его и писала!
– А чего тогда спрашиваешь? В уставе ясно сказано, кто в крае дольше работает, тот и!..
– Тише, тише, Василий Иванович! Ты не распаляйся до времени.
«Кадровый работник» пару раз сопнул носом – недовольно. Все время она его переигрывала, эта баба в европейской шубенке. Он и понять не мог, как это получалось, но как-то так получалось, что он – раз, и чувствовал, что она его опять переиграла, хотя вроде ничего такого и не сказала.
– Начнется теперь смута, – пробормотал он себе под нос, отвечая собственным мыслям «о бабе». – Выборы, то-се… Понаедут всякие, без роду без племени, начнут народ баламутить…
– Король умер, – произнесла Инна негромко, – да здравствует король.
– Да что ты заладила все про короля-то этого!
– Я не про короля, Василий Иванович. Я про выборы.
– А выборы при чем?
Она не ответила, потому что гроб опустили, могилу засыпали и солдатики быстро и как-то скомканно стали стрелять из ружей – «отдавать последнюю дань». От грохота в небо взметнулась стая галок и теперь, тоскливо крича, высоко кружила над кладбищем.
– Как они теперь будут? – сама у себя спросила Инна.
– Кто?..
– Любовь Ивановна и Катя с Митей.
Симоненко помолчал немного.
– Да чего?.. Так же и будут. Митька как пил, так и будет пить, а Катька в Питер укатит.
– Укатит… – повторила Инна.
Дочь покойного Мухина держала мать под руку, выражения лица за стеклами темных очков разобрать было нельзя. Ее брат, желтый, дрожащий, как будто плохо вымытый, прятал в карманах большие красные руки, ежился и время от времени расправлял плечи и судорожно выпрямлялся.
Отец-губернатор только и делал, что прикрывал и защищал их – давал работу, деньги, «подключал» связи, употреблял влияние, а сыну еще нанимал врачей, шарлатанов, колдунов, все для того, чтобы тот «завязал», «зашился», «покончил с зельем», а тот все никак не мог ни завязать, ни покончить.
Теперь мимо осиротевшей губернаторской семьи по очереди проходили все пришедшие «почтить» – сначала московские, потом местные, – шептали, пожимали руки, делали утешающие и скорбные лица, некоторые для правдоподобия утирали сухие глаза, а вдова так и не подняла лица.
– Ну, и нам пора, – пробормотал рядом Симоненко, – ах ты, господи…
Он неловко обошел насыпанный холм земли, осыпая сухие жесткие комья.
Ах ты, господи…
Инна не стала ничего говорить: для нее покойный Мухин был просто начальник – «медведь, бурбон, монстр», – не самый лучший и не самый худший, бывали в ее жизни и похуже! Она лишь пожала вдове руку и собиралась отойти и несказанно удивилась, когда услышала тихий, какой-то бестелесный голос:
– Инночка…
Любовь Ивановна казалась неподвижной, дочь смотрела прямо перед собой, у рта собрались раздраженные складки, словно она сердилась на отца за то, что он так некстати умер. Сын трясся рядом, дергал замерзшим носом.
Кто ее звал?..
Сзади уже вежливо теснили – поскорее «выразить сочувствие», дотерпеть до конца процедуры, а потом забраться в тепло машины, где уютно дремлет водитель, протянуть ледяные руки к решетке отопителя, закурить и поехать туда, где уж можно будет и «помянуть по русскому обычаю».
– Инночка…
Все-таки Любовь Ивановна, которая так и смотрела вниз – то ли под ноги, то ли на могилу мужа.
– Любовь Ивановна?..
– Сегодня часов в десять приезжайте к нам.
Сзади напирали и лезли, как в очереди за стиральным порошком в недалеком и радостном социалистическом прошлом.
– Куда… мне приезжать, Любовь Ивановна?
– На городскую квартиру. На даче мы вряд ли… сможем поговорить.
О чем им говорить?! Даже при жизни Мухина они сказали друг другу едва ли десяток слов. Инна никогда не принадлежала к числу «друзей семьи», а Любовь Ивановна, по обычаю всех русских «публичных жен», на передний план не лезла, участия ни в чем не принимала, от модельеров и парикмахеров отказывалась наотрез и, когда супруг звал ее на какое-нибудь судьбоносное протокольное мероприятие, отвечала неизменно: «Ты уж, Анатолий Васильевич, там без меня. Что я тебе? Связа одна!»
– Мама!.. – Это дочь Катя. Голос напряженный.
– В десять, Инночка. Я буду ждать.
– Я обязательно приеду, Любовь Ивановна.
Увязая каблуками в земле, она перебралась на другую сторону могильного холма и спрятала нос в воротнике шубы. Мех был мягкий и гладкий, и пахло от него хорошо – вчерашними духами и чуть-чуть сигаретами.
Что она хочет мне сказать? Зачем я ей понадобилась, да еще в день похорон, да еще вечером, да еще в городской квартире, когда на даче будут «все» – московские гости с их ариями, многочисленные родственники, малочисленные друзья?..
До конца «траурного мероприятия» оставалось совсем немного, все говорили почти что в полный голос, и все – о делах, под конец перестав стесняться.
– Выборы через два месяца. Это, значит, когда? Ну да, получается в конце декабря.
– Под самый Новый год, елки-палки!
– Так еще заксобрание должно утверждать…
– Хруст все утвердит, что надо. Ему тянуть интереса нет, он же сам баллотироваться хочет.
– Ну и правильно. Самый верный кандидат.
– Надо, чтобы олигархи поддержали, а они пока что-то его не очень …
– Павел Иванович, а правда, что Адмиралов продал контрольный пакет «БелУголь»?
– Говорят, что продал, а там… не знаю.
– А в «Коммерсанте» вчера статья была…
– Ваш «Коммерсант», пожалуй, набрешет!..
– А эти небось знают!
– Кому же и знать, как не им.
– Кого еще президент поддержит…
– Хруста он поддерживает.
– Да про эту поддержку сам Хруст и толкует, а как на самом деле, никто не знает.
– Кто же «БелУголь» перекупил?.. Появится тут у нас… новая фигура да и выскочит в губернаторы!
– Никто никуда не выскочит, у нас край, а не цирк!
Инна отступила в снег, пропуская всю замерзшую и очень озабоченную компанию.
– Инна Васильевна! Ты давно из Москвы?..
– Два дня. Как узнала, так сразу и прилетела.
– А… откуда узнала?
Это был очень важный вопрос, самый важный – кто кому звонил, кто кого вызывал, кто от кого узнал.
Король умер, да здравствует король, все правильно.
Все претенденты, едва узнав, что престол освободился, кинулись собирать и группировать вокруг себя «своих». Тех, кто подставит спины и плечи, чтобы хозяин вскарабкался по ним на высокое и теплое место, и утвердился на нем, и окопался, и настроил укреплений и дотов, а потом, бог даст, распределил бы вожделенные «доходные места» – в соответствии с высотой и шириной подставленной спины или, напротив, вне зависимости от размеров спины, зато в соответствии с умением ее владельца убедить царя в несомненности своих заслуг.
Инне звонил Якушев – и.о. царя, самая сильная на сегодняшний похоронный день шахматная фигура. Инна таким образом оказывалась «в команде» первого претендента на трон и приобретала некий особый статус. Статус пока не был, так сказать, закреплен за ней официально, потому что с Якушевым по приезде она так и не виделась – тот был слишком озабочен смертью губернатора и ситуацией вокруг нее.
О смерти Мухина говорили шепотом и тревожно оглядываясь по сторонам – странная смерть, непонятная, волнующая.
Губернатор был найден мертвым в своем кабинете – с черной дыркой в виске и пистолетом, валявшимся под правой рукой, на красном «кремлевском» ковре. Якушев, позвонивший Инне в Москву, сказал: «Убит». Прессе «скормили» несчастный случай. Если бы пресса была московской, а не белоярской, так просто от нее отвязаться ни за что не удалось бы. Местная проглотила «несчастный случай и неосторожное обращение с оружием», и было очевидно, что проглотила просто так, от неожиданности. Московская пресса в игру еще не вступила, и Инна знала совершенно точно, что грянет грандиозный скандал, когда вступит.
К тому времени, когда Инна оказалась в Белоярске, версия, та самая, которая для «внутреннего пользования», а не для прессы, поменялась – самоубийство, вне всяких сомнений. И поза, и пистолет, и время классическое – зыбкая грань между ночью и утром, когда демоны выбираются из своей преисподней и, злобно скалясь, начинают грызть и терзать слабый человеческий мозг, подкидывать гадкие мысли и сооружать чудовищные образы, спасение от которых – только смерть. Уйти, не жить, не смотреть, кануть в небытие и беспамятство.
Слаб человек, слаб. О чем ты думал, Анатолий Васильевич, когда приставлял к голове холодное, гладкое, страшное дуло? Кто тебя под руку толкал? Что ж ты так… не устоял? Как ты мог?..
Инна скорбно кивала, соглашалась, теребила в кармане зажигалку – и не верила в версию самоубийства.
Она мало знала Мухина, но и того, что знала, было достаточно, чтобы не верить.
Он был «медведь, бурбон, монстр» – такой же кадровый работник, как Симоненко, закаленный «партийным аппаратом» и отобранныйтой системой для руководства той страной. Он был твердо убежден, что все, что делает, – только во благо, даже когда во вред, все равно «во благо».
Он не лез в крупный бизнес, не пытался прижать криминал, не удалял от власти олигархов и не ссорился с федеральной властью. Он был вполне удовлетворен положением, которое занимал, и даже верил в то, что он на самом деле губернатор – кортеж состоял по меньшей мере из четырех машин, мигалки заполошно мигали, гаишники вытягивались вслед по стойке «смирно», личный самолет с красным бархатным салоном исправно возил его в Москву и обратно, колхозники и колхозницы встречали с рушниками и караваями. В Кремле его тоже принимали с почетом, без рушников и караваев, правда, но вполне уважительно, и он, давая интервью, говорил, намеренно и значительно окая, соблюдая максимальную «близость к народу»: «Когда губернаторская власть сильна, когда она уважаема, тогда и порядок будет!»
За ним не было никакого бурного криминального прошлого, он не являлся ставленником «промышленных группировок», единственной серьезной его бедой был сын, не удавшийся во всех отношениях.
– Ты на машине, Инна Васильевна, или подвезти тебя?
– На машине, спасибо.
Бессменный Осип, наверное, уже все газеты прочитал, все кроссворды отгадал, всю музыку послушал, все прутья в кладбищенской ограде сосчитал.
…Что покойный Мухин делал ночью в кабинете?! Он никогда не работал по ночам! Он всегда говорил, что «после девяти он не губернатор, а нормальный мужик», и бравировал, и гордился этим! Модные штуки – работать, мол, работать и работать – нисколько его не занимали. Он был слишком уверен в себе, чтобы тратить на работу времени больше «положенного».
…Откуда у него пистолет? Нет, конечно, он вполне мог купить его, или получить в подарок, или найти на улице, но все это невероятно, невероятно!.. Он не испытывал ни тяги, ни интереса к оружию – в силу возраста и положения, которое занимал довольно давно. Мальчики от политики, только что выскочившие ниоткуда и гордившиеся своей «причастностью» – пистолетами, джипами, мигалками, охранниками, тысячедолларовыми костюмами, – изгонялись из его окружения немедленно. То есть, разумеется, оставались на своих постах, но больше доступа к губернатору не имели – чтобы не раздражать батюшку.
…Почему он застрелился? Ничего такого не происходило – президент не вызывал его на ковер, счетная палата не проводила расследований. Правда, криминал воевал с криминалом, но так было всегда. Выборов и тех не предвиделось в ближайшее время, только через два с половиной года, и рано еще думать с холодеющим сердцем – как там дальше?!
Что могло случиться, что заставило «медведя, бурбона и монстра» в ночном кабинете приставить к виску холодное дуло?! Почему именно сейчас?! Или узнал что-то такое, о чем во врачебном диагнозе говорится – несовместимо с жизнью?
Что? От кого? Когда?
И – самое главное – ни вопросы, ни ответы не могли иметь к Инне отношения. Не только непосредственного, но и вообще никакого!.. Зачем так настойчиво прятала лицо Любовь Ивановна, зачем звала ее к десяти на городскую квартиру?
Осип Савельич, завидев ее, выскочил из машины и распахнул дверь в теплое и душистое нутро – она не любила в салоне сигаретной вони, и водитель смолил свои «самокрутки» только на улице. Стуча зубами, Инна пробралась на переднее сиденье и повернула к себе вожделенную решетку отопителя. Оттуда ровно и сильно дуло теплом, и она замерла, закрыв глаза.
– Где это видано, чтоб на кладбище по три часа!.. Ишь, развлечение какое выдумали – как будто не в последний путь, а в армию провожают!
– Ладно тебе, Осип Савельич.
– Да ничего не ладно. Смотри, синяя вся! Может, выпьешь вот тут у меня… один глоток. Для здоровья.
Инна открыла глаза и покосилась на своего «кулака и белобандита». Он выудил из кармана плоскую металлическую флягу и тыкал ею Инне в бок – переживал за ее здоровье. Угрюмая физиономия выражала заботу пополам с досадой.
Старый друг. Боевой товарищ. Член семьи.
– Давай, Осип Савельич.
Осип проворно отвинтил крышечку, сунул фляжку Инне под нос, а сам опять зашуровал в кармане, отодвинувшись к самой двери.
Она глотнула теплой водки – изрядно. Не поперхнулась, но задышала ртом.
– На, закуси, закуси скорее!
В пергаментной бумажке лежали три толстых куска сальной от тепла колбасы и залоснившийся кусок сыра. Инна отщипнула сыр.
И водка, и колбаса с сыром были взяты на кладбище специально для нее, и она умела оценить это. Осип никогда не пил – ни за рулем, ни без руля. В молодости набаловался, хватит, – так это называлось.
Она тоже о нем заботилась. В ресторанах всегда заказывалась и упаковывалась отдельная порция, отправлялся официант – специально для него. Она никогда не держала его «просто так», лишь бы стоял, не вызывала без нужды, не хамила ему и не помыкала им.