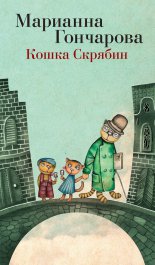Фаворский свет Метлицкий Федор

Да, наверное хорошо здесь ходить по аллеям, как в нирване, тебя баюкают по сторонам сады, расцвеченные сиренью, на открытых местах невинные белые церквушки; за низеньким штакетником заборов, просматриваясь насквозь, выглядывают деревянные дома с ажурной белизной резных наличников. Неторопливый стук работ внутри садов, журчание воды из шлангов.
Кто-то задумывал этот мир без желания выгод, бесцельно, для удовольствия, там человек отогревается, и в нём возрождается вера в братство человечества. Где-то здесь, как я слышал, затерялась она, моя первая любовь. Одна или обзавелась семьей, детьми? Она уже выцвела в душе, как старая фотография.
– Вообще здесь отдельная республика, – сказала Светлана. – Люди, приезжающие сюда, преображаются, становятся другими. Здесь мы отдыхаем. В городе борются за выживание и успех, а у нас оздоровляются. Правда, часть, где был противотуберкулезный санаторий, оттяпали власти. Продукты не покупаем в супермаркете, наоборот, снабжаем город свежими, экологически чистыми, хотя там дерут непомерные бонусы.
Писатель, развалившись на сиденье микроавтобуса широким телом, неспешно изливал слова, как на привале у костра.
– Наши люди живут вольно, отрезанно от города, как на реке или в лесу.
Мы знали, что здесь народ независимый, следует установленным в старину обычаям, слепо не хает развалившуюся империю, видя в ней доброе, свою молодость, и терпелив к нынешней власти. Открытое место, с радостью принимающее гостей, которые чувствуют здесь себя по-настоящему свободными, в полной мере расслабившимися. Правда, здесь стали пропадать люди. Особенно защитники независимых Черёмушек. Говорили о некоей злой силе, отхватывающей человека и вмиг исчезающей.
– Вон мой дом, – обрадовался писатель. – Он открыт всем добрым людям. Есть вино, из той трёхствольной винной груши, что растёт у крыльца. Вкусное, с приятной горечью. Приглашаю.
Олег сомневался.
– Что это за самоделка? Процент сивушного масла проверяли? То-то.
Он не доверял самодельному или рыночному, предпочитал импортное, известных марок.
В простом доме – конторе местного самоуправления – уже ждали: длинный стол был накрыт, как сказали, экологически чистыми фруктами и овощами прямо с полей агрохолдинга, с известным и за пределами края натурально мягким пахучим хлебом, местным вином, «всегда свежим».
– Наш электорат! – сладострастно потёр ладони Олег.
Во главе стола сидел директор агрохолдинга, спонсор посёлка. Его живые глаза помягчели.
– Мы ждали вас, потому что вы становитесь новой силой, у вас есть новые идеи.
Он рассказал о нарастающем противостоянии с местной властью. Особенно сейчас, когда организовали свою банковскую систему – общественную кассу взаимопомощи. Хотя налоги платим, правда, в основном на зарплату. Говорят, мол, чёрная касса, новая пирамида. Хотя это добавка к зарплате людей.
– Всегда буду помнить слова матери – великой труженицы, чтобы я не обижал людей, – объяснялся директор. – Но не всё зависит от меня.
Собрания людей в последнее время меня угнетали. Но сейчас между нами не было преград настороженности.
– Собираетесь объявить независимую республику?
– Что вы! – засмеялся директор. – Хотим, как все нормальные люди, не от государства отделиться, а от духа наживы. Без города нам нельзя. Модернизация может быть только оттуда.
– Разве это возможно в отдельном районе?
Директор усмехнулся.
– Конечно. Мы тут сами много сделали. Не пускаем хищное строительство. Только экологичное. Отказались от услуг ЖКХ: поставили котлы для обогрева в каждом доме, колонки горячей воды. Перестали платить этим разгильдяям.
– Наняли врачей, теперь не надо ждать очереди в городской поликлинике, – сказала Эльнара. – У нас домашняя медицина, теплее, чем в городе. Хотя по сложным делам приходится ездить в Федеральный медицинский центр.
– Свободно говорим на местной радиостанции, – добавил писатель. – Правда, как и в других регионах, прессу не любят. Нашего редактора избили, сейчас в больнице.
Писатель вздохнул.
– Наши дружинники нашли злодея, но так и не определили заказчика. Есть, конечно, полиция, но толку от неё мало.
Оказывается, местная добровольная дружина самообороны, защищавшая бизнес от мафии, набрала такую силу, что вызвала недружелюбие власти.
– Народные мстители отсюда?
– Это о пацанах, которые расстреливали ментов? Нет, они из города, у нас таких нет. Мы поставляем в город актёров, художников, бардов. Почему-то они произрастают только здесь. Место, где Бог целует в темечко. В наших дворцах культуры, которые ставят такие спектакли, что артистов выманивают в центральные театры.
– Так что, пока победили у себя коррупцию, – засмеялся директор. – Путем самоорганизации. Вот только с ней у нас трудно. Никто не хочет быть начальником.
– Бесклассовое общество?
– Что вы! Просто никто не хочет руководить. Трудно избрать председателя, привыкли жить сами по себе. Вот, только Светлана не отказалась.
Я был удивлён. Вот как! Сам начальник Черёмушек сопровождает меня.
Олег был восхищён.
– И что, власть это терпит?
– Ещё как! Собирается разогнать наше самоуправление. Но прицепиться не к чему. Выполняем обязанности граждан, не бунтуем. Демонстрацию организовали мирную.
Мы знали, что молчаливую силу непротивления давно хотели приручить власти. Основное её преступление – отказ от услуг государства, крупных сетей бизнеса.
Олег, оживлённый, с весёлым взглядом, чувствовал себя, как на Тайной Вечере, развесил какие-то графики и стал излагать план захвата власти структурами самоуправления.
– Вот здесь, друзья, план взятия демократией власти в городе.
Он рассказывал, как надо завоёвывать большинство – сначала в местных органах самоуправления, потом в блоках самой власти, обозначенных в графиках. Это была гениальная идея поступательного и неизбежного захвата, открывающего неопределённо волнующие новые просторы.
Слушали сдержанно. Я всегда подозревал в людях глубины, которые не видел в них, внешне обычных. Сильно выпивший после работы представитель оппозиции – взлохмаченный абориген из малочисленных народов, вылезал вперёд и косноязычно требовал немедленно пойти крушить чиновников.
– Садитесь! – обрезал его Олег. – Помолчите, если напились.
– А что дальше? – качали головами местные.
– Как что? Свобода от притеснений чиновников.
– Ну и что? Этого мы и так почти добились. Только во что выльется ваша свобода?
– В свободу предпринимательства.
Его волновала тёмная волнующая бездна раскрывающегося индивидуализма.
– Это уже есть. Хотите, чтобы и у нас было дикое неравенство? Мы уж как-нибудь сами.
Олег нетерпеливо отмахнулся.
– Равенства не бывает. Человек должен научиться опираться на свои силы. Развивать свои таланты, быть победителем. Хватит патернализма!
Гурьянов давно хотел высказаться. Здесь он был как рыба в воде, имел союзников.
– Это мы дадим подлинную свободу! Она в справедливости, в общей цели, где не бывает, чтобы каждый за себя.
– И это видели. Общая цель тоже была.
Олег, игнорируя Гурьянова, как дегустатор, пробовал вино писателя из винной груши.
– Действительно, как итальянское. Там не пьют марочное, а только местное, у каждой провинции своё. Ваше ни на что не похоже, очень своеобразное.
Я предлагал свою комплексную систему объединения всех наших сил на всероссийском уровне. Подбираем на конкурсах лучшие предприятия и организации, вплоть до научных, оздоровительных, и даже уфологических, по всему краю и вне его, выделяем их знаками экологической чистоты, и во главе с муниципалитетом вкладываем все силы на конкретную территорию – Черёмушки. Цель – создание экологически чистого района, лучшего в стране, и, может быть, в мире!
Как ни странно, моя программа прошла на ура, как сама собой разумеющаяся, – они строили такую же систему, только в местных масштабах.
Обсуждали возможность поддержки Черёмушек в правительстве, а также в агитационной пропаганде, в прессе. Олег обещал не оставить их наедине с подбирающейся к ним властью края.
– Вы только здесь в открытую не лезьте, – попросил директор. – Могут что угодно. Наступает новая волна борьбы с преступностью, то есть передела экономики.
Вечером мы сидели с Олегом и Гурьяновым в номере гостиницы.
В окно влезала сирень, манящая в её сине-розовую глубину. Я томился от желания выйти из номера, идти куда-то по уютной аллее со Светланой, под густыми ветвями садов, и целоваться.
Они спорили о давнем и непримиримом, полулёжа на кровати с рюмками в руках. Олег превозносил главную нравственную ценность – семью. Гурьянов возражал:
– Если главной ценностью сделать семью, то единственное средство содержать её – обогащение.
– А это плохо?
– Эгоизм семьи – плохо.
– Свобода личности – в свободе семьи.
– Короче, плевать на остальных. Это ваше клеймо всем знакомо. Вы летали на комфортабельном самолёте олигарха по стране, веселясь и агитируя! – Гурьянов поправил платочек в кармашке пиджака, у него было мирное настроение. – По какому праву опять агитируете провинцию?
Я снисходительно вмешался:
– Вы злитесь на молодость. Ребята были молодые, оторвались по полной. Дело не в этом.
Олег, возлегая на подушке, отвечал жизнерадостным тоном, непонятно, в шутку или всерьёз.
– Кстати, я не был в том самолёте. И мы вроде союзники. Делаем одно и то же.
У Гурьянова была выгодная позиция – не участвовал «в разрушении либералами страны».
– Нищий народ вас ещё тогда возненавидел!
Я поддразнил Олега:
– Это правда, сейчас стыдно быть богатым.
Олег вздохнул.
– Мы никогда не сойдёмся. Это неподвижное подсознание, о чём бы ни спорили. Есть два разных типа людей, два разных мира. Один всхлипывает от счастья при виде грохочущих танков по площади на военных парадах, или парадах физкультурников с голоногими рядами гимнасток в трусах – скрытой формой тоталитарной сексуальности типа «секса у нас нет». Другой – счастлив, когда соборность не подавляет его свободу. Время ещё не пришло, чтобы народ осознал свои свободы. Слава богу, что вам теперь не загнать провинцию на обочину цивилизации.
Что-то мне не нравилось в самодовольстве Олега. С тех пор, как он оказался на виду, в опасное время становления партии, когда приходилось работать под топором критики и недоброжелательства большинства населения, у него определились и окостенели убеждения, и он сейчас не хотел понимать точку зрения противника. В отличие от него, я пережил становление моей организации без внимания власти и общества, так как наши цели были для них безопасными, и не мог обозлиться. Но мне он был ближе.
– В демократии тоже есть недостатки, коренные, – подзуживал я Олега. – Её законы работают по правилам гильотины, а не по любви. Да, они спасают от своеволия, но не дают тепла. Меня поражает отсутствие нравственности у либералов.
Гурьянов подхватил:
– Да, оголтелая бессердечность к народу. То, из-за чего вас осудил народ. Мы восстановим дух всеобщего братства! Как было в советское время.
Когда-то он служил в войсках специального назначения, и полюбил армейское братство – единую семью, не знающую сомнений. «Приказ получен – цель обретена!», и как уютно быть влитым в общее дело, в весёлом смертельном риске поиска врага. Индивидуалисты-либералы разрушали это братство, были для него как предатели, готовые отдать страну врагу. И не мог простить либеральной власти сдачу Крыма. Подсознательное пронзало: отдали, гады!
– В провинции копится такая ненависть, который сметёт и нынешнюю власть, и породивших её либералов!
Мне почему-то претили такие, как Гурьянов. Откуда они берутся? Он меня слушал внимательно, соглашался, когда я доказывал ему исторически очевидное, но потом словно забывал новые резоны и возвращался к своему обычному занудству, гнул своё – его убеждённость ничем не выбить. Я забывал, что и сам упёртый, и вообще это человеческое свойство.
– Твое время ушло! – жёстко сказал Олег. – Знаю, что здесь готовится что-то. Не то, что ты хотел бы.
– Нет, не ушло. Мы тоже не хотим вернуть старое. Но вас повесим за ваш девиз: «Если у тебя нет миллиона – иди в жопу!»
Олег схватил стакан в руке Гурьянова.
– Пьёшь нашу либеральную водку – отдай стакан! И вон с моей кровати!
Тот чинно встал, поправил платочек в кармашке пиджака и, уходя, мстительно произнёс, как заклятие:
- Одиссеей, новой жизнью рождённой,
- Эта ярость челюскинцев в яркости льда,
- И внезапные слёзы старух поражённых
- Непонятным – из мирового родства.
Олег, ещё уязвленный, лёг на постель и отвернулся.
– А ты тоже… Почему не поддержал? Наш ли ты на самом деле?
Я сказал, почему-то недовольный собой:
– Ты же знаешь. Для меня политика – большой театр, и всё зависит от таланта актёров. Но почему-то всегда игроки средненькие. И злые.
– Но без политики ты не можешь осуществить свои утопические проекты. Для этого нужна другая система.
Почему не могу всерьёз принимать эти споры, взаимное раздражение Олега и Гурьянова? Или примкнуть к одной из партий? Словно нахожусь в какой-то чёрной дыре рока, куда человек ввергнут без надежды на избавление, и только всеобщая близость и сострадание людей и каждого друг к другу поможет пережить этот рок, и даже ощутить иллюзию бессмертия. Из той метафизической неудовлетворённости, действительно страшной, шумные демонстрации протеста кажутся мне мелкими, недостойными подлинной трагедии существования. Разве может победа тех, кто считает своих противников врагами, сделать нас счастливыми? Только осознание подлинной трагедии человеческой судьбы может придать смысл действию.
Именно это я почувствовал в жителях Черёмушек, – стойкость перед трагедией, роком их судеб. У нас с моей Беатриче есть родство. Она, с провинциальным ожиданием чуда, кажется значительней, чем суета вокруг.
Вечером мы со Светланой ходили по дорожкам в тени садов, заглядывая в окна, порхавшие синим светом телевизионных экранов, и во мне не было прежней неудовлетворённости. Эта ночь со светящимся небом в огромных необычных звёздах, эти таинственные сады казались податливыми до исчезновения. Подлинно всё: и охота внезапная – выкрасить дом, или землю вскопать. Где этот чистый источник запрятан древних порывов – свободно желать?
Я прочитал ей подправленные стихи, не называя автора, как бы только что сочинённые мной:
- Что краше звёзд? Что звёзд закатных выше?
- Молчи, молчи, о том не говори!
- Там, в доме на окраине, под крышей —
- Окно, горящее не от одной зари.
Она слушала как-то странно, я заметил, с влажными глазами.
Она говорила о себе мало. Дед её был независимым – от него её характер. Из-за чего отсидел в лагере. Рассказывал, как их вели колонной, и какой-то пацан пренебрежительно бросил ему пряник, твёрдый как камень. Ничего слаще не грыз. В детстве уехали от репрессий в глушь, на окраину, где нельзя найти. Здесь был приют каторжников, беженцев. Дед добровольно пошёл на войну, погиб под Сталинградом. От голода умерла его дочь, сестра мамы. Отец в детстве, после войны, убежал в детдом, и вернулся сюда, на новую родину. Здесь и умер. Училась случайно, не до того было. С трудом институт экономики закончила.
– Вот, как будто о моём отце написано. Из книжки стихов, которую нашла на помойке. Называется «Детский дом».
И прочитала строчки:
- И во мне был ужас – детской раны,
- Когда боль сиротства в нас скулит.
- Но всегда был связан с миром ранним
- Рода, что спасёт и сохранит.
- Что же было в год послевоенный?
- Мой побег из дома – в никуда,
- Чтоб в семье хватило хлеба – ели,
- И не умирали никогда.
- И детдом – жестокий мир и взрослый
- Дал мне выжить, смерти вопреки.
- Время нас не бросило в сиротство,
- Пусть и кто-то отнимал пайки.
– Кто он такой, этот поэт? Не нашла в Интернете. Сгинул, наверное, в безвестности.
Что-то есть в ней такое, о чём не хотела говорить. Я осторожно спросил:
– У тебя проблемы? С этим… замминистра?
Она глянула с нарочитым удивлением.
– Что ты… Хотя он меня ревнует. Не даёт проходу.
И повернула на другое.
– Как всегда, влипаю в историю. Послала в Комитет против коррупции заявление нашей экологической организации – как власти отняли у противотуберкулёзного санатория место в низине с целебным воздухом, и какие там построили для себя дворцы. Туда, кстати, он звал меня жить. Люди стали меня избегать, боятся за себя. Омоновцы берут меня уже на подходе к демонстрации. Если бы не наша народная дружина… Видишь, не только я тебя, но и меня берегут.
– Так серьёзно?
– Так.
Я вдруг понял, о чём предупреждал меня незаметный защитник лесов. Это было очень опасно. Потому что боялись, как огня, Антикоррупционного комитета, куда она послала своё заявление. У него неслыханные полномочия, мог привлекать к ответственности самостоятельно, даже по простому подозрению, – внедрялся опыт подобного комитета в Гонконге, который ликвидировал за три года коррупцию, бушевавшую десятки лет.
Видимо, здесь противостояние приняло характер войны. Я почувствовал, что моё убеждение о чёрной дыре рока, куда мы все ввергнуты, не работает. Чтобы это пережить, нужно просто действовать.
Мы как-то незаметно оказались у её дома.
У окон тихо прошелестела и остановилась машина. Мы притаились за углом. Раздался стук в её дверь.
– Светлана, открой.
Она приложила палец к губам.
– Открой, говорю!
Снова раздался настойчивый стук. Дверь загрохотала.
– У тебя кто-то есть? Убью его! Открой!
Со стороны смотреть на бьющегося в дверь бугая было бы смешно, если бы не так жутко.
– Что тебе, Тимур? – отозвалась из темноты Светлана. – Мы же обо всём переговорили. Всё кончено.
Она прошептала:
– Уходи. Он не отстанет. Я с ним сама разберусь.
Я скрывал под самообладанием холодок детского ужаса.
– Я сам с ним разберусь! – громко сказал я.
Тот шумно повернул к нам.
– Уходи, – шёпотом закричала она. – Мне он ничего не сделает, но будет только хуже.
– Я тебя ему не отдам!
Я схватил её за руку и утащил в какую-то аллею.
Вечер был испорчен. Выждав, когда, по моим расчётам, Тимур мог уехать, мы расстались холодно.
Руководство Форума составило программу развлечений, чтобы у гостей осталось обаяние от пребывания в обновляющемся крае. В программу входила посадка саженцев кедра во дворе новенькой школы, по методу незаметного, крестьянского вида, защитника лесов. Утром отвезли в школу-дворец – гордость города. Раздали белые перчатки и лопаты. Ямки были готовы, и в них уже лежали саженцы. Под руководством воспрянувшего защитника лесов мы прикопали саженцы. Это мыслилось как возрождение традиции субботников. Наш писатель счастливо суетился возле одетых в нарядную форму учеников, раздавал им свою голубую книжку об их удивительном крае.
Потом, согласно программе, повезли на праздник дня МВД, где нас приветствовали фанфарами. Увидели небольшое представление: плотные ряды омоновцев с закрытыми, как у рыцарей, лицами в шлемах, с дубинками оттесняли от местного Белого дома демонстрантов, жгущих машины и бьющих стекла. Омоновцы вежливо брали их под руки и предупредительно уводили в автозаки.
Наверное, желая показать в сравнении настоящую глубину патриотизма и ничтожность нападок оппозиционеров (или Светлана упросила Тимура, замминистра?), делегации были отправлены на автобусах в места Сталинградской битвы.
Яркое солнце за окнами автобуса породнило нас в общей радости. Как точен солнца жар в окно автобуса для сотворенья близости души! И мир уже становится не глобусом – иным в ресницах радужно дрожит.
Я сидел рядом с моей Беатриче. С другой стороны уселся замминистра, Тимур, хотя руководство ехало в автомобилях впереди. Светлана, чувствуя его дыхание, отчуждённо отодвигалась от него, и он не смотрел на неё. Лишь изредка энергично комментировал увиденное за окном.
От качки автобуса мы со Светланой наваливались друг на друга, и я, имитируя сдерживание, оказывался чуть ли не в её объятиях. Она дурачилась, пела дурным голосом, а я незаметно держал ладонь на её голом колене, пользуясь тем, что она отвлеклась, и она не снимала руку. Замминистра изредка косился на нас.
Она показала в окне на широкую излучину реки.
– Вот здесь плыли ладьи Степана Разина. Говорят, здесь он бросил в воду персидскую княжну. А вон утёс, где Степан думал свою думу о народном счастье. Есть на Во-о-лге утёс… Я там бывала. Странное чувство на его вершине, где ветер шевелит ковыль. О чём он думал? Наверняка, не о награбленном. Народ хочет видеть его таким, а не убийцей.
– Ну, ну, – сказал замминистра. Оказывается, прислушивался к нам. – Это не там было.
Она не отвечала. Мы покачивались, прижимаясь друг к другу.
Ехали долго, несколько часов, вдоль великой реки. Олег читал из книги нашего писателя с тёплой надписью автора, приглашая насладиться своим восторгом.
– «Крольчиха Краля отчего-то упала замертво… Отыскав чёрный холм земли, где хозяева закопали картонную коробку с прахом Крали, Пулька садилась, и, задрав лисью мордочку кверху, жалобно поскуливала. Хозяева только руками разводили: «Какое доброе сердце у нашей Пульки!».
Автобус веселился и аплодировал.
Не заметили, как проехали через заново отстроенный приволжский город к ровной, как от вулкана, искусственной горе с бетонными нагромождениями. На вершине открылись обрезанные окном машины могучие ноги статуи.
– Мамаев курган! – скомандовал замминистра. – Родина-мать!
Увидели огромную – в каменном балахоне ветров – женщину с мечом в небе, с голой грудью.
– Вот оно, выражение удовлетворения мести – вглядываясь, фыркнул Олег. – Бездарная сталинская классика античности.
Директор агрохолдинга как-то безучастно скользнул по нему взглядом.
– В детстве, помню, играли здесь с пацанами. Задевали осколки и кости. На каждом метре.
– Бедный наш народ, – вздохнул Олег. – Положил себя ради укрепления режима.
Меня впечатлила искусственная торжественность скорби.
Высадились, разминая ноги в слепящем солнечном свете. Замминистра широким жестом пригласил нас в кафе «Блиндаж», незаметно прячущийся под бугром. В подвале по стенам – фронтовые листовки с карикатурами на фашистов, гармошка, в углу на стойке плащ-палатка и каска.
Буфетчица в форме старшего лейтенанта Красной армии налила в алюминиевые кружки по сто граммов «фронтовых». Мы уселись за грубый деревянный столик в углу, официантка в гимнастёрке и кирзовых сапогах принесла в алюминиевых мисках гречневую кашу, чёрный хлеб и сало.
Гурьянов, надевший медали по этому случаю, негодовал:
– Это кощунство!
– Зато оригинально, – развеселилась Светлана.
Замминистра поднял алюминиевую кружку.
– За мир между нами!
– Наступают последние дни новой Сталинградской битвы! – провозгласил Гурьянов, подняв свою кружку.
Замминистра засмеялся и чокнулся с ним, и они приняли свои «сто фронтовых».
Выпили, слушая песню, проникновенно льющуюся из старинной чёрной тарелки радио: «Тём-ная ночь. Только ветер свистит по степи…»
Странное видение – глубинного младенчества, поблескивающего кручения пластинки: я сидел на крашеном деревянном полу комнаты, окружённый тёмной бездной, откуда доносилась грозная поступь военной песни.
Олег рассказал слышанный им здесь анекдот.
– Пьяный в постели гладил женщину, хватал за груди. Проснулся: ба! да это же родина-мать!
Никто не засмеялся.
Мы приняли по сто граммов «фронтовых» несколько раз, и, наконец, вышли в ослепительный холодок яркого дня.
Замминистра Тимур пьяно коснулся меня плечом и вполголоса проговорил:
– Вы разрушители. Приехали, и давай топтать. Не жалко.
Я ревниво отстал от Светланы – к ней привязался Тимур, они снова спорили о чём-то. Услышал только: «Переезжай ко мне».
Застывшие монументы, кладбище-мемориал и бесчисленные обелиски с выбитыми золотом именами.
Светлана, одна, молча стояла на дорожке среди могил. Здесь не было её деда, она говорила, что его косточки остались где-то. Я не смел подойти к ней.
Прошли внутрь горы-вулкана, в музей. Торжественно-тихая музыка, собранные на полях экспонаты, панорама битвы вдоль поднимающейся вверх пешеходной ленты, чёткий молчаливый караул – не отображали всего страшного, что случилось здесь. Мешало стремление гордиться победой, целиком для настоящего, которое пытаются настроить на нечто патриотическое – для всех. Что это? Когда страшное отделилось и стало ореолом гордости, исключительности нации? Ненавистью к разрушителям экзистенциальной опоры?
- Снова старый полёт и величье,
- И напыщенный дикторский текст,
- Вновь парад – эпохой мистичной
- Перед нами, нетронут, протек.
- Как же это укоренилось!
- И как страшно – разбить тот покой
- Возносящего марша, хранимого
- Со времён ясной веры простой.
- Этот крепкий орешек натуры
- Не разбить – до иных катастроф.
- Я и сам в непонятной натуге
- Облачён в тот бездумный покров.
- Что там? Наше детство летящее
- Самолётиком красным складным,
- В портах кранами, грозно звенящими,
- И тяжёлым покоем страны.
Я думал о вселившемся в человечество безумии, и упёртых погибавших людях здесь, забывших о своей особости, в которых самоё нутро едино восстало перед насилием.
Что это было на самом деле, так страшно открывшееся дно внешне благополучной жизни? Что совершалось в теплящих живое людях, каждый шаг которых означал смерть? Чувствовали ли себя подлинным единым народом, вставшим за родину, а не только за жизнь близких? Или инстинкт загнанных в угол – умереть или победить? Или страх перед режимом, косящим огнём заградотрядов тех, кто отступал?
– Народ теперь стал другим. – Я вздрогнул от весёлого голоса Олега над ухом. – Для нас тот народ кажется уже странным, несовременным.
Гурьянов в тон ему подхватил:
– Нам, размытым в нечто частное, обособленное в своих гнёздах, готовое убежать из страны. Кому всё равно, что будет.
Светлана – она уже подошла ко мне – вспыхнула.
– Ничего не другие! Мы те же, это станет ясно, в последний день.
Возможно, эта битва – изнанка самой жизни в крайнем открытом проявлении, цена бессмертия, то, что потеряно нами. Неужели мы можем быть людьми только на краю бездны?
Что будет дальше? Наверное, померкнет эта боль победы, как померкло Куликово поле и другие, и будут новые попытки найти подлинный народ, новое бессмертие.
А родина-мать кружилась над нами в балахоне ветров, угрожая кому-то грозно летящим мечом в поднятой руке, как богиня Кали.
Форум заканчивался скандально. Подготовленные программы и предложения большинством не были приняты.
– Как же так? – вдруг растерялся замминистра. – Мы же отметили недостатки, наметили верные ориентиры. Что ещё надо?
– Правды! – кричал Гурьянов, дежуря у микрофона в зале.
– Вы не можете придумать ничего нового, – поднимаясь в позе победителя, бесстрастно констатировал Олег. – Исчерпали себя. Это должно быть делом нового поколения реформаторов.
Замминистра боролся за свою должность, как за судьбу. Словно кроме карьеры ему ничего не светило – больше не умел ничего.
– Вы приезжие! Думаете, я не знаю, что подбиваете Черёмушки на противоправные действия? Вовлекли мою жену.
– Я тебе не жена, – крикнула Светлана, сидящая рядом со мной, и покраснела. Я ревниво смотрел на неё.
Олег, терпеливо выждав, когда закончится выплеск негодования, непринуждённо продолжал:
– Мы создали в Черёмушках общественный филиал антикоррупционного комитета, будем требовать ему полномочий. Круговая порука чиновников должна быть побеждена.
Снаружи за изгородью щитов омоновцев в шлемах рыцарей колыхалось море людей с плакатами. Кто-то кинул в омоновцев камень, и щиты зашевелились. Странно, люди в руках держали крышки от кастрюль. Светлана объяснила:
– Комплект посуды – защита от дубинок. Но кухонные ножи – ни-ни!
Она сказала мне:
– Завтра акция. Я должна быть с ними.
– Возьмёшь меня? – спросил Олег.
– Зачем это? Вы здесь посторонние.
Заканчивалась моя командировка. Вечером мы со Светланой подошли к её дому, с резными наличниками окон, как у других.
Встретила согнувшаяся старушка, суетливо открыла двери, поставила на стол самовар и удалилась в глубину комнат, к себе.