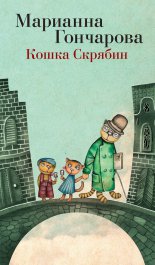Дар мертвеца Тодд Чарлз
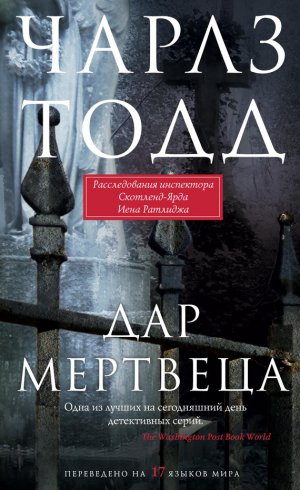
Legacy of the Dead
Copyright © 2000 by Charles Todd
«Дар мертвеца»
© Перевод, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014
© Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014
© Издание на русском языке, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014
* * *
Глава 1
Глазго, 1916 г.
Две молодые женщины, сидевшие в двуколке, испуганно прижимались друг к другу и, опасливо озираясь по сторонам, разглядывали грязную узкую улочку. В канаве храпел старый пьяница. По сторонам улицы тянулись высокие многоквартирные дома, уродливые, унылые, обветшалые. Ничто не радовало глаз, повсюду отчаяние, мрак и нищета.
– Какое ужасное место! – воскликнула одна из них, чуть постарше на вид.
– Вы совершенно уверены, что нам нужно именно сюда? Как-то не верится, чтобы здесь… – Девушка, правившая двуколкой, растерянно смолкла и опустила вожжи.
Вместо ответа ее спутница достала из сумочки помятый лист бумаги, разгладила его и в очередной раз прочла адрес. Губы у нее дрожали, ее всю трясло и мутило.
– Смотрите сами. Ах… – Листок выскользнул из пальцев. Ей удалось схватить его в самый последний миг, иначе он упал бы в вонючую сточную канаву.
И улица, и дом были те самые, в поисках которых они больше часа колесили по городу.
Тишину нарушал только шелест дождя, где-то вдали просвистел паровоз. Лошадь терпеливо переминалась с ноги на ногу.
– Пожалуйста, не забудьте, – еле слышно продолжала старшая путешественница, – меня зовут миссис Кук. А вас – Сара. У мамы была экономка, которую звали миссис Кук. И швея по имени Сара. Так мне будет легче… – Она посмотрела на дом. – Какое жуткое, Богом забытое место!
– Для меня главное – помнить, как вас сейчас зовут. Но я уже привыкла – ведь я так обращаюсь к вам целый день. Миссис Кук… Не бойтесь так, пожалуйста… а то вы себя до болезни доведете!
– Да. – «Миссис Кук» сбросила намокшую накидку, прикрывавшую колени.
Лошадь фыркнула и помотала головой.
Наконец «миссис Кук» сжала руку своей спутницы:
– Сара, пора… Надо идти.
Путешественницы с трудом спустились на мостовую. Две прилично одетые молодые женщины выглядели здесь совершенно неуместно, и обе это прекрасно понимали. От сточных канав тянуло нечистотами, из открытых окон и дверей пахло переваренной капустой и дымом. От грязных мокрых мостовых шел пар… Миазмы большого города.
Они поднялись на крыльцо. Им пришлось переступить через старую газету и бурую, совершенно размокшую мешковину, под дождем превратившуюся в кашу. Они открыли дверь и увидели перед собой темный туннель. Грязная, заваленная всякой дрянью прихожая показалась молодым женщинам дорогой в ад.
Квартира, которую они искали, находилась за второй дверью слева; на двери они увидели грязную карточку с едва различимой надписью «Номер третий». Они робко постучали, кто-то крикнул: «Войдите!» Они очутились в пустой комнате с высоким потолком, но без окон, в которой стояло с полдюжины поломанных стульев. Здесь было сыро, пахло табачным дымом и пивным перегаром, на их придирчивый взгляд, это помещение много лет не убирали.
Еще одна дверь вела в смежную комнату, из-за двери доносился плач.
Женщина постарше схватила свою спутницу за руку и прошептала:
– Фи… то есть Сара… меня сейчас стошнит!
– Нет, вам это только кажется… от страха. Не бойтесь… Вот, посидите. – «Сара» быстро придвинула своей спутнице самый лучший стул, а потом выбрала сиденье для себя. Стул сильно шатался.
Трудно сказать, в какой цвет были когда-то выкрашены стены и потолок в комнате – краска облупилась, сыпалась на пол, отчего казалось, что пол в комнате пятнистый. Старый коричневый ковер посередине казался таким же безнадежно унылым, как и вся обстановка.
Старшая из двух женщин снова задрожала:
– Я не просто боюсь… я в ужасе!
– Все будет хорошо… вот погодите, сами увидите. – То была ложь во спасение, что прекрасно понимали обе женщины.
Некоторое время они молча сидели рядом, держась за руки. За стеной по-прежнему кто-то плакал, над головой раздавались шум и грохот, как будто двигали мебель. Обе вздрогнули, когда услышали из коридора грубый мужской голос.
Минуты тянулись томительно медленно. Женщины не сводили взгляда с двери, ведущей в смежную комнату. Так прошло полчаса. «Сара» неожиданно для себя пожалела о том, что дверь все не открывается, хотя и боялась того, что ждало их там. Они уже так долго сидели в «номере третьем» – почему же никто не вышел и не заговорил с ними? Им велено было приехать ровно к двум…
Почему плач не прекращается?!
Неожиданно спутница «Сары» встала.
– Нет, не могу! – заплетающимся языком произнесла она еле слышно, но ей самой показалось, что ее голос прозвучал оглушительно громко.
– Надо! Ведь если вы… не доведете дело до конца, он вас убьет!
– Лучше я сама себя убью. Ах, господи, я не могу до конца жизни вспоминать это жуткое место, просто не могу… Зря мы сюда приехали… Я хочу домой! Сара… отвезите меня домой, ради всего святого, отвезите меня домой!
«Сара» сочувственно посмотрела на спутницу и спросила:
– Вы уверены? Нам не придется возвращаться сюда? Во второй раз мне вряд ли удастся взять двуколку, не возбудив ничьих подозрений.
– Нет… поскорее отвезите меня домой!
«Миссис Кук» била дрожь, она была подавлена: выходит, в конце концов ей не хватило духу пройти через этот ужас. Спутница положила руку ей на плечо. Едва они вышли в коридор, «миссис Кук» вырвало, несколько минут она стояла, скрючившись от боли. Ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание от слабости и упадет. Голова кружилась, всхлипывая, она прижалась лбом к грязной стене, радуясь, что она такая прохладная.
Из-за других дверей доносились слегка приглушенные голоса, потом они услышали детский плач и грубую брань. Какая-то женщина фальшивя напевала грустную песенку, мяукала кошка, где-то звенела посуда. Издали доносились глухие удары, как будто кто-то выбивал ковер. К счастью, в коридор никто не вышел. И все же могли выйти… в любую минуту…
– Вы сможете дойти до двуколки? – тихо спросила «Сара».
– Попробую… я должна дойти… – Женщина постарше с усилием выпрямилась и вытерла губы платком. – Жаль, что я вообще сюда приехала… жаль, что узнала о таком месте и увидела его! Если бы я умерла, как… я смотрела бы ему в глаза с таким грехом на душе?
– Он бы понял. Обязательно понял. Вот что отличало его… бедного… от других.
– Да. – Они взялись за руки, поддерживая друг друга, и медленно зашагали прочь из этого ужасного места. Но едва они достигли двери, она вдруг распахнулась, и в коридор ввалился мужчина, от которого разило потом и пивом. Увидев их, он сначала многозначительно ухмыльнулся, а затем принялся пожирать их взглядом. Должно быть, здешние жильцы знали, что происходит в «номере третьем». «Сара» невольно вспыхнула от смущения. Но мужчина придержал для них дверь и пропустил, не причинив им беспокойства.
На то, чтобы забраться в двуколку, у женщины постарше ушли все силы. Она почти упала на сиденье, неловко завалилась на бок и уцепилась за край двуколки. «Сара» бережно укрыла ее ноги накидкой и посмотрела с сочувствием.
Что им делать? Что же им теперь делать?!
Она села рядом, но, вспомнив, что забыла отвязать лошадь, снова спустилась на землю. На улице показались прохожие, шлепая по лужам, они спешили мимо. Головы у всех были опущены. Трое детей, грязные и тощие, бежали куда-то по своим делам, но остановились поглазеть на нее. Они сразу увидели, что две женщины здесь чужие. Внезапный порыв ветра взметнул юбки «Сары», у мужчины, шедшего по улице, с головы сорвало шляпу, и та волчком покатилась по улице. Дождь усилился, торопясь влезть в двуколку, «Сара» больно ударилась ногой о колесо. Готовая расплакаться, она взяла поводья и велела лошади:
– Ну, пошла!
Возвращаться туда, откуда они приехали, пришлось очень долго. Они замерзли, вымокли и проголодались. Время от времени «Сара» косилась на свою спутницу. Она заметила, что та тихо плачет, закрыв глаза и прикусив нижнюю губу.
«Не знаю, что бы я сама чувствовала на ее месте, – подумала «Сара». – Она боится… Сердце у нее разбито… Ничего, я что-нибудь придумаю. Помоги мне, Господи, я должна что-то придумать! Во второй раз мы сюда уже не приедем. У нас просто не хватит сил!»
До места назначения они добрались почти к ночи. Небольшой городок окутала мгла, было тихо, только где-то вдали лаяла собака, шелестел ветер, огибая церковную колокольню и надгробные плиты на кладбище, – он будто сообщал мертвецам последние новости, подумала «Сара», направляя старую лошадь к конюшне.
«Я так устала, что мне мерещится всякая чертовщина», – устало подумала женщина.
Она в сотый раз покосилась на свою спутницу. Глаза ее по-прежнему были закрыты, но она не спала.
– Приехали, – негромко сказала «Сара», стараясь не на пугать женщину. Они могли бы отдохнуть в каком-нибудь пабе или гостинице, где останавливались путники попри личнее, но боялись, что их увидят, узнают. И кто-то непременно задумается, почему они возвращаются из Глазго, где им совсем не положено находиться.
– Да. – Спутница «Сары» открыла глаза, увидела кладбище и вздрогнула. Холодные белые надгробные плиты как будто тыкали в нее пальцами. – Я жалею, что тоже не умерла!
Глядя на тропинку между плитами и представляя себя на месте «миссис Кук», молодая женщина с бесконечной грустью прошептала:
– И я.
Глава 2
Данкаррик, 1919 г.
Письма начали приходить в середине июня, в каждом из них было всего по нескольку слов, нацарапанных паршивыми чернилами на дешевой бумаге.
Фиона так и не узнала, кто получил первое письмо. Точнее, вначале она долго не понимала, почему жители городка вдруг так переменились к ней. Неожиданно ее соседки стали уходить в дом, не окончив вешать белье или обрезать кусты, стоило ей выйти в огород. С ней перестали дружелюбно здороваться через забор. Никто не приносил цветы для украшения общего зала, никто не угощал ее мальчика сладостями. Встретившись с ней на улице, местные жители отворачивались. Не здоровались, столкнувшись в магазине. И посетителей в баре было все меньше. Завсегдатаи, прежде часто заходившие выпить кружку пива и просиживавшие в общем зале до ночи, отворачивались и быстро проходили мимо «Разбойников». Такая перемена пугала Фиону. Она не понимала, в чем дело, никто ничего ей не объяснял. Вот уже в сотый раз Фиона пожалела о том, что ее тетки нет в живых.
Алистер Маккинстри, молодой констебль, изумленно покачал головой, когда Фиона спросила у него, что она сделала дурного и чем обидела местных жителей.
– Наверное, я допустила ошибку в чем-то, – продолжала она. – Произошло недоразумение… А может, не выполнила какое-то обещание… Но какое? Сколько ни думаю, ничего такого не могу за собой вспомнить!
Маккинстри тоже замечал, как переглядываются жители Данкаррика за спиной Фионы.
– Не знаю. При мне ничего такого не говорят… От меня как будто тоже отгородились.
Маккинстри криво улыбнулся. Многие в Данкаррике знали, какие чувства он к ней испытывает.
– Фиона, наверняка дело пустяковое. На вашем месте я бы не принимал это близко к сердцу.
Его слова совсем не утешили ее. Она уже приняла случившееся близко к сердцу и гадала, за что местные жители так ополчились против нее. Что плохого она им сделала?
В первое воскресенье июля старуха, которая всегда сидела в церкви в самом последнем ряду, злобно зашипела на Фиону, увидев, как они с мальчиком направляются на свое привычное место. И хотя за звуками гимна она не разобрала слов, по губам поняла, что старуха обозвала ее распутницей. Фиона покраснела, а старуха злорадно ухмыльнулась беззубым ртом. Она хотела сделать ей больно, и ей это удалось.
За бойкотом последовали открытые угрозы.
В то утро священник читал проповедь о Руфи и Марии Магдалине. Доброй, честной женщине, которая не отходила от свекрови, и распутнице, чьи грехи простил Христос.
Священник, мистер Эллиот, не скрывал, кому бы он отдал предпочтение на месте Христа. Его грубый, громкий голос чеканил: «Порядочные женщины – драгоценность в глазах Господа. Скромность – вот их отличительная черта. Такие женщины знают свое место, и души их неподвластны греху». Простить грешницу способен только сам Христос, по его же мнению, она не заслуживает спасения.
«Похоже, мистер Эллиот считает, что лучше Всевышнего знает, как надо поступать с грешниками, – подумала Фиона. – Его бы воля, он бы приказал побивать их камнями!» В подобных вопросах взгляды у священника были вполне ветхозаветные. Фионе так и не удалось проникнуться теплыми чувствами к недоброжелательному, самодовольному пастырю. За все три года, что она прожила в Данкаррике, ей не удалось обнаружить в мистере Эллиоте ни грана великодушия или сострадания. Даже когда умирала ее тетка, мистер Эллиот не давал тяжелобольной женщине покоя. Он все допытывался, во всех ли грехах она покаялась и все ли были прощены. Напоминал ей о демонах и адском пламени. Поняв, что он не способен дать умирающей утешение, Фиона выставила его за дверь. Сидя в церкви, она вдруг подумала: наверное, этого ей мистер Эллиот так и не простил.
Священник все больше распалялся, и Фиона то и дело ловила на себе осуждающие взгляды, которые бросались украдкой. Она знала, о чем думают ее соседи. Мистер Эллиот намекал на то, что в Данкаррике есть своя Мария Магдалина, своя распутница. Но почему? Из-за ребенка?
Фиона ничего не понимала. Когда она переехала жить в Данкаррик, соседям сообщили, что она вдова, ее мужа убили на войне. Даже тетка, стойкая сторонница приличий, крепко обняла ее и заплакала. Потом она повела ее знакомиться с соседями, не переставая причитать, как жаль, что мальчик растет без отца, и недобрым словом поминала бои во Франции, унесшие жизни стольких добрых людей.
Фиона была не единственной молодой вдовой в Данкаррике. Почему же именно ее выбрали для порицания? Почему все вдруг, к тому же без объяснения, так озлобились против нее? С 1914 года она ни разу не взглянула на другого мужчину. Ей не нужен был никто другой на месте того единственного, которого она навсегда потеряла.
На следующее утро местная прачка миссис Тернбулл остановила ее у входа в мясную лавку, потрясла перед ее лицом каким-то конвертом и осведомилась, как ей хватает наглости разгуливать среди добропорядочных людей, подвергая опасности их души.
Фиона выхватила письмо из красных дрожащих пальцев прачки, достала из конверта листок бумаги и прочла:
«Вы стираете ее вещи? Простыни, замаранные ее грехами, покрывала, которых касалась ее мерзкая плоть? Подумайте о своей душе!»
Письмо не было подписано…
От изумления и ужаса сердце Фионы замерло в груди. Она перечитала письмо, и ее замутило. Миссис Тернбулл злорадно смотрела на нее в упор. Ей как будто доставляло наслаждение причинять Фионе боль.
– Мои вещи вы не стираете… – начала Фиона, но тут же сообразила, что это не имеет никакого значения.
Кто мог такое написать?
Сколько злобы! Откровенная злоба ошеломила молодую женщину.
«…простыни, замаранные ее грехами… ее мерзкая плоть…»
Правда, нигде не указывалось ее имени…
Тогда почему миссис Тернбулл решила, что автор письма имеет в виду Фиону? С чего она взяла, что упомянутая грешница – именно Фиона? Потому что Фиона не прожила в Данкаррике всю жизнь? Потому что ее тетка умерла и ей приходится одной управляться в пабе, без компаньонки, без дуэньи? Как будто ей нужна дуэнья! Может быть, здесь считают, что неприлично порядочной молодой женщине самой стоять за стойкой? После войны дела шли не очень хорошо, и они не могли себе позволить нанять помощника…
– Какая ерунда… и сколько злобы! – воскликнула Фиона. – Откуда это у вас?
– Оно лежало у моей двери, под ковриком, – злорадно ответила миссис Тернбулл. – Кстати, я не первая получила такое письмо… И не последняя! Вот погодите – и увидите!
«Не первая… И не последняя…» Значит, были и другие письма! Фиона ничего не могла понять. Неужели все, кто отвернулся от нее, получили такие же злобные анонимные послания? Но как они могли поверить? Почему никто не пришел к ней, не спросил, правду ли пишут в письмах… А ведь многие соседки были ее приятельницами…
Прачка выхватила у Фионы письмо и зашагала прочь, всем своим видом выражая превосходство. Она была недалекая женщина, известная религиозным фанатизмом. Вот почему она набралась смелости и выплеснула на Фиону свой гнев. И страх.
Подобно старухе, сидевшей в последнем ряду в церкви, миссис Тернбулл выразила общее настроение толпы.
В конце июля к Фионе пожаловал страж порядка. Констебль Маккинстри неловко переминался на крыльце с ноги на ногу и покраснел – в форме ему было жарко.
– Не закрывайте дверь перед моим носом, – умиротворяюще начал он. – Я пришел спросить вас… кое-о чем… Речь пойдет о вашем мальчике. Ходят… кхм… в общем, ходят слухи, и я не знаю, что делать.
Фиона вздохнула:
– Входите. Я видела одно из писем. Во всех написано одно и то же, да? Что я – падшая женщина?
Констебль быстро посмотрел по сторонам и, все еще не переступив порога, тихо сказал:
– Те письма – настоящая мерзость, вот что. Мне недавно показали несколько штук. Вряд ли вам захочется знать, что в них написано. Трусливые… без подписи… написаны с целью жестоко оскорбить. Помяните мое слово, их писала женщина, женщина, которой больше нечем заняться, кроме как будоражить всех своими измышлениями.
– Алистер, похоже, все мои соседи верят тому, что написано в письмах. Не знаю, как положить этому конец. Люди шепчутся у меня за спиной… наверное… но никто не подошел ко мне и не спросил прямо. Со мной никто не разговаривает, я как будто стала невидимкой.
– По-моему, вам лучше просто переждать. Ничего не предпринимайте. Пройдет неделя-другая, и все постепенно успокоится. – Маккинстри откашлялся. – Я пришел к вам не из-за писем… точнее, не совсем из-за писем. Фиона… в городе ходят слухи, что мальчик… не ваш.
– Не мой? – Она нахмурилась и посмотрела на него в упор. – Если я падшая женщина, как он может быть не моим? Ведь меня, кажется, обвиняют именно в распутстве!
– Повторяю, я пришел не из-за писем. Меня не волнует злобная чепуха, которая в них написана. Нет, меня к вам привело другое дело. Оно настолько серьезно, что им занимается полиция. – Маккинстри замялся, подыскивая нужные слова, ему было очень не по себе. – Есть подозрение, что… одним словом… что вы забрали чужого ребенка… а его мать убили.
Он увидел ужас в ее глазах. Фиона смертельно побледнела.
– Я вам не верю! – прошептала она. – Нет, не может быть… Снова злобные сплетни!
– Фиона, – взмолился Алистер, – меня прислал сюда мистер Робсон! Учтите, я не хотел идти. Он сказал: «Действуйте без шума. У вас получится лучше». Но я не знаю, как приступить к делу…
Мистер Робсон был главным констеблем – начальником местной полиции. Значит, все в самом деле очень серьезно.
Неожиданно Фиона сообразила, что они так и стоят в дверях, где их могут увидеть соседи.
– Входите. В пабе никого. Сюда больше никто не заходит.
Фиона провела Маккинстри по проходу, ведущему в жилое крыло, пристроенное сто лет назад. Она поселилась здесь незадолго до смерти тетки. И сама управлялась со всеми делами с того времени, как тетка заболела, и до того, как в июне к ней перестали ходить.
Констебль шел за ней, любуясь ее осанкой и тонкой талией. Думая о том, что ему предстоит, он с трудом преодолевал отвращение. Он снял фуражку и тяжело вздохнул. Его сапоги грохотали по деревянному полу. Казалось, что воротник мундира слишком тесен ему и душит.
В комнатке, служившей ей гостиной, Фиона жестом указала констеблю на лучшее кресло.
– Я никому не сделала ничего плохого, – сказала она. – И обвинять меня в таком преступлении – настоящее безумие!
– Откровенно говоря, мне и самому не по душе то, что у нас сейчас творится! – Констебль отвернулся и посмотрел на часы, уютно тикавшие в углу. Садиться ему не хотелось, но и стоять столбом было неловко. Он обязан сделать то, ради чего его сюда прислали. – Говорят, что… – У него перехватило горло.
– Что говорят? Не бойтесь, досказывайте остальное!
Маккинстри густо покраснел:
– …будто вы не были замужем. Что ваше имя не миссис Маклауд, поскольку замуж вы не выходили. – Констебль словно в омут кинулся, торопясь закончить неприятную обязанность: – Будьте добры, покажите ваше свидетельство о браке. Оно сразу прекратит все пересуды, больше мне ничего не нужно.
Фиона уже давно нравилась Алистеру Маккинстри. Ей даже казалось, что констебль влюблен в нее. Взглянув на него, она поняла – должно быть, это правда.
В гостиную вошла кошка, потерлась о его ноги, оставив на темной материи несколько волосков. Белые на синем. Фиона услышала мурлыканье. Кошка всегда выделяла Алистера. Если бы он сел в кресло, она бы тут же запрыгнула к нему на колени и с самым безмятежным видом понюхала бы его подбородок.
Фиона опомнилась. В конце концов, Маккинстри не просто мужчина. Он – полицейский.
– А кому какое дело, если я родила ребенка вне брака? – спросила она. – Я ведь никому не сделала ничего плохого. И не я первая любила, пока могла! Война косила без жалости – таких юных, что многие, умирая, звали матерей. От кого у меня ребенок – мое личное дело. Объясните, почему мы вдруг стали вызывать всеобщее внимание?
На его вопрос она не ответила, но ее слова были равносильны признанию. Алистер опечалился.
– В таком случае… – негромко продолжил он, – вам придется доказать, что мальчик ваш. Вы согласны пойти к врачу? Он осмотрит вас и даст заключение, рожали вы или нет…
Фиона посмотрела на него в упор. Она не отвечала, но по ее лицу он понял все. Помолчав, он продолжил:
– Если вы не рожали ребенка, откуда он у вас? Вот в чем вопрос, Фиона! Многие считают, что его мать похоронена где-то здесь, в пабе, – скорее всего, в погребе… Что вы убили ее, ребенка забрали, а ее похоронили там, где ее не найдут.
– В пабе?! – Она недоверчиво посмотрела на него. – Здесь? Да ведь я приехала в Данкаррик уже с мальчиком. Как я могла убить его мать, да еще похоронить ее здесь? Полная нелепость!
– Так и я им говорил. Объяснял, что тогда ваша тетка была жива и ни за что не стала бы участвовать в таком злодеянии. Но они не желают меня слушать.
– Кто такие эти «они», которые обвиняют меня? Я имею право знать!
– Мистер Эллиот видел несколько писем из тех, что присылали его прихожанам…
– И промолчал? Он ни разу не подошел ко мне, не спросил, правда ли там написана!
– Знаю, Фиона. Мистер Эллиот поступил неправильно, он должен был сделать выговор тем, кто обращает внимание на такие письма. Он ведь обладает некоторым влиянием…
– Я не хотела бы, чтобы он делал кому-то выговор… Он должен был объявить, что в письмах нет ни слова правды! И сказать мне, что сам он не верит наветам! Он должен был прийти ко мне, показать всем, что считает меня добропорядочной женщиной! Вот что стало бы для меня подлинным утешением, Алистер! А он, наоборот, отвернулся от меня!
– Согласен, Фиона… Но послушайте, три дня назад священник тоже получил письмо – его прислали по почте, а не подбросили на порог. Оно не похоже на другие. В нем вас не обвиняли, а, наоборот, пытались выгородить. В письме говорится, что вас нельзя считать… м-м-м… падшей женщиной, что вы ни разу не были замужем и у вас нет своих детей. Судя по всему, письмо писала женщина. Она, похоже, хотела развеять все слухи и пересуды. Она пишет, что, к сожалению, настоящая мать мальчика не может подтвердить ее слова. Мать умерла вскоре после родов, а вы забрали ребенка себе. Автор письма клянется, что не знает, где вы похоронили мать. И в конце утверждает – ваша тетка была обманута и в происходившем никакого участия не принимала.
Фиона сглотнула подступивший к горлу ком, который, казалось, вот-вот ее задушит. Стараясь говорить твердо, собрав всю свою волю, она спросила:
– То письмо… тоже не подписано, как остальные? Или его подписали?
– Нет. Написавшая письмо объяснила, что боится называть себя. Она держала язык за зубами ради вашей тетки, хотя точно знала, что Эласадж Маккаллум обманули. И еще она боится, что теперь на нее подадут в суд.
– А адрес есть? – спросила Фиона, затаив дыхание. – Откуда пришло письмо?
– На конверте стоит штемпель Глазго, но это отнюдь не означает, что письмо не написано кем-то из местных. Его ведь можно было отвезти в Глазго и бросить там в почтовый ящик, верно? Автор может жить в Ланарке… Инвернессе… – Констебль опустил голову и посмотрел на свои сапоги, поэтому не заметил, как изменилось выражение лица Фионы. Он нагнулся, собираясь погладить кошку, но передумал и, выпрямившись, с серьезным видом продолжил: – Мистер Эллиот пошел прямо к главному констеблю. Наш главный констебль не тот человек, который приветствует анонимные письма и всякие там слухи. Он велел инспектору Оливеру выяснить, в чем дело. Инспектор Оливер приказал мне зайти к вам и осмотреть дом… Фиона, я должен проверить, не проводились ли здесь за последние несколько лет какие-то работы… Может быть, где-то меняли фундамент, сносили стены, ремонтировали погреб…
– Никаких работ у нас не велось с самого четырнадцатого года, с начала войны. Питер, старик, которого моя тетка нанимала мастером, может подтвердить это…
– Он уже подтвердил. Его допрашивал инспектор Оливер. То же самое говорят ваши соседи. С другой стороны, мертвую женщину наверняка хоронили бы втайне. Вы ведь не сказали бы Питеру, если бы где-то здесь был спрятан труп. Да и тетке тоже – как утверждается в письме.
– Неправда! И… как-то глупо! Я приехала сюда с мальчиком… Подумайте, каким образом я привезла бы в Данкаррик его умершую мать? В дорожном сундуке? На задке экипажа? Притащила на плече? – с горечью спросила Фиона. Ей стало страшно.
Маккинстри поморщился:
– Мистер Робсон учел то, что вы сейчас говорите. По его мнению, мать могла прийти в себя после родов и захотела забрать мальчика. Она приехала сюда, а вы… сделали все, чтобы ребенок остался с вами. Я получил приказ…
– Теперь паб принадлежит мне. И я не допущу, чтобы его разносили на части в поисках трупа. Никаких мертвецов здесь нет!
– Фиона, я обязан провести обыск, иначе вместо меня пришлют другого констебля с ордером на обыск и топором. Пожалуйста, разрешите мне хотя бы обойти все помещения и собственными глазами убедиться в том, что искать у вас нечего!
– Нет!
Испугавшись ее крика, кошка сжалась и спряталась за тяжелыми шторами у бокового окна.
– Фиона…
– Нет!
Ему нелегко было убедить ее в том, что он – меньшее зло и ради своей же пользы она должна позволить ему обойти паб. Он осмотрит только те помещения, куда Фиона его пустит, и будет действовать крайне осторожно. Когда она наконец нехотя согласилась, Маккинстри мягко произнес:
– Извините. Мне так жаль!
Она сделала вид, что не слышит. С холодностью, какую он никогда раньше в ней не замечал, Фиона провела его по всему жилому крылу. Завела во все комнаты, даже в ту, где в кроватке спал мальчик, подложив руку под щеку. Потом они направились в старую часть дома. В свое время здесь хозяйничал ее двоюродный дед, потом тетка, а теперь вот она сама. Они осмотрели общий зал, бар, кухню, погреб и номера, приготовленные для проезжающих и жителей окрестных городков, которые останавливались здесь в базарные дни. Поднялись на чердак, где пыльный пол загромождали коробки и сундуки, осмотрели старую мебель, забытые детские вещи, из которых владельцы давно выросли, – словом, пожитки семьи, которая на протяжении многих поколений жила под этой крышей. Спустились в погреб, где на полках еще хранились вино, пиво и эль – никто не заходил его выпить. Кухня, кладовая, закуток бармена и погреб оказались почти пусты. Ни мешков с мукой или картошкой и луком, ни банок с мармеладом или заготовками овощей, выращенных на огороде.
Маккинстри старался осматривать все тщательно, но не обижая Фиону. Он осторожно простучал стены, потопал по половицам, заглядывал в трубы и выдвигал ящики в самых больших комодах и шкафах, открывал сундуки и принюхивался к их заплесневелому содержимому. Он старательно делал дело, не выдавая своего состояния, не позволяя страданию отражаться на лице.
Когда Алистер собрался уходить, она проводила его до крыльца и захлопнула дверь, не дав ему сказать спасибо и попрощаться.
Оставшись одна, Фиона прижалась лбом к тяжелой дубовой двери и закрыла глаза. Вскоре проснулся малыш и стал шепелявя напевать себе под нос песню шотландских горцев, которой его научила Фиона. Она велела себе встряхнуться и крикнула:
– Иду, милый!
Но прошла еще минута, прежде чем она начала подниматься по лестнице.
Неизвестно, что Алистер Маккинстри доложил начальству, но через две недели к ней снова пришли. Инспектор Оливер захватил с собой сержанта Янга и обоих констеблей – Маккинстри и Прингла. Инспектор показал ей ордер на обыск. По его словам, Маккинстри, боясь ее обидеть, забыл осмотреть надворные постройки.
Фиона, раздираемая страхом и отвращением, разрешила им искать где угодно и как угодно, захлопнула перед ними дверь и увела ребенка подальше.
Кости нашли в конюшне на заднем дворе, они были хорошо упрятаны между задней стеной и небольшим помещением, в котором раньше жил содержатель конюшни. Необычно толстый слой штукатурки в одном месте заметил инспектор Оливер. Он простучал то место молотком, понял, что там пустота, и постучал снова, с интересом наблюдая, как крошится штукатурка. Подозрительный по натуре, он зашел в пыльную комнатку по другую сторону стены и обнаружил, что встроенный шкаф не такой глубокий, как казалось снаружи.
После того как снесли перегородку, из-за нее выкатился череп, а затем и другие кости, запрятанные в длинное узкое место. Череп лежал на земляном полу и скалился, констебль Маккинстри с трудом удержался, чтобы не выругаться.
Судя по прядям длинных волос, сохранившихся на черепе, останки определенно принадлежали женщине.
Арестовали Фиону в конце августа.
Кости, найденные в конюшне, послужили поводом для нескольких новых версий. Инспектор Оливер старательно изучал прошлое Фионы, стараясь не упустить ни единой детали. Ему удалось кое-что выяснить, новые сведения подтверждали версию, которая казалась ему неопровержимой. Посовещавшись с главным констеблем, прокурор счел нужным возбудить уголовное дело по обвинению в убийстве.
Фиона нашла людей, которые согласились присмотреть за мальчиком, и с болью в сердце отправилась в тюрьму. Она точно не знала, кто ее враг и как ему или ей удалось так ловко накинуть петлю ей на шею. Одно было ясно. Кто-то очень хорошо подготовился и проделал все весьма искусно. Кому-то понадобилось ее убить, причем сделать это враг задумал руками представителей закона…
Кто-то ее очень сильно ненавидит.
Но кто?
Спросить можно лишь одну персону, но к ней Фиона ни за что не обратится за помощью. Даже если ей будет грозить виселица.
В свое время она дала слово и не могла его нарушить.
По ночам она плакала из-за мальчика. Она очень любила его и не стыдилась своих чувств. Что ему теперь скажут о женщине, которую он считал своей матерью? Кто позаботится о нем, кто защитит его, если ее не будет рядом?
Одиночество стало почти невыносимым. Одиночество и праздность. Фиона не привыкла целыми днями сидеть в тишине, когда нечем скоротать время, когда нет ни книги, ни швейной иглы. Еще в детстве, живя в доме деда, она много читала, шила или писала письма. Теперь ей некому писать. Где те многие, кто называли себя ее друзьями, кто привечал ее сначала ради тетки, а потом и ради нее самой? Никто из них не навестил ее, она не услышала ни слова ободрения. Фиона поняла, что все ее бросили. Она сожалела, что нет рядом тетки, которая утешила бы ее.
Ей прислали адвоката, но ему она не поверила. Глядя в его узкие глазки, она поняла, что с ним надо вести себя очень осторожно. Он не из тех, кто доверяет женщинам.
Глава 3
Лондон, 1919 г.
Стоя на дороге, он смотрел на кладбище за низкой каменной оградой, на пологом склоне холма. Ночью прошел дождь, мокрые надгробные плиты чернели в бледном утреннем свете.
Сердце у него билось учащенно. Надгробные плиты притягивали его как магнит. Неожиданно для себя он обнаружил, что пытается разобрать написанные на них имена, зная, что среди них должно быть одно знакомое. Потом он усилием воли заставил себя отвернуться и посмотрел на колокольню, еще окруженную низкими дождевыми облаками, и на высокие окна над дверью. Ему хотелось верить, что он находится перед церковью в Банкоме, в графстве Корнуолл, хотя он понимал, что это невозможно. Он пробовал убедить себя, что стоит рядом с французским кладбищем, но и это тоже было неправдой.
Его отвлекло какое-то движение, и вдруг в тени у церковной двери он увидел девушку. Обеими руками она несла большую охапку цветов. Когда девушка подошла поближе, он заметил, что она смотрит на него. Как будто ждала, что он окажется здесь. Как будто знала, что он в конце концов придет.
Он сразу узнал девушку, хотя лицо ее было скрыто в полумраке. В ее глазах читалось такое горе, что ему стало не по себе.
Придя в ужас, он хотел отвернуться, но не смог. Ноги словно приросли к месту, ее взгляд парализовал его.
Девушка приближалась к нему по дорожке. Что-то произнесла и показала рукой куда-то вбок, на могилу. Но никакого тела под холмиком бурой земли не было – это он понял сразу.
Она плакала, но ненависти в ее лице он не заметил. Ему показалось, что он сумел бы вынести от нее все, даже ненависть… но только не жалость.
Он зашагал ей навстречу – как будто по ее, а не по своей воле, она притягивала его. Он не мог оторвать взгляда от большой охапки цветов, которые она несла на могилу. Его тянуло к могиле. Девушка принесла так много цветов – они вдвоем должны были разложить их, прикрыть уродливую землю. Он отчетливо увидел могильный холм – голый, лишенный красоты, благодати и милосердия времени. Он быстро отвел глаза. Еще один шаг – и он прочтет имя на надгробной плите, но этого он уже не вынесет…
Иен Ратлидж проснулся резко, как от толчка, и хрипло выдохнул.
Он сидел на кровати, подтянув колени к груди, весь в поту, в ужасе, ошеломленный тяжелой, удушающей, ослепляющей чернотой, окружавшей его со всех сторон.
В отчаянии он поднес ладони к лицу, желая убрать вязкую черную грязь, облепившую его, и коснулся… нет, не жирной окопной грязи, а своей чистой кожи.
Удивленный, растерянный, он стал соображать. Если он не во Франции, то где? Похлопав вокруг себя руками, он нащупал простыню… подушку… Он в клинике?
Когда глаза привыкли к непроницаемому мраку, он сумел кое-как разглядеть очертания окружавших его предметов. Дверь… зеркало… столбик кровати…
Ратлидж выругался.
«Я спал! Спал дома, в своей постели… и видел сон…»
Прошло еще несколько минут, прежде чем живой, яркий сон поблек и ему удалось немного отдалиться от всепоглощающего ужаса, охватившего его во сне. У него в подсознании проснулся Хэмиш, заворочался, громко заворчал… Его ворчание напоминало раскаты грома… или канонаду… Хэмиш что-то говорил, хотя Ратлидж отказывался его слушать. Хэмиш снова и снова повторял одно и то же.
Нашарив спички, Ратлидж зажег свечу на столике рядом с кроватью, затем встал и включил свет. На высоком потолке замерцала голая лампочка, в темноте она казалась особенно яркой. Ратлидж радовался свету, который нес с собой ощущение реальности, прогоняя ночь и страшный сон.
Он загасил свечу пальцами, посмотрел на часы, лежавшие рядом с медным подсвечником. Без пяти три. Во Франции он часто засыпал, сжимая в руке огарок свечи. Незажженный – зажигать свечу в окопе было бы безумием – огарок служил символом света. И теперь, вернувшись домой, он по-прежнему держал свечу рядом с кроватью как талисман.
«Я в Лондоне, а не на фронте, и никакой земли у меня над головой нет…»
Он снова и снова повторял одно и то же, взывая к своему здравому смыслу.
Его окружают знакомые, привычные вещи: резной шкаф у двери в гостиную, зеркало – глядя в него, он по утрам завязывает галстук, кресло, в котором сиживал еще его отец, высокие столбики кровати – в ней он спит с детства, шторы винно-красного цвета – их ему помогала вешать сестра. Все такое родное и привычное! Мебель и вещи сохранились с довоенного времени, как и его квартира. Здесь он словно в крепости, которая защищает его от военного ада. Его квартира как будто обещала, что когда-нибудь он снова станет прежним.
«Я слишком много работаю», – подумал Ратлидж, прошел к окну между кроватью и высоким комодом, остановился у стола и раздвинул шторы. Над Лондоном нависли грозовые тучи – серые, нагоняющие тоску. Он отвернулся, и шторы снова сомкнулись. «Франс права, мне нужно отдохнуть. Я отдохну, и все прекратится».
Его сестра Франс выразилась вполне недвусмысленно: «Иен, вид у тебя ужасный! Ты устал, исхудал и по-прежнему совсем не похож на себя. Попроси у своего старикашки Боулса, чтобы дал тебе отпуск. С самого первого дня, как ты вернулся в Скотленд-Ярд, ты работаешь за десятерых, а ведь врачи ясно сказали…»