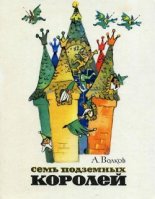Казус Кукоцкого Улицкая Людмила
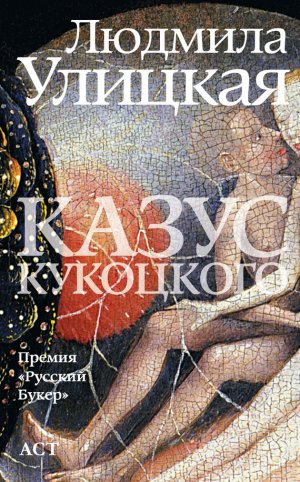
Потом она подмывала и вытирала бедную Елену, делала все это ловко и грубовато, как делают дешевые няньки в больницах. Елене было так стыдно, что она закрывала глаза и выключалась. Такое маленькое и легкое движение делала, оно называлось "меняздесьнет". Потом Тома толкала Елену перед собой, вела ее в спальню и укладывала. После чего звала Василису, и та садилась в ногах и принималась бормотать свое вечернее славословие – длинную скомканную молитву, слепленную из обрывков молитвенных формул, псалмов и собственных восклицаний, среди которых чаще всего поминалась "христианская кончина, мирная, безболезненная и непостыдная"...
Елена смотрела светлеющими от года к году ясными глазами, которые когда-то были синими, а теперь дымчато-серыми, из одной темноты в другую...
7
Про свои взаимоотношения с братьями Гольдбергами Таня могла сказать только одно: так получилось. Оба они были с детства влюблены в нее и мучительно соперничали. Таня оказалась тяжелым испытанием, которому подверглась их близнецовая связь – самые тесные кровные узы, возможные для людей: даже мать со своим ребенком в человеческом мире, где бессеменное зачатие приписывают лишь одной Марии из Назарета, по своему телесному составу не достигают такой близости, как однояйцевые близнецы. Об этом же говорила и Гольдбергова точная наука генетика.
Испытание братья Гольдберги с честью выдержали: по бессловесному соглашению в дом Кукоцких приходили они всегда вдвоем, звоня по телефону, объявляли: это мы, Гольдберги, хотя по техническим возможностям телефонии всегда говорил только один из них. Если звали Таню в театр или в кино, то непременно тащились вчетвером, с бесцветной Томой в виде принудительного приложения к Таниному убойному обаянию. О Тане они никогда между собой не говорили, разве что информативно или косвенно:
– В субботу пойдем к Кукоцким...
– Я билеты в театр купил на следующее воскресенье...
Тем и исчерпывалось все обсуждение.
Каждый из мальчиков в отдельности имел все основания быть нестерпимым ребенком с повышенным интеллектом и эгоцентрическим искривлением личности, но присутствие в их жизни Тани странным образом уравновешивало то опасное обстоятельство, что были они без пяти минут еврейскими вундеркиндами, с неистребимым и почти законным чувством превосходства над окружающими. Это "почти" несло в себе огромное содержание, в котором им и в горькие годы отрочества, и в более поздние годы предстояло разбираться. Таня им в этом здорово помогла. Кудрявая, веселая, совершенно не озабоченная тем, как относятся к ней окружающие, – вероятно потому, что имела множество доказательств любви к себе со всех сторон, – Таня была вне конкуренции, хотя бы по той причине, что училась двумя классами младше. Между ними было два года разницы в возрасте, и, помимо всего, она принадлежала иному, женскому миру, и хотя до пятнадцати лет была их выше, возможно, что и сильней, – и в голову не приходило мериться с ней в силе, – оба они готовы были подчиниться ей, служить и доставлять всяческие удовольствия, соответствующие возрасту... Мимоходом, махнув косым подолом клетчатой юбки, она, сама того не зная, упразднила строгую иерархию интеллекта, в которой верховное место занимал пока еще не развенчанный Илья Иосифович, потом братья, нос в нос, пристраивались ему в затылок, а все остальные особи располагались уже за ними. Только не Таня... Она была вне... справа или слева. Ее игра была, в сущности, не совсем честной, как если бы, играя в шахматы, она, не оповестив противника, меняла на ходу правила игры и выигрывала, сбросив чужие фигуры с поля звонким щелчком большого и среднего пальцев... Именно это больше всего восхищало в Тане братьев Гольдбергов – вовсе не русые кудряшки и бодрое бомканье на пианино... Иерархия интеллекта оказалась, таким образом, не единственной шкалой, по которой распределялись ценности...
Вкусы и предпочтения братьев были с раннего возраста схожими, но их мать знала чуть ли не с самого рождения, что один из них, Гена, родившийся двадцатью минутами позже, то есть, младший, посильнее плачет и погромче смеется. Желания его были более яркими и страхи более определенными. Во всяком случае, именно пятилетний Виталик, относительно старший, спрашивал у Гены:
– А какую кашу мы больше любим?
И Гена решал, что гречневую...
Поклонение Тане избавляло их до некоторой степени от комической роли вундеркиндов – высшее положение в иерархии они добровольно, но не вполне корректно, предоставили Тане. Школа в Малаховке не умела оценить дарований мальчиков – отличники и отличники. Простодушная Валентина, работавшая лаборанткой вплоть до пятьдесят третьего года, когда ее в пылу борьбы с космополитизмом сократили, за тяготами послевоенного существования, до самой своей ранней смерти так и не успела разглядеть талантов своих детей, а эгоцентрический отец сам происходил из породы вундеркиндов и потому рассматривал редкие способности мальчиков как нечто само собой разумеющееся. К тому же братья составляли друг для друга здоровую конкуренцию не только в отношении Тани, но также в физике, химии и математике. Тане, пожалуй, было интереснее общаться с Виталиком, поскольку он склонялся к медицине и у них было больше общих тем, но, по правде говоря, в качестве кавалеров ее гораздо больше устраивали посторонние мальчики, не обладающие столь исключительными знаниями в области естественных наук, зато умеющие ловко колотить ногами, отплясывая просочившийся сквозь поры "железного занавеса" рок-н-ролл...
Теперь, когда Илью Гольдберга арестовали, и он, в отличие от прежних лет, выглядел невинно пострадавшим героем – середина шестидесятых! – его сыновья засветили отраженным отцовским светом. Особенно после ночного избиения Витальки в подъезде...
Таня с Геной вышли из квартиры Кукоцких в начале двенадцатого. Гена знал, что Таня не живет дома, и в последний год они не встречались и даже не перезванивались. Таня бурлила состраданием к Витальке и желала немедленно принять участие в больничных бдениях. Гена впервые за многие годы оказался с Таней наедине, и неожиданно возникла какая-то совершенно новая конфигурация, в которой Виталька существовал отдельно, а они с Таней – вдвоем, в полном единении сочувствия и сострадания. Пока Виталька, опутанный трубками, с чисто наложенными вдоль скулы и на переносье швами, с капельницей и в гипсе, полудремал за стеклянной перегородкой бокса, Гена, ухватив за рукав синюю пехору, вел Таню к метро, уговаривая ехать ночевать на Профсоюзную, чтобы поутру, не теряя времени, сразу же и помчаться в Склиф...
Таня немного колебалась: обыкновенно она заранее предупреждала Козу, если собиралась ночевать не в мастерской. Телефона там не было. Таня мялась, Гена был настроен решительно... Вообще говоря, расставаться не хотелось, и Таня поехала на Профсоюзную, где прежде никогде не бывала...
Двухкомнатная квартира в блочной хрущевской пятиэтажке имела такой вид, как будто обыск закончился два часа тому назад. Приученная скорее к порядку, чем к чистоте, против негнущейся логики порядка, в сущности, и восставшая, два года мотающаяся по случайным домам и нашедшая себе приют в конце концов в мастерской, среди мелких железок, старых подрамников и груды поломанной мебели, Таня остолбенела перед вольной стихией исписанной бумаги, разлившейся по столам, стульям, спустившейся широкими волнами на пол... Среди бумаги были вытоптаны тропки, водопойная и пищевая, к столу и к ванной, на газетных листах, уложенных поверх исписанной бумаги, образованы были чайные поляны с компаниями бурых от заварки изнутри и грязных снаружи разновидных чашек. Мирные стада откормленных тараканов паслись на этих научных пажитях.
– Как же вы здесь живете? – изумилась ко всему привычная Таня.
– Нормально. Я-то в Обнинске по большей части. А отец с Виталькой здесь. Но в дом никого не пускаем, чтоб не пугались, – он сверкнул крупными, как белые фасолины, зубами. – В Малаховке еще хуже. А при жизни мамы был какой-то порядок. Как она его держала, не понимаю...
– Нет, нет, это невозможно, – Таня, еще не сняв пальто, прикидывала, с какого боку приниматься за уборку. – Начинаем с кухни, – объявила она.
Решение оказалось правильным. На кухне бумаг было поменьше, а обычная хозяйственная грязь не требовала такого пристального внимания, как мусор бумажный. Многослойные отложения с плиты откалывалась пластами, линолеум был помоечно-серого цвета, легко отмывался, благо что пачка стирального порошка нашлась в ванной. В комнатах дело пошло медленней – бумага желала быть прочитанной, и время от времени они застревали над каким-нибудь затейливым листом. Подвиг был посильней Гераклова: конский навоз можно было выбрасывать не глядя.
С двенадцати до половины пятого утра в четыре руки они весело убирались. Болтали, хохотали, вспоминали о каких-то детских тайнах, все было легко, и грязь стекала в канализацию, а бумаги укладывались по ящикам, и это тоже было довольно смешно – ящики письменного стола были совершенно пустыми. Делавшие замаскированный под грабеж обыск забрали только то, что было в столе, прочие бумаги, более позднего времени, мощными пластами лежащие на всех рабочих и нерабочих поверхностях, оставлены были нетронутыми...
– Странный характер у твоего братца, – объявила под конец Таня, – Илья Иосифович уже полгода как сидит, а он ни разу квартиру не убрал.
– Ты не понимаешь, это мемориальный уголок, квартира-музей...
В половине пятого из-под многослойной бумажной залежи обнажилась кушетка, покрытая пыльной попоной. Таня рухнула на нее, выбив собой облако пыли.
– Все. Спать, – скомандовала Таня, и Гена, превозмогавший в себе несколько часов разнообразные желания, от умильной нежности до самой скотской охоты, не заставил себя ждать...
Отдав весь боезапас молодого бойца, он, двое суток не спавший, провалился в сон, продолжая изумляться состоянию острой нежности и столь же острого скотства...
"Да откуда это чувство свинства, какой-то вины?" – успел подумать он, засыпая. И голос изнутри самого себя ответил ему строго:
– Так сестра же...
Таня ни о чем таком не думала: тот, с которым она спала в последнее время, был матерый геолог, неразборчивый до святости, с несметным количеством детей от буфетчиц и академических жен, был не хуже и не лучше этого милого, с детства любимого дружка. В самом постельном развлечении Таня особой прелести не видела и всегда удивлялась своим старшим подругам, чего они так из-за мужиков беснуются – в постели все равны... Она в ту пору еще не знала, что это не совсем так.
В Склиф они приехали не к девяти, как собирались, а к двенадцати. Сначала не смогли проснуться, потом Гена утверждал свои свежие права. Витальку к этому времени перевели из реанимации в общую палату – положение его улучшилось, он пришел в себя и умирать больше не собирался.
8
Прошел уже год с тех пор, как мутная пленка окончательно заволокла единственный Василисин глаз и сомкнулась тьма. Слепота, несчастье и ужасная угроза пожилых людей стала для нее освобождением от непрерывного труда.
Наступил законный отпуск, за которым ослепшая Василиса прозревала окончательное бессрочное и бескрайнее отдохновение. Ее постоянная деятельность, направленная вовне, обернулась теперь вовнутрь. Прежде она молилась на иконы. Их было несколько: темная Казанская, беглого ходеповского трехцветного письма, Илья Пророк, разрубленный глупым топором и склеенный грубо из двух половин, так что лик Пророка сохранился, а плаш, свисающий с колесницы, большей своей частью упал не в протянутые руки Елисея, а в виде щепы остался в деревенском храме и сгорел вместе с храмом. Был еще Серафим с плюшевым безухим мишкой и утопающий Петр в сдвинутом набок нимбе, протягивающий руку к идущему мимо и совсем в другую сторону Спасителю. И всех этих покровителей она теперь как будто лишилась. Она стояла на коленях на всегдашнем месте, на ковровой лысине, выбитой ее коленями, и пыталась восстановить их в памяти, но не могла. Темнота, обступившая ее, стояла равномерной стеной, вовсе без оттенков и без просветов. Так длилось довольно долго, и Василиса горевала – ей казалось, что молитва ее висит в душном воздухе около ее головы и не поднимается ни к господу, ни к божьей Матери, ни к святым божиим угодникам. Потом как будто стало прорезаться какое-то подобие шевелящегося свечного пламени. Оно было таким слабым и зыбким, что Василиса пугалась, не прелесть ли это ее воображения. Но она была так притягательна, эта светлая точка, так радовала, что Василиса звала ее внутренне и старалась подольше удерживать этот световой образ. И зыбкий свет рос, укреплялся, сиял, никому не видимый, в ее личной тьме, побуждая ее к непрестанной и почти бессловесной молитве. Молитва теперь была только о том, чтобы "пламечко", как она его называла, никуда от нее не отходило. Даже во сне молитва ее не покидала, а как будто дремала рядом, как старая Мурка, давно уже избравшая себе ночлег возле ее тощих холодных ног.
Василиса совсем уж было определила для себя новый, облегченный образ жизни, без обычных нескончаемых обязанностей – без закупок излишних, по ее пониманию, продуктов, без больших стирок почти что и не грязного белья, без корабельных больших уборок, а сохранила за собой одни только почти ритуальные обязанности утреннего умывания Елены и встречи с работы Павла Алексеевича. Большую часть дня проводила она в своем чулане, совершая тонкую медитативную работу, понятную одним лишь восточным монахам... Смесь молитвенного созерцания, спиритуального общения с настоятельницей, матушкой Анатолией, с которой она сблизилась последнее время благодаря слепоте больше, чем когда бы то ни было, и любовного воспоминания о всех живых и мертвых, близких и дальних, начиная от собственных родителей, приснопамятного Варсонофия, и кончая безымянными лицами давно умерших монахинь из Н-ского монастыря, – при свете маленького пламени, которое она научилась в себе раздувать, как уголь в печи...
Каждый день, принимая из Василисиных рук бедняцкий обед, совершенно не отличимый от того больничного, который приносила ему санитарка на работе, Павел Алексеевич укорял себя, что не может пересилить Василисиного упрямства – он был уверен, что у нее банальная катаракта, которую можно снять и хотя бы частично восстановить утраченное зрение. Он не был абстрактным профессором, не умеющим зажечь газовой горелки. Он мог сам подогреть обед, мог его и приготовить, но отказать Василисе Гавриловне в выполнении ее обязанностей он не мог, а принимать обслуживание слепой прислуги тоже было невозможно...
Он снова и снова говорил ей об операции. Однако Василиса об этом и слышать не хотела, ссылаясь на божью волю, которая все так ей определила... Павел Алексеевич сердился, не мог ее понять, пытался, пользуясь ее же логикой, убедить ее, что божья воля в том и заключается, чтобы врач, на то и призванный, чтобы оперировать ослепших, произвел над ней операцию и она снова бы увидела свет – пусть хоть во славу божью... Она мотала головой, и тогда он сердился еще более, обвинял ее в трусости, безграмотности и юродстве...
Всякий раз, выпив чуть больше обыкновенного, Павел Алексеевич заново приступал к Василисе. Но никакие доводы разума до нее не доходили. Как-то раз Тома, вовсе не сговариваясь с Павлом Алексеевичем, а просто-напросто втащив на пятый этаж (лифт в тот день не работал) огромный тюк постельного белья из прачечной и обессилев, случайно обронила единственно убедительные слова:
– Ты, тетя Вася, смотри, какая здоровенная, на тебе хоть воду вози, а все молишься... Сходила бы что ли со мной вместе...
Тома, несмотря на мизерность своего сложения, на самом деле тоже была из породы выносливых – целыми днями возилась со своими зелеными детками, упершись носом в землю, копала, полола без устали. Крестьянская кровь все-таки заговорила в ней: то, чего она не хотела делать для пошлой свеклы и моркови, делала с нежностью и страстью для рододендронов и шуазий.
Домашнюю работу, которой ей теперь приходилось заниматься все больше и больше, она никогда не любила, а теперь она еще и училась в вечернем техникуме и была действительно очень занята...
Упрек этот, сгоряча высказанный Томой, Василиса носила в себе целые сутки. Думала, как всегда, медленно и настойчиво, призвала мать Анатолию для помощи. Наконец воскресным вечером, после ужина, сообщила Павлу Алексеевичу, что согласна на операцию.
– Ты же не хотела, – удивился Павел Алексеевич. – Надо сначала окулисту тебя показать. Проконсультировать... Может, и не возьмутся...
– А чего не возьмутся? Я согласная. Пусть режут...
Противопоказаний к операции врачи не нашли. Спустя две недели Василису Гавриловну прооперировали в глазном институте на улице Горького. Зрение восстановилось до шестидесяти процентов, и Василиса вернулась к своей прежней хозяйственной жизни – снова ходила по магазинам, стояла в очередях, варила еду и стирала. Только походка ее осталась неуверенной, настороженной, она как будто несла хрупкую драгоценность – свой единственный прозревший глаз. Слова Павла Алексеевича о божьей воле, которая совершается руками врачей, достигли ее сердца. Хотя она прекрасно помнила всю операцию, произведенную под местным наркозом, начиная от первого, остро болезненного укола в самый глаз, до того момента, когда сняли повязку и она увидела людей, смутных и шатких, как деревья под ветром, ей постоянно вспоминался евангельский рассказ об исцелении слепорожденного, и врачебное копошение над ее онемевшим глазом она соединяла с прикосновением Спасителя к мертвому глазу того молодого слепца.
Никто из домашних не догадывался, как изменилось после прозрения отношение Василисы к самой себе – она исполнилась уважения к своему крепкому, навеки девственному телу, к мускулистым мослатым ногам и рукам и, в особенности, к невзрачному слезящемуся глазу, который взял да и прозрел. Тот внутренний свет, что светил ей во времена полной слепоты, ушел, и теперь, в возвращенной ей зрячести, она никак не могла его увидеть. Она тосковала об утраченном "пламечке", но пребывала в крепкой уверенности, что оно снова к ней вернется, когда временно воскресший глаз опять угаснет.
Обретя утраченное зрение, она поняла, в каком напрасном и бесплодном страхе за последний глаз прожила она большую часть своей жизни. Лишь потеряв остатки зрения, она освободилась от этого страха, а теперь, после операции, увидев божий свет заново, с новой и ясной силой уверовала не в бога – вера ее никогда не нуждалась в подтверждении, – а в любовь бога, направленную лично на нее, кривую, глупую и необразованную Василису. И она стала уважать эту самую Василису как объект личной божьей любви... Теперь она знала наверняка, что господь бог отличил ее из огромного людского множества...
Закралась даже совсем новая, диковинная мысль: что бог ее любит даже больше, чем других... Взять Таню – от рождения красивая, богатая, способная, а ведь ушла из дому, живет как бродяжка, по чужим углам, и не из нужды, а по своеволию... Или Павел Алексеевич, уж какой значительный, знаменитый, доктор из докторов, сколько детей извел, не сосчитать, в грехах по маковку. И пьет, как самый завалящий мужик, как брат покойный, царствие небесное... Про Елену и говорить нечего, уж ее-то жизнь как на ладони: и добрая, и тихая, и сердобольная, всех кошек жалела, а про Флотова-то забыла? Не на ее ли совести? За что ее бог так наказывает? Разума лишил, и чувства всякого. Живет, как животная...
Василиса и относилась теперь к Елене снисходительно, как к домашней скотине – покормить, почистить... И разговаривала с ней, как с кошкой – в воздух, невнятными словами одобрения или недовольства... Нет, и говорить тут было нечего – если кого и выделил господь, то именно ее, Василису. Сначала глаз отобрал, а потом вернул... Как еще понимать?
9
Таня ходила в больницу каждый день, помогала Витальке справляться со всеми его нуждами, от мытья до еды. Правая рука его была в гипсе, и с одной левой ему даже книжки читать было сложно – страницы трудно переворачивать... Он несколько преувеличивал свою немощь, позволял себе даже капризничать. Каждый день, с Викиной хозяйственной сумкой, так и не возвращенной, Таня ехала с Профсоюзной в Склифосовского. Друзья Гольдбергов нанесли кучу денег, и Таня переводила их в разные кулинарные изыски. Эти упражнения у плиты заменили ей полностью упражнения ювелирные. В мастерскую к Вике Таня заехала лишь однажды, забрала три пары трусов, шерстяные носки и записную книжку – все наличное имущество.
Каждую субботу приезжал из Обнинска Гена. Ужинали, выпивали бутылку грузинского вина, спали на продавленной костлявым старым Гольдбергом кушетке, ехали вместе в больницу к Витальке. Детская легкость их отношений смущала Гену: как будто они, пятилетние, качались на качелях или играли в жмурки, угадывая в темноте, прикасаясь к лицу и плечам, кто именно попался в случайные объятия... Природа предоставила их друг другу в пользование, и никаких лишних слов между ними не происходило...
Виталик пролежал в больнице полтора месяца. Травмы в конечном счете оказались не столь тяжелыми, сколь сложными. Разбитый нос восстановили, новый сделали ничем не хуже старого, сотрясение мозга тоже не было диковинкой, а вот со сломанным локтем пришлось повозиться. Сделали одну операцию, получилось не лучшим образом, образовался ложный сустав. Пришлось врачам идти на вторую операцию, после которой сустав вообще потерял подвижность. То ли профессионалы заплечных дел действительно знали, как похитрее ломать, то ли сказалась какая-то особая невезучесть Витальки.
Так или иначе, выписали его уже в конце зимы, и Таня торжественно перевезла его домой и даже устроила по этому поводу небольшую вечеринку для близких друзей. В очередную субботу приехал, как обычно, из Обнинска Гена. Виталик уже три дня как был дома. Переступив порог, Гена сразу же почуял, что место его занято. Он дико огорчился, но не удивился. Смотрел на Таню во все глаза – она не испытывала ни малейшего беспокойства. Пообедали втроем. На столе лежал толстый дрожжевой пирог, дыша теплом и домашним покоем. Таня ухаживала за Виталькой, как за ребенком, и Гена понял, что брату, кажется, повезло. Интересно было также, понимает ли он, что увел любовницу...
Между тем Таня вымыла посуду и объявила, что ночует сегодня дома:
– К тому же, вам, наверное, есть о чем поговорить и без меня...
Братьям действительно было о чем поговорить. Лабораторию, которой заведовал отец, закрыли, придираясь все к тем же мифическим финансовым нарушениям. Гольдбергу-старшему об этом сообщили в лагерь. Его волновало и будущее лаборатории, и сложности, которые неминуемо возникли у его сотрудников, и, в особенности, судьба Валентины, которую сразу же отчислили из лаборатории, лишили временной прописки в аспирантском общежитии и, протаскав безрезультатно по кабинетам ведомства, отправили обратно в Новосибирск, где места ей никакого уже не предложили. Письмо Гольдберга к сыновьям пришло несколько дней тому назад. Письмо содержало корявое и сильно запоздалое признание в любви к Валентине, жалостные фразы о любви к их покойной матери, а также стыдливо излагалось намерение жениться.
Разумеется, для молодых людей в сообщении этом не было ничего нового – о романе их отца знали все, но отец не считал нужным сообщить им что-либо до самой посадки. Скорее всего он вообще и не собирался на Валентине жениться, и сама эта мысль пришла ему в голову лишь в тюрьме. Свидания давали только женам, и, кажется, существовала юридическая возможность оформить брак в зоне. Именно в связи с этим Гольдберг и просил ребят связаться с адвокатом и узнать, как по-умному подойти к этому делу. Валентине он ничего не сообщает о своем намерении, пока не будет уверен, что этот брак теоретически возможен.
"Я не хотел бы причинять никому лишних беспокойств, но, дорогие мои, прошу вас взять все это выяснение на себя, поскольку В., человек крепкий и исключительно благородный, но все-таки женщина, и я совершенно уверен, что для нее поход к адвокату с этим вопросом будет непереносимо унизительным".
– Наша ровесница? – Виталик показал на письмо, которое Гена читал вслух.
– Кажется, года на два старше. Может, на три.
– Мачеха, – усмехнулся Виталий.
Виталик, еще не вполне освоивший свалившееся на него новое счастье, хотел было сообщить брату, что он и сам готов жениться, но удержал язык. Слишком долго, чуть ли не всю сознательную жизнь, они соперничали из-за Тани, чтобы вот так сразу объявить о своей ослепительной победе, означающей одновременно безусловное поражение другого. Ему даже было больно за брата, почти как за самого себя. Тонкий вопрос, почему это Таня предпочла его, пока что не занимал Виталика. Она оказалась неожиданным призом после всего, что ему пришлось претерпеть. Но, в конце концов, если для того, чтобы завоевать ее, надо было пройти и через большие испытания, он бы без колебаний согласился.
У Гены было преимущество первого, но он молчал. Наверное, Витальку не очень порадовало бы сообщение о том, что шесть субботних ночей, горячих праздничных ночей с субботы на воскресенье, его брат провел здесь с Таней...
О Тане они, как это было между ними принято, не говорили. Зато долго говорили об отце, о его бесконечной и такой старомодной наивности. И о его мужестве. И о его таланте. И о чести. И о том, как им повезло, что у них такой потрясающий отец.
А потом Гена совершил поступок старшего. На ночь глядя, поехал в Обнинск, сказавши брату, что у него на завтра назначена встреча с руководителем.
В одиннадцать часов, когда дверь за братом захлопнулась, Виталик немедленно набрал номер Кукоцких и даже приготовил фразочку из детства:
– Это мы, братья Гольдберги...
Тани, однако, дома не было. В тот вечер ее там и не бывало... Она сидела у Козы и сухо излагала близнецовую историю, которая произошла совершенно случайно и совершенно напрасно... Вика звонко хохотала, поминала Шекспира, Аристофана и Томаса Манна, а Таня, попивая грузинское вино, морщилась...
– Они мне как братья. Мы росли вместе. Я их обоих люблю.
Вика подняла круглое женственное плечо, раздула суховатые губы, вложила мягкие булки грудей, обтянутых розовым трикотажем, в жесткие, железного цвета ладони, покачала их на весу:
– Так обоих и возьми. Только одновременно. Это кайф. Таня посмотрела на нее серьезно, как на уроке матемавыбра тики:
– Знаешь, это мысль. Собственно, кайф сам по себе меня не особенно интересует. Но по крайней мере никому не будет обидно... И будет честно.
Вика зашлась от смеха.
В следующую субботу Гена из Обнинска не приехал. Таня с трудом дозвонилась до него. Он суховато сообщил ей, что сильно занят и в ближайшее время приехать не сможет. Она быстро собралась и поехала в Обнинск. Стояли последние мартовские морозы, и Таня окоченела еще в электричке. Она долго искала общежитие и нашла его уже к вечеру. Гену она застала в постели – он был сильно простужен и отлеживался, укрытый двумя одеялами и чьим-то старым пальто. В комнате было отчаянно холодно, на подоконнике пролитая вода свернулась ледовой коркой.
– Бедные, бедные мои мальчики, – бормотала Таня, отогревая руки у Гены на груди. Температура у него была под тридцать девять, и Тане казалось, что руки ее лежат на сковородке.
– Ты промерзла до самой середины, – засмеялся Гена, достигнув границ возможного.
– Да, – согласилась Таня. – Насквозь. Но ты очень горячий.
Постепенно их температура сравнялась.
Гена пошел в общественную кухню ставить чайник. Кипятильник у него был, но из-за большой нагрузки пробки вышибало. Все общежитие обогревалось плитками и рефлекторами.
Выпили чаю. Еды никакой не было, и купить ее было негде. Полупустые магазины давно были закрыты. Они еще раз погрелись друг о друга. Под утро Гена спросил Таню, не хочет ли она сделать выбор.
– Я уже сделала, – серьезно ответила Таня, – я выбрала братьев Гольдбергов.
– Нас двое.
– Это я знаю.
– Ну и что?
– Ничего. Я не вижу никакой разницы. Мне что ты, что Виталька... – Таня развела руками. – Вообще-то я отца вашего тоже очень люблю.
Гена привстал с подушки:
– Отца можешь оставить в покое. Он у нас жених.
– Да я ни на кого не претендую... Это же ты пристаешь с выбором. Впрочем, у тебя есть ход: можешь меня прогнать, – засмеялась Таня.
Он прижал ее голову к своему костлявому плечу, вспушил коротко стриженный затылок:
– Помнишь, как мы к вам в Звенигород приезжали? На речку ходили... На лодке катались... В бадминтон играли... А ты выросла и стала сучкой.
– Почему? – удивилась Таня. – Почему сучкой?
– Потому что тебе совершенно все равно, с кем трахаться.
Таня трепыхнулась, устраиваясь поудобнее:
– Мне не все равно. С некоторыми – никогда и ни за что. А с братьями Гольдбергами – пожалуйста.
– Я подумаю. Может, я уступлю тебя Витальке.
– Вот именно за благородство я и люблю братьев Гольдбергов, – хмыкнула Таня и заснула...
Гена еще что-то говорил и был глубоко изумлен, обнаружив, что Таня крепко спит. Простуда его удивительным образом прошла, он чувствовал себя совершенно здоровым и вполне несчастным. Говорить, судя по всему, надо было не с ней, а с братом. Только вот – о чем?
10
В тех же днях на имя Елены Георгиевны пришло странное письмо. Его вынула из почтового ящика Василиса вместе с газетами. Принесла Елене. Та взяла в руки официальный белый конверт со штампом, разбирать который она и не пыталась, и так, с нераспечатанным конвертом в руке просидела до самого вечера, пока не заглянул к ней в комнату Павел Алексеевич. Она протянула ему письмо:
– Вот. Пожалуйста... Конверт... Это Танечке...
Павел Алексеевич взял конверт. На нем стоял штамп "Инюрколлегия". На белесой бумаге бледными буквами было напечатано, что Инюрколлегия извещает о розыске наследников Флотова Антона Ивановича, скончавшегося девятого января шестьдесят третьего года в онкологической клинике города Буэнос-Айреса и завещавшего половину оставшегося после него имущества своей жене Флотовой Елене Георгиевне и дочери Флотовой Татьяне Антоновне. Инюрколлегия сообщает также, что сведения о перемене фамилии и удочерении получены из загса города В., и вызывает Елену Георгиевну на переговоры по поводу оформления наследства, а также для уточнения статуса наследника для ее дочери Татьяны Павловны Кукоцкой...
Павел Алексеевич положил письмо на стол и вышел. Известие было ошеломляющим. Судя по этому официальному, казенным слогом написанному письму, Антон Иванович Флотов вовсе не погиб во время войны, а неизвестным образом попал в Южную Америку и умер там спустя двадцать лет. Взволновала Павла Алексеевича не смерть этого неизвестного, имеющего к нему лишь косвенное отношение человека и тем более не сообщение о каком-то мифическом наследстве... Необходимость рассказать Тане о том, что ее родным отцом был другой человек, и рассказать именно теперь, когда их отношения и без того расклеились, тяжко навалилась на него.
В кабинете он сел за свой рабочий стол, позабыв на минуту, зачем пришел сюда. Пошарил автоматически руками на полке возле стола: руки лучше головы помнили о его нуждах, вытащил полбутылки водки и небольшой, "ваккуратный", как любил говорить, стакан и выпил. Через минуту пришла ясность. Сейчас он расскажет все Елене, а потом вызовет Таню, откроет ей тайну отцовства, и пусть она тогда решает, что ей делать с этим наследством. О Василисе, единственном, кроме Елены, человеке, который знал Флотова, он и не вспомнил. Отцовство его, когда-то такое счастливое, оканчивалось скучным и пошлым образом: нашелся настоящий отец, впрочем, мертвый, и опрокинул все это ложное положение. Сердце защемило, как палец в двери. Он поморщился и допил остатки.
Вернулся в спальню. Елена сидела в кресле, молодая Мурка урчала у нее на коленях, как приближающаяся электричка, и казалось, вот-вот загудит. При виде Павла Алексеевича Мурка замолчала и подвернула под себя распушенный хвост.
– Знаешь, Леночка, в этом письме содержится сообщение о смерти твоего первого мужа, Антона Ивановича Флотова. Судя по этому письму, он не погиб на фронте, а, видимо, попал в плен и потом оказался в Южной Америке... А умер он всего несколько месяцев тому назад...
Елена отозвалась живо и неожиданно:
– Да, да, конечно, эти огромные кактусы, эти колючки... я так и думала. Они опунции, да?
– Какие опунции? – насторожился Павел Алексеевич. Елена рассеянно повела рукой, смутилась:
– Ты ведь никому не скажешь? – О чем?
Она улыбнулась нестерпимо жалкой улыбкой и схватилась за кошку, как ребенок хватается за руку няньки:
– Они огромные, с колючками, на красноватой земле... И был всадник, то есть сначала он был без лошади... Теперь я думаю, что это был он...
– Это тебе не приснилось?
Она улыбнулась снисходительной улыбкой, как взрослый ребенку:
– Что ты, Пашенька! Уж скорее ты мне снишься. Елена давно не называла его "Пашенькой". Елена давно не говорила таким уверенным тоном. С тех пор, как случился с ней ее последний приступ, несомненный и долговременный абсанс, выключение сознания, отмеченное и ею самой, и окружающими, голос ее звучал нетвердо, интонация речи вопросительно-сомневающаяся. Значит, эти ее выпадения сопровождаются ощущением дереализации... Что это? Ложные воспоминания? Гипнагогические галлюцинации?
Он взял ее за руку:
– А где ты видела эти кактусы?
Она смутилась, встревожилась:
– Не знаю. Может быть, у Томочки...
Павел Алексеевич взял в руки письмо, еще раз пробежал его глазами. Почему при упоминании о смерти первого мужа она заговорила о кактусах? Никакой связи. Разве что упоминание о Буэнос-Айресе... Такой прихотливый ассоциативный ряд? И теперь она пытается скрыть это движение мысли, выставив на поверхность ложный аргумент? Хитрость сумасшедшего?
– Леночка, Тома терпеть не может кактусов. У нее нет ни одного кактуса. Где ты видела кактусы? Может, все-таки приснились?
Она еще ниже опустила голову, почти уткнулась в кошку, и он увидел, что она плачет.
Деточка, деточка, ну что ты? Ты о Флотове плачешь? Это все было так давно. И это ведь хорошо, хорошо, что он не был убит... Перестань же плакать, прошу тебя...
– Колючки... вот они, колючки... Нет, не во сне... Совсем не во сне... По-другому... Не могу сказать где...
Онейроидное помрачение сознания, может быть? Сновидный онейроид, так, кажется, называется это болезненное состояние? Надо уточнить в книгах по психиатрии. Самая зыбкая, самая расплывчатая из медицинских наук, психиатрия... Павел Алексеевич терялся перед болезнью своей жены, потому что не понимал ее. Расстройство самосознания... Какая-то особо злостная форма раннего склероза? Болезнь Альцгеймера? Пресенильная деменция? Где пределы этого заболевания... Но, так или иначе, сегодняшний день был из хороших: она реагировала, отвечала на вопросы. Почти полноценное общение.
– Вероятно, Флотов попал в плен и стал перемещенным лицом, тысячи русских солдат не вернулись на родину, ты же знаешь. Может, все это к лучшему. Если б вернулся, посадили бы... – говорил Павел Алексеевич незначащие слова только для того, чтобы речь ее не замкнулась, как это часто с ней бывало.
– Ах, нет, ты не понимаешь... Флотов был остзейский немец. Прадед его был из Кенигсберга, фон Флотов, у него много родни там оставалось. Скрывал он...
– Да что ты говоришь, Леночка? Это просто поразительно... Значит, и он был из виноватых? Во времена моей молодости все, кто меня окружал, ну, может, кроме нескольких идиотов или мерзавцев, знали, что за ними какая-то вина, и скрывались...
– Да, конечно. Я помню, как я впервые почувствовала это. Когда меня забрали родители от бабушки, из Москвы перевезли в колонию, под Сочи, весной двадцатого года. Я тогда увидела южную природу... И тогда же поняла, что мы, колонисты, каким-то плохим образом отличаемся от всех других людей... В общей столовой висел портрет Льва Николаевича. Маслом написанный, очень нескладный портрет, блестел голый лоб и развевалась борода, и рамка была кривая, меня это раздражало. И никто этого не замечал...
Павел Алексеевич слушал рассказ жены – связный подробный рассказ, с точными деталями. С анализом ситуации, критикой и способностью к осмыслению. Ни тени маразма. Ни о какой деменции и речи быть не может... Но почему два часа тому назад она сидела с кошкой и нераспечатанным конвертом, отвечала невпопад, миморечью, свойственной сумасшедшим, не контролировала самых простых движений, временами забывая, как держать ложку. Нет, не совсем забывала, но испытывала видимые затруднения в обращении с простейшими вещами. Не помнила, что ела на завтрак. И вообще, завтракала ли... Скорее эта картина напоминает псевдодеменцию. Мнимую утрату простейших навыков. Своеобразную игру сознания в прятки с самим собой... Нет, этой задачи мне никогда не разрешить. Может, Фрейда почитать. Покойная мать ездила году в двенадцатом в Вену, на психоаналитические сеансы к одному из учеников Фрейда. Как жаль, что я совершенно ничего об этом не знаю. Кажется, был у матери какой-то вид истерии... Павел Алексеевич поморщился: дура Василиса – настоящий его грех не в абортированных младенцах, двадцатиграммовых сгустках богатого потенциями белка, а в тупой непреклонности, с которой он отверг второй брак матери, вместе с нею самой, белесой красавицей, благородно старевшей и умершей в Ташкенте в сорок третьем году от глупой дизентерии.
Елена, с чуткостью нервнобольной заметив молниеносную нахмуренность Павла Алексеевича, замолчала.
– Да, да, Леночка. Рамка была кривая... Ну, рассказывай же дальше...
Но она замолкла, как будто выключили ток. Снова погрузила пальцы в Муркину шкуру, заряженную живым, чуть потрескивающим электричеством, и полностью оторвалась от беседы, от письма, послужившего косвенной причиной разговора, от Павла Алексеевича, которого только что называла "Пашенькой"... Снова на лице ее явственно проступило выражение лица "меняздесьнет".
Павел Алексеевич знал, что вернуть ее обратно он не сможет никакими силами. Она проснется к общению через неделю, через месяц, через год. Иногда такие просветы длятся часы, иногда – дни. И эти временные просветления совершенно выбивают его из колеи, потому что Елена становится самой собой и даже напоминает себя самое в те мифические времена, когда супружество их было полным и счастливым.
Так же было и в прошлый раз, три месяца тому назад, когда она с ним разговаривала о Тане, как будто проснувшись от болезни, и говорила горько, почти с отчаянием об отчуждении и потере, о пустоте и о мучительном бесчувствии, на нее нападающем, о неописуемой растерянности от неузнавания мира... а потом речь ее прервалась на полуслове, и она уткнулась в кошку.
"Всегда кошка, – пришло в голову Павлу Алексеевичу. – В следующий раз, когда она снова заговорит, выгоню кошку в коридор... Как странно, кошка как проводник в безумие..."
– Леночка, так мы с тобой говорили о Флотове...
– Да, большое спасибо... Мне ничего не надо... Да, все в полном порядке, прошу вас, не беспокойтесь... – лепетала Елена, обращаясь не то к Мурке, не то к кому-то еще, кто мнимо присутствовал в ее пыльной, неопрятной комнате.
11
Веснами Таня, как Александр Сергеевич Пушкин, плохо себя чувствовала: бессилие, усталость, постоянно липнущая простуда. На этот раз к обычному весеннему недомоганию прибавилась непреодолимая сонливость и отвращение к еде.
Жила она теперь на Профсоюзной, в квартире Гольдбергов. Витальку, как только у него закончился бюллетень, немедленно уволили по сокращению штатов. Он перебивался переводами. Как его отец в былые времена, он брал работу в нескольких реферативных журналах, обычно через подставных лиц, пытался писать статьи в популярные журналы, и дважды его маленькие заметки о новинках западной науки и техники были опубликованы в журнале "Химия и жизнь". Тоже по знакомству.
Таня, едва удерживая тошноту от кухонных запахов, готовила еду и спала по четырнадцать часов кряду. Иногда, восстав от спячки, собиралась в Обнинск – проведать Гену. Он заканчивал свою скоропалительную диссертацию, ждал с минуты на минуту какой-то неприятности от первого отдела, но за него стоял горой научный руководитель, друг старшего Гольдберга, физик и в прошлом, как и Гольдберг, зек. Однако, несмотря на все научные достижения и авторитет, руководитель был не царь и не бог, и до последней минуты неясно было, дадут ли Гене защититься...
Таня гуляла день-другой по апрельскому прозрачному лесу, подсвеченному разноцветными, готовыми раскрыться почками, потом пару раз приезжала уже в мае, посмотреть на юную зелень. От свежего воздуха она быстро уставала, засыпала крепким сном и не придавала особого значения тому, что пришедший из лаборатории Гена ложился с ней рядом. Это дружеское соитие имело не большее значение, чем их совместный завтрак, после которого он провожал ее на автобус и убегал в лабораторию...
Прожив в таком режиме месяца два, Таня спохватилась, произвела кое-какие женские расчеты, до которых никогда прежде не снисходила, и пришла к интересному заключению. Ничего подобного за пять лет постельной практики с ней не случалось, и открытие это поначалу ее ошеломило.
Среди подруг Вики-Козы постоянно обсуждались прикладные гинекологические проблемы, связанные с контрацепцией, абортами и их обезболиванием. Таня хранила при этом выражение такой полной незаинтересованности, словно была девственницей или старухой. Беременность оказалась для нее не радостью, не огорчением – интересным событием. Совершив открытие, она проспала почти сутки, во сне смирилась с этим занятным обстоятельством и объявила Витальке, который как раз попался под руку.
– Ах ты черт, – огорчился он. – Я, конечно, козел, но и ты хороша... Но ребенок, по теперешним обстоятельствам, – это уж слишком.
– Ты думаешь? – неожиданно для самой себя обиделась Таня, которая и сама еще не решила, как ей относиться к возможности появления ребенка. – Мне что, аборт делать?
Виталик молчал. Слишком долго.
– Кажется, я не хочу. – Виталькина долгая пауза оказалась решающей, потому что за минуту до этого Таня совершенно не знала, чего она хочет. – Да не нужен нам ребенок, – довольно решительно объявил Виталик. – И рука не совсем еще разгибается...
И тут Таня смертельно обиделась за своего будущего ребенка, вскинула свои рисунчатые брови и усмехнулась:
– Надо у Генки спросить. Может, он хочет?
Виталик, полагавший в глубине души, что Таня принадлежит главным образом ему, а Гену навещает по сложившейся традиции и по его, Виталика, молчаливому на это согласию – нечто вроде сексуальной благотворительности в пользу брата, – посмотрел на Таню обалделым взглядом: такого поворота он не ожидал. Ему как-то и в голову сначала не пришло, что предполагаемый ребенок может оказаться ему племянником...
– Послушай, а кто отец ребенка?
Взявшая себе за правило не скрывать мыслей и говорить правду, Таня улыбнулась чуть шире, чем обычно:
– Братья Гольдберги, Виталик. Братья Гольдберги. По теперешним обстоятельствам, мне кажется, вдвоем вам будет не так тяжело управиться.
Таня тут же, слова не сказав, начала собирать сумку. Виталик, так же слова не сказав, проводил ее на автобус, которым она обычно ездила в Обнинск.
Гена повел себя взвешанней и взрослей.
– Я полностью в твоем распоряжении, Танька. Единственное, что я не могу сейчас сделать, это уехать из Обнинска до конца этой чертовой работы. Во всем остальном – как тебе удобнее. Если хочешь, можешь сюда переехать, хотя бы до осени. Если хочешь расписаться, то сделаем это здесь, не в Москве.
– А почему не в Москве? – спросила Таня, ожидавшая какого-то подвоха.
– Два дня потеряю для работы. Я же говорю тебе, большая горячка.
– А-а, – удовлетворенно кивнула Таня.
О Витальке Гена не упомянул. И Тане это понравилось. Она была готова выйти замуж за одного из братьев Гольдбергов, и теперь выбор для Тани определился – Генка...
Однако все произошло не по-задуманному. Когда Таня через три дня вернулась из Обнинска, Виталик был озабочен новой обрушившейся на него проблемой: пришла повестка из военкомата... Ясно было, что наказывали таким образом Гольдберга-старшего.
Решение напрашивалось само собой – отсрочка от призыва лежала непосредственно в Танином животе. Надо было только поскорей расписаться и взять в консультации справку о беременности.
– Надо так надо. Какой разговор, Виталик? Только имей в виду, что в мужья я все-таки выбираю Генку.
Виталик улыбнулся криво:
– Ты хочешь сказать, что у нас с тобой будет фиктивный брак?
– Я так вопрос не ставлю. Но, если хочешь, назовем так.
Весь вечер они соревновались в остроумии, кто кому кем будет приходиться в результате этой матримониальной операции. Таня назначила Виталика отглагольным прилагательным, будущего ребенка полуплемянником, а их брак – Тройственным Союзом.
Нахохотавшись и поужинав, они легли спать все на той же выпирающей железными ребрами многострадальной кушетке и уснули в тесном объятии, совершенно не озабоченные некоторым нравственным неблагополучием, заметным взгляду стороннего наблюдателя, но никак не членам этой своеобразной семьи.
Назавтра сбегали в загс и подали заявление. Бракосочетание назначили на начало июля. В военкомат Виталик не пошел. Из соображений предосторожности решено было, что он уедет на время из Москвы. Он быстро собрался, набил сумку словарями и, прихватив половину немецкого учебника по клинической биохимии – один из сотрудников отца поделился с ним лакомым переводом, – уехал в Полтаву к тетке по материнской линии. Без звонка и предупреждения...
Рассчитано все оказалось безукоризненно. Через два дня после отъезда Виталика пришла еще одна повестка, а на следующий день, в семь часов утра загрохотали в дверь. Таня впустила в квартиру трех мужиков – двух военных и одного милиционера. Пришли забирать Витальку в армию.
– Хозяин в отъезде. Ничего не знаю. Кажется, на Урал уехал работу искать... – это было все, что им удалось извлечь из Тани.
После отъезда Виталика Таня полюбила свою беременность. Даже не ребенка, который должен был родиться, а именно это состояние наполненности, содержательности в буквальном смысле этого слова. Обычно невнимательная к своему здоровью, теперь она прислушивалась к малейшим пожеланиям организма, постановила себя баловать, делая все приятное и полезное. Пила по утрам сок, не магазинный, а собственноручно изготовленный, завела на окне производство кефира из какого-то особо целебного молочного грибка, несколько дней в неделю проводила в Обнинске, у Гены. Там она часами гуляла по лесу, нагуливая себе румяный загар, гемоглобин и приятную усталость. Сонливость сменилась токсикозом. По утрам она сосала кислую карамель, во второй половине дня тошнота обычно отпускала. Живот, к Таниному огорчению, совершенно не рос, хотя она постоянно испытывала тугую наполненность изнутри, не имеющую ничего общего с вульгарным состоянием человека, съевшего два обеда враз. Зато грудь заметно увеличилась, соски выпятились, как кнопки дверного звонка, и из розовых стали коричневыми. Таня терла их жесткой мочалкой – где-то вычитала, что именно так надо готовить грудь к будущему кормлению. Гена присасывался к потемневшему соску. Ему нравилось, как твердел сосок от его прикосновения. Тане тоже нравилось это совершенно новое ощущение.
На имя Виталия пришли еще две повестки из военкомата. Звонил какой-то капитан, пугал и грозил. Таня строила из себя дурочку.
Изредка Таня навещала домашних. Объявила, что беременна и собирается замуж. Но Елена никак не отреагировала на это сообщение. Тане показалось, что мать ее не услышала. Но это было не совсем так, потому что вечером того же дня Елена сказала мужу, что Таня родит Танечку. Привыкший к известному хаосу в ее сознании, Павел Алексеевич не придал особого значения этому смутному сообщению, про себя подумав, какие сложные процессы проходят в сознании жены: видимо, сообщение о Флотове зацепилось в каких-то глубоких слоях коры и теперь она вспомнила о том времени, когда ждала дочку. Себя же идентифицирует с выросшей Таней.
Письмо из Инюрколлегии все еще оставалось без ответа. Елена была не в состоянии не то что отвечать, но даже высказать свое отношение к наследству. А Тане Павел Алексеевич так ничего и не сообщил: никак не мог подобрать подходящий момент. Для него-то речь шла не о наследстве, а о гораздо более важной вещи.
В один из поздних светлых вечеров в начале июля, когда Таня, застав отца дома в приятно-хмельном состоянии, оповестила его о своем предстоящем замужестве, он решился заговорить с ней об этом злополучном наследстве. Он усадил ее в кабинете, положил перед собой слегка замусоленный конверт и прежде, чем отдать его, рассказал, как познакомился с ее матерью, как оперировал ее и женился вскоре после ее выздоровления.
– Переехали вы ко мне, Таня, в тот самый день, когда пришла повестка о смерти человека, который прежде меня был мужем твоей мамы.
У Тани глаза полезли на лоб: она и не предполагала, что мать была за кем-то замужем до Павла Алексеевича.
– Тебе, Танечка, было в то время два года. Родным твоим отцом был Антон Иванович Флотов. Я же тебя удочерил сразу же после того, как мы поженились. Наверное, я должен был сказать тебе об этом раньше...
– Папочка, да какое же это имеет значение? – она увидела волнение Павла Алексеевича, и вся ее детская любовь к нему, как солнышко в небо, взошла в ней в эту минуту...
Она обхватила его лысую круглую голову, поцеловала в мохнатые брови, в нос. Вдохнула его родной запах, который всегда ей так нравился, – смесь медицины, войны и алкоголя, зажмурилась, зашептала:
– Какой еще Флотов, какой еще Пароходов... Ты с ума сошел... Ты мой самый настоящий, самый любимый слон, папка, дурак старый... Мы с тобой похожи ужасно, ты мое самое во мне лучшее... Прости, что я вас бросила... я люблю тебя ужасно и маму люблю. Я только жить с вами не могу... Папка, я беременна, я рожу скоро тебе внука... Здорово, да?
У него никогда не было своих детей. Об этой минуте он знал понаслышке, хотя много раз жаждущие детей мужчины узнавали об этом событии от него и именно благодаря его полубожественному участию и становились отцами. Его приемная дочь сообщила ему, что родит, и грудь его наполнилась горячим воздухом счастья, а будущий ребенок оказался в единый миг и желанным, и долгожданным.
– Доченька моя, неужели вот до чего мы дожили... Неужели я приму внука? – старческим, расслабленным голосом сказал Павел Алексеевич, и Таня вдруг увидела, как он сдал за последние годы, и, окончательно расчувствовавшись и тут же на себя за это рассердившись, вздернулась:
– А почему ты не спросил, за кого я выхожу? Я выхожу за братьев Гольдбергов.
– Да какая разница? Пусть за Гольдбергов. Главное, чтобы ты была счастлива, – он действительно с трудом различал братьев и всегда подшучивал, что один из братьев немного умнее, а другой немного красивее, но он всегда забывает, кто именно...
Никакого подвоха в этом сообщении он не почувствовал. После многих лет жизни под горку, вниз – и дома, и на службе, – он впервые ощутил подъем радости: Таня от него не отказалась, и обещано было обновление всей жизни через ребенка, который будет его и Илюшиным внуком. Не чудо ли?
– Да, вот тебе извещение о наследстве, – он протянул ей конверт. – Твой отец Флотов, как выяснилось недавно, не погиб тогда на фронте, а попал каким-то образом в Аргентину и умер сравнительно недавно. Наследников разыскивают.
– Он что, только после смерти обо мне вспомнил? А раньше? Нет, пап, я не хочу ничего. Мне не нужно, – она отодвинула от себя конверт и никогда в жизни об этом не вспомнила...
12
В середине июля Гольдберги женились: Виталька в московском Дворце бракосочетаний расписался с Таней, Илья Иосифович в мордовской зоне зарегистрировал брак с Валентиной.
В лагере обошлось без декоративных свидетелей – только начальник по режиму и приехавший из Москвы адвокат, который и добился разрешения на тюремный брак. Брак Виталика и Тани был засвидетельствован Геной и Томой. Невестой выглядела Тома – в розовом платье и белых туфлях на трудных каблуках. Таня и не думала принаряжаться, но нельзя сказать, что она полностью проигнорировала особенность момента – отметила покупкой трех совершенно одинаковых мужских рубашек в желто-белую полоску, и выглядели они в этих рубашках как детдомовские: коротко стриженные, худые, одинаково одетые и одного роста – сто семьдесят сантиметров.
Тома была разочарована – ни свадьбы, ни подарков, ни веселья. Ей хотелось богатой торжественности и большого гулянья, но именно этого как раз и не выносила Таня. Единственный свадебный подарок, апельсиново-розовая орхидея, за которой Тома ездила накануне к знакомой в Ботанический сад, заменила архаический флердоранж. Этот несделанный фотоснимок – братья Гольдберги и Таня между ними с вялой нетвердой веткой, склонившей три больших цветка, львиные головы с гривами, пастями и лопастями более светлого нимба, редкость из редкостей, – сохранился на всю жизнь в Томиной памяти.
Впрочем, еще один подарок получил Виталик. Когда новобрачным выписали на радужной бумаге свидетельство о браке, Таня достала из кармана желто-белой рубашки сложенную вдвое справку из женской консультации – о беременности сроком в восемнадцать недель. Два эти документа в совокупности давали право на отсрочку от прохождения армейской службы.
Отвергнув решительно и последовательно все казенные услуги, от марша Мендельсона до дорогостоящего шампанского и ограничившись лишь напыщенным поздравлением мордюковообразной сотрудницы под красным знаменем, в красном же костюме и с красной атласной лентой через жирное тулово, ребята вышли на парадные ступени Дворца, присели и выпили из горлышка бутылку рублевой кислятины "Ркацители", после чего Гена проголосовал проезжающему мимо такси, они с Таней сели в него и уехали.
Ошеломленная Тома, не осведомленная об истинном положении дел, спросила у меланхоличного молодого мужа:
– Куда это они?
– Да в Обнинск. Она там собиралась недельку пожить...