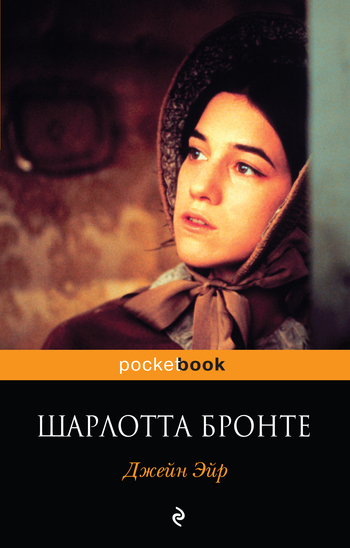Детская книга Акунин Борис

Странно. Из Кремля царь примчался в один миг, а идти смотреть на отрока почему-то не спешил.
Протерзавшись неизвестностью еще минут десять, Ластик в конце концов не выдержал. Поднялся со своего жуткого ложа, полез глядеть в дырку.
В соседней горнице никого не было, но со стороны лестницы доносился отдаленный гул множества голосов. Нужно подобраться к той, большой двери и потихоньку выглянуть, сказал себе Ластик, и в ту же секунду дубовая створка распахнулась.
В комнату один за другим вошли три человека. Первым, низко кланяясь и двигаясь спиной вперед, семенил Ондрейка Шарафудин. За ним точно таким же манером, только менее грациозно пятился Василий Иванович. А последним вплыл, величаво постукивая посохом, человек, одетый наполовину по-русски, наполовину по-европейски: ноги в красных чулках и башмаках с бантами, но сверху златотканный кафтан, перетянутый широким жемчужным поясом. Вот он, стало быть, какой – царь.
Борис Годунов был кряжист, краснолиц, в недлинной, стриженной клином бородке проседь. На голове – маленькая, черная шапочка-нашлепка, такая же, как у боярина.
Государь уставился точнехонько на Ластика (на самом-то деле на икону, теперь понятно) и размашисто перекрестился.
– Свят, свят, свят Господи Исусе, исполнь небо и земля славы Его!
Голос у него был неожиданно звонкий, молодой. Наверно, таким хорошо кричать перед большой толпой или командовать войском. Но кроме голоса ничего привлекательного в самодержце Ластик не обнаружил. Низенький, животастый, лоб в глубо-ченных морщинах, лицо опухшее, заплывшие глазки так и шныряют туда-сюда, а мясистые, унизанные перстнями пальцы, что сжимают посох, всё время шевелятся, будто червяки.
Шестиклассник впервые видел настоящего живого монарха и даже расстроился. Ничего себе царь. Как этакого несимпатичного «всем народом выбрали»? Где у избирателей глаза были? Неужто во всей России никого получше не нашлось?
А Годунов тем временем сделал удивительную вещь – не оборачиваясь, сел прямо посреди горницы. Однако не плюхнулся задом об пол, как следовало бы ожидать, а опустился на деревянное кресло, которое вмиг подставил ему хозяин. Даже удивительно, откуда у дородного боярина сыскалось столько прыти. Царь же ничуть не удивился – должно быть, ему и в голову не приходило, что окружающие посмеют не предугадать его желаний.
Ондрейка, тот смирно стоял в уголочке, опустив голову, шапку держал в руке. Синела бритая под ноль макушка.
– О, маестат! О, крестьяннейший из подсолнечных царей! Пожаловал убогий домишко раба твоего! – торжественно провозгласил князь, но, поскольку он стоял за спиной у царя, лицу подобающего выражения не придал – было видно, что правый глаз боярина взирает на повелителя с опаской, а левый по обыкновению зажмурен.
Разговор намечался важный, для Ластика и вовсе судьбоносный, поэтому он тихонько слез со скамьи, уселся в гроб и достал унибук.
– Перевод!
– О, царское величество! О, христианнейший из монархов Солнечной Системы!(В 17 столетии этот термин обозначал одну лишь планету Земля.) Ты оказал высокую честь скромному дому твоего слуги!
– Пустого не болтай, – перебил князя царь. – Дело говори. Надолго задержусь – свита начнет беспокоиться. Где он? Царевич где?
– Вон за той маленькой дверцей, государь. Как доставлен из Углича в гробу, так и лежит.
– И что, в самом деле нетленен?
– Ты можешь убедиться в этом своими собственными ясными глазыньками (Употребление уменьшительно-ласкательных окончаний в старорусском языке означало особую почтительность).
– Сейчас, сейчас, погоди… - Голос царя дрогнул.
Все-таки поразительно, до чего удобно было подслушивать отсюда, из чулана. Не пропадало ни единое слово. Опять же имелся глазок для подглядывания. Наверное, неспроста тут всё так устроено.
– А это точно царевич? – тихо и как бы даже с робостью спросил Годунов.
– Доподлинно не знаю. Уверен лишь, это тот самый ребенок, какого мне показывали четырнадцать лет назад, когда я по твоему приказу проводил в Угличе следственно-розыскные мероприятия. Черноволосый, белолицый, с маленьким наростом правее носа, с родимым пятном красного цвета на левом плече. И ростом крупнее, чем бывают девятилетние дети – в батюшку пошел, Иоанна Васильевича. Царь удрученно вздохнул.
– Я-то Дмитрия последний раз трехлетком видел, когда смутьянов Нагих из Москвы высылали…
– Чувствую, ты в сомнении, государь. – Голос боярина сделался мягок, прямо медов. – Так еще не поздно отказаться от нашего плана. Никто не знает, что тело царевича вывезено из Углича, мой слуга Ондрейка Шарафудин проделал это тайно. Как привезли, так и обратно увезем.
Гулкий удар – должно быть, монарх стукнул посохом об пол.
– Нет-нет. Показать народу царевича необходимо. А то уже в открытую говорят, будто польский самозванец и есть настоящий Дмитрий. И головы рубим, и вешаем, и на кол сажаем, да всем рты не заткнешь. Ты мне только одно скажи, Василий… – Борис перешел на шепот. – А не может это быть поповский сын? Самозванец Гришка Отрепьев пишет в своих грамотках(Этим словом в допетровской России называли любые документы: указы, письма, постановления.), что вместо него-де зарезали поповича.
– Знаю, о царь и великий князь, слышал. Но достаточно взглянуть на августейшего покойника, и сразу видно, что разговоры про поповского сына – забобоны(Этот термин в глоссарии отсутствует; контекстуальный анализ предполагает значение «враки», «чушь», «брехня».) Истинно царственный отрок, посмотри сам.
– Ладно… – наконец решился Борис.– Пойду. Спаси и сохрани, Господи, и не оставь в час испытаний… А ты, Василий, тут будь. Сам я, один. Подсвечник только дай. Господи, Господи, спаси и укрепи…
Услышав скрип и звук шагов, Ластик сунул уни-бук между бортом гроба и стеной, вытянулся.
В последний момент, спохватившись, насыпал себе на грудь орешков, после чего закрыл глаза, сделался «личен и благостен», как подобало «истинно царственному отроку».
Пока государь шел по горнице, он и топал, и посохом об пол стучал, а вошел в чуланчик – сделался тише воды, ниже травы.
Сначала постоял на пороге и долго бормотал молитвы. Ластик разбирал лишь отдельные слова:
– Грех ради моих… Чадо пресветлое… Яко и Христос нам прощал…
Похныкал так минуты две, а то и три, и лишь после этого осмелился подойти, причем на цыпочках.
Ластик уже начинал привыкать к тому, что его разглядывают вот так – сосредоточенно, в гробовом (а каком же еще?) молчании, под тихий треск свечных фитильков. Наученный опытом, дыхание полностью не задерживал, просто старался втягивать и выпускать воздух помедленней.
Вдруг до его слуха донесся странный звук – не то сморкание, не то посвистывание. Не сразу Ластик понял, что царь и великий князь плачет.
Дрожащий голос забормотал малопонятное:
– Пес я суемерзкий, чадогубитель гноеродный! Ах, отрок безвинный! Аки бы мог аз, грешный, житие свое окаянное вспять возвер-нуть! Увы мне! Што есмь шапка царская, што есмь власть над человеками? Пошто загубил аз, сквернодеец, душу свою бессмертну? Всё тлен и суета! Истинно рек Еклесиаст: «И возвратится персть в землю, и дух возвратится к Богу, иже даде его. Суета суетствий, всяческая суета». А еще речено: «Всё творение приведет Бог на Суд о всякем погрешении, аще благо и аще лукаво». Близок Суд-от Страшный, близок, уж чую огнь его пылающ!
Тут самодержец совсем разрыдался. Раздался грохот – это он повалился на колени, а потом еще и мерный глухой стук, происхождение которого Ластик вычислил не сразу. Прошла, наверное, минута-другая, прежде чем догадался: лбом об пол колотит.
Терпение у них тут в 17 веке было редкостное – царь стучался головой о доски, плакал и молился никак не меньше четверти часа.
Наконец, поутих, засморкался (судя по звуку, не в платок, а на сторону). Вдруг как крикнет:
– Эй, Василий, истинно ль рекут, что мощи сии от болезней исцеляют?
– Истинная правда, государь! – отозвался из горницы боярин.
Царь, не вставая с коленок, подполз вплотную к гробу, наклонился, обдав запахом чеснока и пота. Зашептал в самое ухо:
– Прости ты мя, окаянного. Ты ныне на небеси, тебе по ангельскому чину зла и обиды в сердце несть не статно. Аз, грешный, многими болезнями маюся, и лекари иноземные лекарствиями своими не дают облегчения. Исцели мя, святый отрок, от почечуя постылого, от водотрудия почетного, от бессонной напасти и брюхопучения. А за то аз тебе на Москве церкву каменну поставлю, о трех главах, да повелю тебя во храмех молитвенно поминать вкупе с блаженные отцы.
Борода монарха щекотала Ластику подбородок и край рта. Это-то еще ладно, но когда длинный ус коснулся ноздри, случилось непоправимое.
– Ап-чхи! – грохнул «святый отрок». И еще два раза. – Ап-чхи!! Ап-чхи!!!
Наследник престола
– Здрав буди, батюшко-царь! – в один голос откликнулись Василий Иванович и Ондрейка, а боярин еще и прибавил. – Изыди дух чихной, прииди благолепной!
Только батюшке-царю было совсем не благолепно. Ластик это сразу понял, когда открыл глаза и приподнялся в домовине (после чихания притворяться покойником смысла не имело).
Его величество шарахнулся от гроба так, что с размаху сел на пол. Борода тряслась, глаза лезли из орбит.
– О…ожил! – пролепетали дрожащие губы.
Понятно, что человек испугался. Всякий обомлеет, если на него чихнет мертвец. Чтоб монарх успокоился, Ластик ему широко улыбнулся. Только вышло еще хуже.
– А-а! – подавился криком Борис, в ужасе уставившись на хромкобальтовую скобку. – Зуб железной! Яко речено пророком Даниилом: «И се зверь четвертый, страшен и ужасен, зубы же его железны!» Погибель моя настала, Господи!
– Господин царь, да что вы, я вам сейчас всё объясню, – залепетал Ластик, не очень-то рассчитывая, что самодержец поймет, а больше уповая на ласковость интонации. – Я никакой не мертвец, а совершенно живой. Меня сюда по ошибке положили.
– А-а-а! А-А-А-А! – завопил Годунов уже не сдавленно, а истошно.
В каморку вбежал Василий Иванович, увидел сидящего в гробу Ластика, съежившегося на полу царя и остолбенел. Левый глаз открылся и сделался таким же выпученным, как правый. Рука взметнулась ко лбу – перекреститься, но не довершила крестного знамения.
Из-за плеча боярина показалась физиономия Шарафудина. Озадаченно перекосилась, но не более того – непохоже было, что на свете есть явления, способные так уж сильно поразить этого субъекта.
– Воскресе! – прохрипел Борис, тыча пальцем. – Дмитрий воскресе! За грехи мои! Томно! Воздуху нет!
Он опрокинулся на спину, рванул ворот – на пол брызнули большие жемчужные пуговицы.
Двое других не тронулись с места, всё пялились на Ластика.
– Руда навскипь толчет… сердце вразрыв… – с трудом проговорил Годунов. – Отхожу, бо приступил час мой…
И вдруг улыбнулся – что удивительно, словно бы с облегчением.
Как вести себя в этой ситуации, Ластик не знал. Терять все равно было нечего, поэтому он выудил из-за гроба унибук, раскрыл и включил перевод.
– Кровь бурлит толчками… сердце разрывается. Умираю, пришел мой час… Благодарю тебя, Боже, что явил мне перед смертью чудо великое – оживил невинно убитого царевича, грех мой тяжкий, – вот что, оказывается, говорил государь, еле шевеля побелевшими губами.
Потом взглянул на воскресшего покойника, уже не с ужасом, а, пожалуй, с умилением.
– Ты кто еси? Мнимый образ альбо чудо Господне?
«Ты кто? Примерещившееся видение или Божье чудо?»
– Никакое я не видение, я нормальный человек, – ответил Ластик и скосил глаза на экран.
Унибук, умница, сам перевел его слова на старорусский: «Аз есмь не мнимый образ, но тлимый человек».
– Аз тлимый человек, –прочитал вслух Ластик.
Царь слабой рукой перекрестился:
– Се чудо великое. Сподобил Господь свово Ангела заради земли Русския плоть восприяти и облещися в тлимаго человека!
«Это великое чудо. Соизволил Господь ради спасения России превратить своего ангела в плоть и сделать живым человеком!»
Повернул голову к дверце и, хоть и тихо, но грозно приказал:
– Падите ниц, псы!
Те двое разом бухнулись на колени, однако князь левый глаз уже прикрыл, а злодей Онд-рейка и вовсе смотрел на «ангела» прищурясь. Похоже, не больно-то поверил в чудо.
Царь заговорил отрывисто, мудреными словами – если б не унибук, Ластик вряд ли что-нибудь понял бы.
– Слушайте, рабы, и будьте свидетелями. По своей воле я отрекаюсь от царского венца. Вручаю скипетр и державу царевичу Дмитрию Иоан-новичу, законному наследнику усопшего Иоанна Васильевича. Пусть правит чудесно воскресшее дитя и пусть рассеются враги Русской земли! Объявите всему народу о великом событии! А мне… Мне кроме прощения ничего не нужно…
Он, кажется, хотел сказать что-то еще, но вдруг страшно захрипел, изо рта, из носа, даже из ушей потоками хлынула темная кровь – Ластик жалостливо сморщился.
– Свиту, свиту зови, пока не умер! – вскинулся боярин. – Не то подумают, это мы с тобой его кончили!
Ондрейку как ветром сдуло. Неужто в самом деле умирает? Ластик соскочил на пол, бросился к царю, приподнял его голову, а больше ничем помочь не сумел. Страшно было смотреть, как по усам, по бороде Годунова течет кровь, как растягиваются в улыбке губы, хотят что-то сказать, да уже не могут.
Донеслись крики, топот ног, и в маленькое помещение в один миг набилось ужасно много народу.
Бесцеремонно распихивая всех, вперед пробился важный старик – толстый (впрочем, как и остальные), седобородый, со сливообразным носом.
– Пошто стогнешь, государю? Опоили зельем? Кто сии злодеятели? – воинственно воскликнул он, наклоняясь над лежащим.
– Я… сам… Сам… Промысел Божий… – просипел монарх и показал сначала на Ластика, а потом на Василия Ивановича. – Он… Шуйский… изречет… мою волю …
И больше не произнес ни слова – кровь полилась еще пуще, затылок самодержца стал неимоверно тяжелым, и Ластик догадался: царь умер.
Испуганно отдернул руки. Голова Бориса стукнулась об пол, а Ластик поскорей сел на лавку и забился в угол. Ему хотелось только одного: чтоб на него перестали обращать внимание.
Бородачи смотрели на неподвижное тело с одинаковым выражением – любопытства и ужаса. Некоторые закрестились, некоторые стояли так.
– Рцы, князь Шуйский, – сказал сливоносый (он из всех, видимо, был самый старший). – Яви нам царскую волю.
И низко поклонился. Остальные последовали его примеру.
Василий Иванович (правильно, его фамилия «Шуйский», а не Шаинский и не Шиловский, вспомнил теперь Ластик) откашлялся, но начинать не спешил.
Унибук уже был наготове – тут нельзя было пропустить ни единого слова.
– Слушай, князь Мстиславский, слушайте все вы, бояре и дьяки. Перед тем как умереть, царь и великий князь всей России при мне и моем ближнем дворянине Ондрее Шарафудине, а также в присутствии вот этого святого отрока велел передать державный венец… своему сыну царевичу Федору!
Это известие никого не удивило – кроме Ондрейки. Тот так и вылупился на боярина своими кошачьими глазами. Прочие же с интересом уставились на Ластика, который сидел ни жив ни мертв и сосредоточенно смотрел в книгу – боялся встретиться с придворными взглядом. То, что князь Шуйский переврал волю Годунова, Ластика нисколько не расстроило. Не хватало ему еще на царский трон угодить! Навряд ли в истории был такой самодержец – Ластик Первый.
Главный из бояр, которого хозяин назвал «князем Мстиславским», махнул рукой, все снова склонились бородами до самого пола, распрямились.
– Что ж, на то его царская воля. А наше дело повиноваться.
Четверо придворных почтительно подняли с пола мертвеца, а Мстиславский, разглядывая Ластика спросил:
– Кто этот мальчик с книгой? Почему государь указывал на него пальцем? И зачем на лавке стоит детский гроб?
У Шуйского ответ был наготове:
– Боярин, этот отрок – великий схимник. Спит в гробу, питается росой и птичьим пением, Книгу Небесной Премудрости читает, в великой святости пребывает. А сейчас он у меня в доме гостит, оказал мне такую честь. Когда мы давеча за столом сидели, видел, как я шептал на ухо его величеству? – Мстиславский кивнул. – Это я царю про малолетнего праведника рассказывал. Вот государь, прими Господь его душу, и пожелал посмотреть собственными очами. Хотел, чтобы блаженное дитя за него помолилось. Только маестат (Это слово, очевидно, происходит от немецкого majestat – «королевское величество».) рот раскрыл помолиться, как его хватил удар. Хорошо умер государь, перед Божьим угодником. Дай Господи всякому такую кончину.
Все снова перекрестились, а Василий Иванович низко поклонился Ластику. Поколебавшись, то же сделал и Мстиславский, за ним остальные. Но интерес к «малолетнему праведнику» явно поугас – и Ластика такой поворот дела очень устраивал.
Почти все последовали за мертвым телом, задержались лишь оба князя, да у дверцы неприметной тенью маячил Шарафудин.
Озабоченно почесав бороду и понизив голос, Мстиславский сказал:
– Ох, не ко времени прибрал Бог государя. Самозванец с польскими добровольцами и запорожскими казаками бьет наших воевод. Хитер он и изобретателен, уж мне ли не знать – сам с ним воевал, еле жив остался. Рассказывал я тебе про сатанинскую птицу? То-то. Боюсь я, больно юн Борисов сын, шестнадцать лет всего. Сдюжит ли?
– На то воля божья, – ответил Василий Иванович, и это было понятно без перевода.
– Твоя правда, князь, – набожно возвел очи к потолку Мстиславский. – Ладно, повезу новопреставленного Наверх, к царице. Ну, крику будет…
И вышел. Ластик с удовольствием выскользнул бы за ним, но разве эти двое отпустят. Вон как зыркал на него Шуйский своим выпученным правым глазом. О чем думает – не поймешь.
Похоже, не только для него это было загадкой.
– Пошто неистинно рек боярам, княже? – спросил Ондрейка.
Ластика это тоже очень интересовало. Чтоб ничего не упустить, он опустил взгляд в книгу.
– Зачем сказал боярам неправду, князь? Почему утаил про воскрешение царевича? Что тебе царевич Федор? Какая от него польза? А этому, кто бы он ни был на самом деле, ты стал бы первый помощник и опекун. Никуда бы он от нас не делся. Ведь мы-то про него правду знаем. Так, дитя?
Он подмигнул Ластику желтым глазом и оскалил в улыбке мелкие острые зубы, будто укусить собрался.
– Ничего мы про этого немчика не знаем, – ответил боярин, по-прежнему всматриваясь в Ластика.– Отчего умер? Почему вдруг воскрес? А может, он и не помирал вовсе? Может, в обмороке был, а твои дурни не поняли? Эй, книгочей, ты по-нашему, по-христиански понимаешь?
– Вообще-то не очень, – прошептал Ластик в унибук, а потом прочитал с экрана вслух. – Не вельми гораздо.
– Сам видишь. Куда его, такого, показывать? Опасно. В чудеса верит чернь или ополоумевший от страха царь, а бояре ни за что не поверили бы. Ведь они-то отрока этого в гробу мертвым не видели. Вообразили бы, что это мои козни. Они пока еще за Годуновых стоят. Ничего, пусть Борисов щенок до поры поцарствует, а там видно будет.
И приподнял левую бровь, совсем чуть-чуть, но щелочка сверкнула ярче широко раскрытого правого глаза.
Ондрейка почтительно поклонился.
– Ты мудр, князь. Тебе видней. Куда же этого девать будем? В мешок, да в воду?
Спокойно так спросил, деловито – Ластик от страха унибук выронил.
Василий Иванович с неожиданной для его комплекции проворностью нагнулся, подобрал книгу, открыл на развороте с какими-то теоремами, посмотрел и с поклоном возвратил.
– Думай, что болтаешь, дурак! Ты на лицо его посмотри! Разве он похож на обычного мальчишку? А такие книги ты когда-нибудь видел? В них непонятные письмена и магические знаки. Откуда его взяли твои шпыни (Это слово чаще употреблялось как бранное. В прямом смысле – представитель низшей прослойки горожан, не имеющий жилья и постоянных занятий)?
– Не спрашивал.
Поглядел князь на замершего Ластика еще некоторое время, пожевал губами и громко, как у глухого, спросил:
– Ты откель к нам пожаловал, честной отрок? Оттель? – Он показал на потолок. – Али оттель? – Палец боязливо ткнул в пол. – Яка сила тя ниспослала – чиста аль нечиста?
– Долго рассказывать, – ответил Ластик, раскрывая 78 страницу. Рассказывать и в самом деле пришлось бы очень долго, да и не понял бы боярин.
«Долго речь», – перевел унибук.
– Долго речь.
Вряд ли боярина устроил такой ответ, но вопросов задавать он больше не стал – видно, уже пришел к какому-то решению.
– А хоть бы и нечистая. Сила – она и есть сила. Прошу твою ангельскую милость быть гостем в моем убогом домишке . (Это словосочетание не следует понимать в буквальном смысле; старомосковский речевой этикет требовал говорить о себе и своем жилище в уничижительных выражениях.) Если же твоя милость не ангельской природы, а наоборот, то я и такому гостю рад.
Василий Иванович Шуйский склонился перед Ластиком до земли.
В гостях у князя Василия
Месяца майя 15 дня года от сотворения мира 7113-го пресветлый ангел Ерастиил, отчаянно зевая, сидел у окна и смотрел, как играют солнечные блики на мутной слюде. Перед ангелом на подоконнице лежала раскрытая книга – в телячьем переплете, с затейливыми буквицами и малыми гравюрками. В книге про весну говорилось так: «Весна наричется яко дева украшена красотою и добротою, сияюще чудне и преславне, яко дивится всем зрящим доброты ея, любима бо и сладка всем, родится бо всяко животно в ней радости и веселия исполнено». Но Ерастиил радости и веселия исполнен не был – очень уж измучился сидеть взаперти.
Обидней всего было, что даже через окно посмотреть на «украшену красотою и добротою деву» было совершенно невозможно: пластины слюды пропускали свет, но и только. В парадных покоях княжеского дворца имелись и окончины стекольчаты, большая редкость, но ходить туда в дневное время строго-настрого воспрещалось.
Крепко стерег Шуйский своего гостя, особо не разгуляешься.
Поместили Ластика в честной светлице – комнате для почетных гостей. Ондрейка сказывал, что последний раз тут останавливался архиепископ Рязанский, который князь Василь Иванычу родня.
По старомосковским меркам помещение было просторное, метров тридцать. Чуть не треть занимала огромная кровать под балдахином. Лежа в ней, Ластик чувствовал себя каким-то лилипутом. Из прочих предметов мебели имелись стол, две лавки да резной сундук, вместилище вивлиотеки: три книги духовного содержания да одна потешная, то есть развлекательная – про времена года (как видно из вышеприведенного абзаца, чтение не самое захватывающее).
Терем у князя Шуйского был большущий, в три жилья (этажа), в парадных комнатах вислые потолоки (затянутые тканью потолки) и образчатые (изразцовые) печи, косящатыи, то есть паркетный пол, а вот с обстановкой негусто. Не прижился еще на Руси европейский обычай заставлять комнаты мебелью. Лавки, столы, рундуки да несколько новомодных шафов (шкафов) для посуды – вот и всё.
У почетного гостя в светлице, правда, висело настоящее зеркало, и зело великое – с полметра в высоту.
Подошел Ластик к нему, посмотрел на себя, скривился.
Ну и видок. От сидения в четырех стенах лицо сделалось бледным, под глазами круги, а прическа – вообще кошмар. Называется под горшок. Это надевают тебе на голову глиняный горшок, и все волосы, какие из-под него торчат, обрезают.
Повздыхал.
Чем бы заняться?
Затейливые буквы в потешной книге уже поразбирал. На подоконнице посидел. Дверь снаружи заперта на ключ – якобы в остережение от лихих людишек, хотя какие в доме у князя лихие людишки?
Покосился на печь. Там, под золой, лежал уни-бук. Вот что почитать бы. Верней – с кем поговорить бы. Однако с некоторых пор компьютер приходилось прятать.
Снова подошел к окну. Осторожно, прикрываясь кафтаном, достал Райское Яблоко и стал на него смотреть.
Подышал на гладкую поверхность, потер рукавом, чтобы ярче сияла. Чем дольше любовался, тем яснее делалось: ничего прекрасней этого радужного шарика на свете нет и не может быть.
Камень был самим совершенством – лишь теперь Ластик стал понимать, что означает это выражение. Смотреть на Яблоко не надоедало: оно все время меняло цвет, при малейшем повороте начинало искриться. Если б он не проводил часы напролет, зачарованно разглядывая Адамов Плод, то давно уже свихнулся бы от скуки и безделья в этой слюдяной клетке. (Хотя нет – имелся и еще один фактор, сильно скрашивавший неволю, но о нем чуть позже.)
Поглаживая алмаз, Ластик мечтал о том, как выберется из этого чертова средневековья, как вернется к профессору Ван Дорну и торжественно вручит ему бесценный трофей.
Но чтоб попасть в 21 век, требовалась подходящая хронодыра, а с этим было плохо.
По ночам Ондрейка Шарафудин выводил «ангела» на прогулку, подышать свежим воздухом. Но перемещаться можно было только по двору, вокруг терема.
В самый первый выход (унибук тогда еще не переместился в печку) Ластик включил режим хроноскопа. Нашел семь маленьких, бесполезных лазов и лишь один приличный, 20-сантиметровый. Обнаружился он в колодце, близ княжьей домовой церкви. Только дыра эта была какая-то странная. На мониторе появилось одно лишь число, 20 мая, а вместо года прочерк. Что за штука – число без года? Ну ее, такую хронодыру. В семнадцатом веке еще худо-бедно жить можно, а там неизвестно что.
Сзади потянуло сквозняком.
Ластик оглянулся через плечо, и увидел, что дверь открыта. На пороге стоял Шарафудин, лучился приторной улыбкой.
Нарочно, крыса такая, петли смазал, чтоб створка открывалась бесшумно. И всегда появлялся вот так – без предупреждения. Сколько раз ему было говорено, чтоб стучался, а он в ответ одно и то же: «Не смею». Шпион проклятый.
– Чего тебе? – недовольно спросил Ластик и будто бы поправил шелковый пояс (а на самом деле спрятал в него Яблоко).
Мелко переступая, Ондрейка прошуршал на середину комнаты. В руках он держал тяжелый поднос, весь уставленный снедью.
– Пресветлый отроче, пожалуй откушати. – И давай перечислять. – Ныне в объедутя верченое, да кура разсолъная, да ряба с гречей, да ставец штей, кдливо, да блюдо сахарных канфетков, да лебедь малая сахарная ж.
Ластик вяло пробурчал:
– Уйди, зануда.
Это если по-современному. На самом-то деле он сказал: Изыди, обрыдлый. Но старорусская речь уже не казалась ему вычурной или малопонятной – привык. И на слух воспринимал без труда, и сам научился изъясняться. Вроде как всю жизнь таким языком разговаривал.
Аппетита не было. Конечно, если б сейчас навернуть бутербродик с салями, или жареной картошки с кетчупом, или эклер с шоколадным кремом – другое дело. А от этого их исторического меню просто с души воротило.
– Уточка-то с шафраном зажарена, рябчик свеженький. А коливо до того сладкое! – все совался со своим подносом Шарафудин.
Сам и улыбается, и кланяется, а глаза немигающие, холодные, Ластик старался в них лишний раз не заглядывать. Мороз по коже от такого прислужника. А другого нет – прячет Василий Иванович «ангела» от своей челяди.
Когда Ондрейка, постреляв по сторонам взглядом, наконец удалился, Ластик с тоской посмотрел на еду. Потыкал деревянной ложкой в миску с коливом, главным туземным лакомством: вареная пшеница, сдобренная медом, изюмом и корицей. Есть, однако, не стал. Поосторожней надо со сладостями, а то растолстеешь от малоподвижной жизни. Понадобится лезть в хронодыру, и не протиснешься.
А Соломка (такое имя носил фактор, до некоторой степени скрашивавший жизнь плененного «ангела») сетовала, что он худ и неблаголепен, аж зрети нужно (даже смотреть жалко). Но это у них здесь такие понятия о прекрасном: кто толще, тот и краше. Слово добрый тут означает «толстый», а слово худой значит «плохой». Если б показать Соломке какую-нибудь Кристину Орбакайте или Бритни Спирс, обозвала бы их козлищами бессочными. Шарафудин, по ее терминологии, мущонка лядащий, яко стручишко сух, бабы с девками на него и глядеть не хотят. Ондреика нарочно съедает в день по дюжине подовых пирогов, по гривенке сала свинячья и по лытке ветчинной – чтобы поднабрать красоты, да не в коня корм, злоба его сушит.
Боятся Шарафудина в тереме. Всем известно, что держит его князь для черных, страшных дел – дабы собственную душу лишними грехами не отягощать. «Ондрейке человека сгубить что плюнуть», говорила Соломка. Как будто Ластик без нее этого не знал…
Однако пора про фактор рассказать, а то всё «Соломка, Соломка», и непонятно, кто это.
На второй день «гостевания», когда Ластик еще был здорово напуган и мало что в здешней жизни понимал, хозяин дворца явился к нему, так сказать, с официальным визитом.
Князь, хоть и находился в собственном доме, облачился в длинную, покрытую парчой шубу, на голову надел высокую меховую шапку трубой. Такие головные уборы – горлатные шапки, – как потом узнал Ластик, могли носить лишь высшие сановники, бояре.
Войдя, Василий Иванович поклонился, коснувшись рукой пола. Речь повел издалека, с такими экивоками, что бедный унибук даже нагрелся.
– Ты прости меня, преславный отрок, что я поступил так, как был вынужден поступить, хотя царская воля, а возможно и прямое соизволение Небес – или, не Небес, а совсем наоборот, тебе это виднее – указывали, что государем подобает стать не Федьке Годунову, но единственно лишь твоей августейшей милости…
И долго еще он плел затейны словеса – путано и непонятно даже в переводе на современный язык. Говорил про то, как дороги ему интересы августейшего дитяти, да сейчас на рожон лезть опасно и не ко времени.
Лишь когда Шуйский сказал:
– Трухляво древо Годуновых, малость обождать – само рухнет, вот тогда-то и наступит твой час, – до Ластика наконец дошло, к чему клонит хитроумный боярин.
– Да не хочу я быть царем! И никакое я не «августейшее дитяте»! – воскликнул шестиклассник.
Помолчал Василий Иванович, закрыл правый глаз, воззрился на собеседника левым.
– Может ты там, в ином мире, запамятовал про свое прежнее, земное бытие?
– Ничего я не запамятовал, – стоял на своем Ластик. – Я не царевич, и вы отлично это знаете!
– А кто ж ты тогда? Немец?
– Нет.
Князь проницательно прищурился.
– Не немец, но и не русский. Был мертвый, стал живой. Поня-ятно…
А что ему понятно, было совсем непонятно. Выждав малое время, Шуйский сменил тему.
– А что это ты всё в книгу глядишь? Видел я – знаки в ней весьма премудрые, не для человеческого разумения. Не та ли это Небесная Книга, в которой прописаны людские судьбы?
– Нет, это учебник по геометрии. Знаете, что это такое? (Нет, сие земномерный письменник. Ведаешь што то есть?)
– Ведаю. Земномерие – царица Квадривиума, сиречь Четверонаучия, – почтительно ответил Василий Иванович.
– Вот-вот. Очень геометрию люблю. Вот, смотрите. Тут задачки всякие, правила.
И Ластик дал ему книгу, чтобы сам увидел и утратил к ней интерес.
Шуйский опасливо раскрыл учебник, стал медленно перелистывать. На 78 странице задержался, и Ластик заметил, что этот разворот зачитаннее других.
Боярин послюнил бумагу пальцем, потер.
– Буквиц не сочту, зело диковинны. А листы вельми малы, зряшный баволны перевод.
И тут случилось неожиданное – унибук среагировал на последнее слово.
Текст задачки исчез, вместо него на развороте замигал дисплей, и возникла надпись: «Букв прочесть не могу, очень необычны. А листки слишком маленькие, пустой перевод бумаги».
Вскрикнув, князь уронил книгу.
– Огненны письмена! Пришлось выкручиваться.
– Дайте сюда, – строго сказал Ластик, подбирая унибук. – Это только ангелам можно. Чтоб ваш человеческий язык понимать и с вами разговаривать.
И произнес то же самое по-старорусски. Василий Иванович удовлетворенно улыбнулся:
– Ага, ангел. Так я и думал. А позволь узнать твое святое имя?