Диагноз смерти (сборник) Бирс Амброз
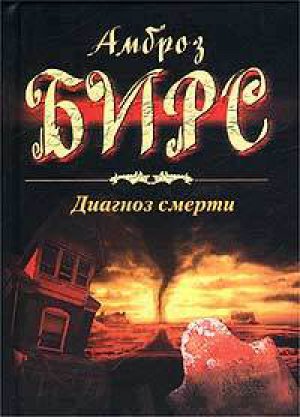
В траве я увидел в траве множество камней, некогда обтесанных человеческими руками, но изуродованных непогодами. Все они потрескались, поросли мхом, вросли в землю. Одни лежали плашмя, другие торчали под разными углами, и ни один не стоял так, как его когда-то поставили. Очевидно, это были могильные камни, но от самих могил не осталось ни холмиков, ни впадин – годы сровняли все. Местами темнели глыбы побольше: там горделивые надгробья и кичливые памятники некогда бросали тщетный вызов забвенью. И до того древними казались эти каменные останки, эти знаки тщеславия людского, а также любви и благочестия, такими они были побитыми и запущенными и столь одичалой, скудной и всеми позабытой была местность вокруг, что мне поневоле показалось, будто я открыл некрополь какого-то допотопного народа, от которого не сохранилось даже имени.
Углубленный в эти мысли, я совсем уж забыл обо всем, что было раньше, но вдруг мне подумалось: «Как же я здесь оказался?». Поразмыслив минуту-другую, я понял – хоть и без особой радости, – почему все, что меня окружает, видится мне таким странным и мрачным. Болезнь! Я вспомнил, как меня терзали жестокие приступы лихорадки, и что мои домашние рассказывали, будто в горячечном бреду я рвался на свободу, на свежий воздух. Они силком удерживали меня на ложе, а то бы я непременно убежал из дому. Похоже, я все-таки обманул бдительность лекарей и своих близких и теперь вот очутился… Где? Я не мог даже предположить. Но ясно было, что занесло меня весьма далеко от моего родного города – издревле прославленной Каркозы.
Вокруг не было ни намека на людское жилье; не было видно ни дымка, не слышно ни собачьего лая, ни коровьего мычания, ни криков играющих детей – ничего, только унылое кладбища, которое моя больная фантазия к тому же еще и облекла тайной и ужасом. Может, меня снова одолела лихорадка, и ничего этого нет? И все вокруг – один лишь горячечный бред? Я звал жену и сыновей, пытался наощупь отыскать их руки, метался среди каменных обломков, топча увядшую траву.
Шум за спиной заставил меня обернуться. Прямо ко мне шел хищный зверь – рысь. Мелькнула мысль: «Если приступ свалит меня здесь, в этом безлюдье, она порвет мне горло…». Я бросился на зверя, громко крича. Но рысь спокойно пробежала мимо в паре шагов от меня и скрылась из глаз за одним из камней.
Почти тут же неподалеку словно из-под земли вынырнула голова человека – он поднимался по склону небольшого холма, едва возвышавшегося над равниной. Вскоре на сером облачном фоне нарисовалась и вся его фигура. Его торс прикрывала лишь звериная шкура, волосы, не ведавшие гребня, свалялись и висели космами, длинная борода тоже. В одной руке он нес лук со стрелами, в другой – сильно коптящий факел. Человек шел неспешно, ступал осторожно, наверно, боялся провалиться в могильную яму, скрытую высокой травой. Странная фигура удивила меня, но не напугала, и я, встав у этого человека на пути, приветствовал его, как принято у нас: «Храни тебя Бог!».
Но он даже шага не замедлил, словно вовсе не слышал меня.
«Добрый путник, – не отступался я, – я болен и заблудился. Умоляю, укажи мне путь в Каркозу!»
Человек прошел мимо и, удаляясь, загорланил варварскую песню на каком-то неведомом языке.
С ветки трухлявого дерева зловеще крикнула сова, издали откликнулась другая. Я глянул вверх – облака как раз разошлись – и увидел Альдебаран и Гиады. Все говорило мне, что наступила ночь: и рысь, и факел в руке у встречного, и сова. Однако я видел все отчетливо, как днем… но видел и звезды, хотя темноты не было. Да-да, я видел все, а сам, похоже, был невидим и неслышим. Что же за страшные чары на меня наложили?
Я сел на корень большого дерева, намереваясь хорошенько все обдумать. Я почти не сомневался, что безумен, но что-то мешало мне поверить в это до конца. Ведь никаких признаков лихорадки не было. Напротив – я был силен и бодр, как никогда ранее, в мышцах тела и в разуме присутствовало дотоле незнакомое возбуждение. Необычайно обострились и чувства: теперь я мог ощущать плотность воздуха и слышать тишину.
Обнажившиеся корни некогда могучего дерева, под которым я сидел, обнимали гранитную плиту; одна сторона ее находилась под самым стволом. Это в какой-то мере защитило плиту от ветров и дождей, но все-таки и ей досталось изрядно: грани ее скруглялись, углы были сколоты, по всей плоскости змеились глубокие трещины. Возле плиты на земле блестели слюдяные чешуйки – даже гранит поддается разложению. Плита это когда-то накрывала могилу, из которой столетия назад и выросло это дерево. Его алчные корни давным-давно опустошили могилу и оплели надгробье.
Порыв ветра смел с плиты сухие листья и обломки ветвей, и мне открылись выпуклые буквы надписи. Я нагнулся, чтобы прочесть ее. Боже правый! Мое имя… целиком!.. мой день рождения! – и день моей смерти!
Я в ужасе вскочил на ноги, и в тот же миг пурпурный луч зари осветил ствол дерева. Из-за горизонта на востоке поднималось солнце. Я стоял между стволом и огромным красным диском… но не отбрасывал тени!
Тоскливый волчий хор приветствовал рассвет. Волки сидели на надгробьях где поодиночке, а где – небольшими стаями; куда бы я ни бросил взгляд, везде были волки. И тогда я понял, что вокруг меня – руины издревле прославленной Каркозы.
Обо всем этом поведал медиуму Бэйроулзу дух Хусейба Аллара Робардина.
Взыскующий
Смело топча толщу снега, нападавшего за ночь, румяный мальчуган, сын одного из уважаемейших граждан Грейвилла, пролагал тропу для своей сестренки, а та семенила следом и поощряла его веселыми возгласами. Вдруг мальчик споткнулся обо что-то, скрытое глубоким снегом. Автор попытается рассказать, что это было, и как оно там оказалось.
Всякий, кому приходилось проходить по Грейвиллу при свете дня, видел, конечно, большой кирпичный дом, стоящий на невысоком холме севернее железнодорожной станции, то есть справа, если стать лицом к Грэйт Моубрей. Сей весьма унылый образчик «раннего летаргического стиля» невольно наводил на мысль, что зиждитель его наверняка предпочел остаться безвестным сам, раз уж не мог спрятать свой шедевр. А поскольку его принудили строить здание на самом возвышенном месте, он постарался, чтобы никого не потянуло взглянуть на него во второй раз. Но надо отметить, что форма в данном случае вполне соответствовала содержанию, поскольку «Дом Эберсаша для призрения престарелых» так и не прославился ни гостеприимством своим, ни радушием. Надо еще сказать, что размерами «Дом» впечатлял, и его щедрый основатель наверняка вложил в строительство прибыли от торговли чаем, шелками и пряностями; в Бостон, где и делались дела Эберсаша, все это привозили от антиподов целыми кораблями. Еще больше средств он поместил в попечительский фонд «Дома». Короче говоря, этот благотворительный эксцесс обошелся законным наследникам филантропа в верные полмиллиона долларов. Очень может быть, что ему захотелось оказаться как можно дальше от этого немого свидетеля и грандиозного памятника своей расточительности, и потому он, распродав все, что числилось за ним в Грейвилле, вскоре покинул город, где его считали мотом, и уплыл за океан на одном из своих кораблей. Присяжные сплетники, узнающие все непосредственно от ангелов Божиих, ручались, что он отправился на поиски спутницы жизни, но это плохо вязалось с мнением записного грейвиллского острослова, который уверял сограждан, будто холостой филантроп покинул этот мир – то есть Грейвилл, – дабы спастись от докучливого внимания местных девиц на выданье. Так или иначе, в Грейвилле Эберсаш больше не появлялся, и хотя порой туда долетали кое-какие сведения о его странствиях по миру, никто не смог бы рассказать о его судьбе что-либо определенное, так что подросшему поколению его имя уже ничего не говорило. Хотя, высеченное на камне над порталом «Дома для престарелых», оно по-прежнему горделиво напоминало о себе.
Впрочем, «Дом», даже и не блистая красотой, являл для своих насельников место, вполне пригодное для того, чтобы отгородиться от зол мирских, которых они хлебнули вдосталь – ведь они были старыми, неимущими и мужеского полу к тому же. В те времена, о которых ведет речь ваш покорный слуга, их там было десятка два, но их злобности, сварливости и черной неблагодарности с избытком хватило бы на добрую сотню. В этом мистер Сайлас Тилбоди, старший смотритель «Дома», был искренне убежден. Еще мистер Тилбоди был уверен, что попечители, принимая новых хрычей на место тех, кто перешел в лучший мир, преисполнены решимости достичь границ его долготерпения и напрочь лишить душевного покоя. Правду сказать, со временем, – а мистер Тилбоди управлял заведением не первый год, – он выносил мнение, что похвальный замысел филантропа-основателя вопиюще нарушается самим фактом пребывания в «Доме» призреваемых. Мечтами же мистер Тилбоди не воспарял выше превращения «Дома» в этакую идиллическую обитель, где он, радушный хозяин, мог бы обихаживать немногочисленную компанию состоятельных джентльменов, хорошо воспитанных и еще не старых, которые благодарно и охотно покрывали бы расходы на свое содержание. Для попечителей же, которым мистер Тилбоди, кстати сказать, был обязан как отчетом, так и своим местом, в его усовершенствованном варианте благотворительности места не находилось. Что же до самих попечителей, то Провидение, как считал уже упоминавшийся остряк, на то и поставило их у кормила богоугодного заведения, чтобы они упражнялись в одной из главных добродетелей – в бережливости. Мы воздержимся от выводов, пусть даже они, по его же мнению, сами напрашиваются. Воздержимся, поскольку не располагаем ни положительными, ни отрицательными свидетельствами самой заинтересованной стороны, то есть самих призреваемых. В «Доме» они доживали свои последние дни, после чего отправлялись в пронумерованные могилы, и их места занимали другие старики, так похожие на прежних, что казалось, будто их штампует какой-то дьявольский пресс. Даже если допустить, что пребыванием в «Доме» наказывались расточители, то надо признать, что одряхлевшие грешники соискали кары за грех свой с настойчивостью, отметающей все сомнения в искренности раскаяния. Вот один из таких грешников и выходит сейчас на просцениум нашего повествования.
Если встречать по одежке, то человек этот нигде бы не обрел радушного приема. С первого взгляда он более походил на искусное творение пейзанина, не желающего делить урожай с воронами небесными, каковые не сеют и не жнут, и разувериться в этом помог бы лишь второй взгляд, на который рассчитывать не приходилось. Да и шел он по Эберсаш-стрит, явно направляясь к «Дому» не быстрее, чем шло бы огородное пугало, обрети оно вдруг молодость, силу и предприимчивость. Одет он был, как мы уже намекали, из рук вон, но внимательный взгляд обнаружил бы в его платье остатки былого изящества и хорошего вкуса. Все в нем изобличало просителя, надеющегося на место в «Доме», пропуском куда могла служить лишь нищета. Лохмотья – мундиры в армии нищих, они же позволяют отличить ветерана от новобранца.
Старик миновал ворота, прошел по широкой дорожке, уже изрядно занесенной, почасту обмахивая свои лохмотья от снега, и наконец очутился перед высоким круглым фонарем, который ночами горел у главного входа. Но тут он повернул налево, словно свет пугал его, прошел вдоль длинного фасада и позвонил у другой двери, куда менее внушительной. Тут свет сочился лишь из полукруглого дюседепорта, так что не мог никого осветить.
Дверь ему отворил сам мистер Тилбоди, монументальный в своем величии. При виде посетителя, – тот сдернул шляпу и сгорбился еще сильнее, чем обычно, – сей столп милосердия не выказал ни удивления, ни досады. Дело было в том, что мистер Тилбоди пребывал в редкостно хорошем расположении духа, как и подобало в такой день – ведь наступал сочельник и назавтра ожидалась благословеннейшая для христиан триста шестьдесят пятая часть года, которую оне знаменуют искренним ликованием и многими подвигами благочестия. Вот и мистера Тилбоди переполняли чувства, предписанные церковным календарем; полное лицо лоснилось, белесые глаза поблескивали, помогая безошибочно отличить его физиономию от переспелой тыквы. Он так сиял, что в его лучах, наверное, можно было бы загорать. На голове его была шляпа, на ногах – высокие сапоги, на плечах – пальто, а в руке – зонтик. Именно так одевается человек, чтобы, преодолев ночь и непогоду, исполнить долг перед чадами своими – мистер Тилбоди собрался в город, дабы приобрести предметы, подкрепляющие ложь о толстеньком святом, который ежегодно спускается по каминным трубам и вознаграждает мальчиков и девочек, отличившихся послушанием и, главное, правдивостью.
Со стариком он поздоровался весьма радушно, хотя зайти, понятно, не пригласил.
– Привет! Вы едва меня застали. Я очень спешу, так что давайте… пройдемся немножко.
– Спасибо… – ответил старик. На его лице, бледном, но с тонкими чертами, при свете из открытой двери можно было прочесть разочарование. – Если господа попечители… мое прошение…
– Господа попечители единогласно решили отклонить его, – ответил мистер Тилбоди, затворяя перед ним врата как в прямом, так и в переносном смысле, отчего вместе со светом угасла и надежда.
Не всякие чувства подобают дням Рождества, но что тут поделаешь: Юмор, как и Смерть, с календарем не считается.
– Господи! – вскричал старик, но голос его был так слаб, что возглас нимало не впечатлил и даже чуть не раздосадовал того, кто его слышал. Что же до Другого… впрочем от нас, смертных, это сокрыто.
– Что ж, – продолжил мистер Тилбоди, приноравливая шаг к походке старика, который без особого успеха старался ступать в свои следы, еще заметные в снегу, – учитывая определенные обстоятельства, не совсем, надо сказать, обычные – вы, конечно, понимаете, что я имею в виду, – попечители пришли к выводу, что для «Дома» вы окажетесь не самым удобным призреваемым. Как старший смотритель «Дома», а также секретарь попечительского совета, – стоило мистеру Тилбоди огласить свой полный титул, и громоздкий дом, чьи очертания еще виднелись сквозь падающий снег, словно съежился, – я полагаю необходимым повторить вам слова дьякона Байрема, председателя нашего совета. Он сказал, что обстоятельства эти делают ваше проживание в «Доме» совершенно нежелательным. Движимый долгом христианина, я пересказал уважаемому попечительскому совету все то, что вы вчера поведали мне о нужде, болезнях и прочих испытаниях, которые обрушились на вас волею Провидения, чтобы вам самому не пришлось снова рассказывать обо всех ваших бедах. Но в итоге досконального и, да позволено мне будет так выразиться, благочестивого рассмотрения вашего прошения – со всей снисходительностью и человеколюбием, естественными накануне такого праздника, – попечители все же решили, что мы не должны давать никому ни малейшего повода сомневаться в том, сколь важно предназначение «Дома», который Господь вверил нашим заботам.
За таким вот разговором они вышли на улицу; фонарь у ворот еле виднелся сквозь снежную завесу. Прежние следы уже занесло, и старик вдруг остановился, словно не зная, куда ему идти. Мистер Тилбоди прошел еще пару шагов и оглянулся, явно желая продолжить монолог.
– Так вот, если учесть определенные обстоятельства, – сказал он, переходя к резюме, – то решение…
Но ораторский запал мистера Тилбоди пропал вотще и втуне: старик пересек улицу, повернул к пустырю и медленно пошел куда ноги несли, а поскольку податься ему было некуда, то направление он избрал, если вдуматься, верное.
Вот поэтому-то на следующее утро, когда церковные колокола Грейвилла в честь праздника перезванивались истово и радостно, румяный сынишка дьякона Байрэма, проторяя по свежему снегу тропу к храму Божьему, споткнулся о мертвое тело Амоса Эберсаша, филантропа.
Смерть Альпина Фрейзера
…ведь смерть меняет нас куда больше, чем это может заметить взор человеческий. Чаще всего перед нами предстает душа, реже она облекается плотью (иными словами, телом, в котором она некогда обреталась, но бывает и так, что в наш мир приходит лишь тело, лишенное души. Это подтверждается многими свидетельствами тех, кому случилось видеть восставших из могил, которые не обладали ни обычными чувствами, ни памятью, зато бывали преисполнены ненавистью. А еще известно, что души, при жизни праведные, по смерти делаются вместилищами зла.
Хали
I
Посреди темной летней ночи мужчина, спавший в лесу, пробудился от забытья, в котором не было сновидений. Он приподнялся на локте, осмотрелся – вокруг был только лес – и вдруг сказал: «Кэтрин Ларю». Только это и сказал, да и то, признаться, неизвестно почему.
Звали этого мужчину Альпин Фрейзер. Раньше он жил в городке Санта-Элена, а где он обретается сейчас, никто толком не скажет, поскольку его уже нет в живых. Тому, кто имеет обыкновение спать в лесу, когда периной служит голая земля, усыпанная лишь прошлогодней листвой, а покрывалом – небеса, некогда исторгшие землю и видимые теперь сквозь листья, которым вскоре предстоит опасть, не стоит рассчитывать на долголетие. Фрейзеру уже сровнялось тридцать два. В нашем с вами мире миллионы людей – кстати, самые лучшие из нас, – считают такой возраст едва ли не преклонным. Я имею в виду детей. Они ведь смотрят на жизнь, так сказать, из порта отбытия, и потому им кажется, что любой корабль, уже поплававший по ней, совсем близок к той, последней гавани. Я, однако, не решусь утверждать, что смерть Альпина Фрейзера наступила в силу каких-то обыденных причин.
Весь прошлый день он бродил по лесистым горам к западу от долины Напа, выслеживая голубей и прочую дичь. Ближе к вечеру облака затянули небо, и Альпин Фрейзер сбился с пути. Ему следовало бы спуститься в долину – там было бы безопаснее, – но он, заплутав, так и не нашел тропы. Вот и вышло, что ночь застала его в лесу. В темноте он не смог пробраться сквозь заросли толокнянки и прочую поросль, и пришлось ему, усталому и раздосадованному, удовольствоваться пологом большого земляничного дерева. Сон мгновенно овладел им. Минуло несколько часов, и в полуночную пору кто-то из вестников Господних, что сонмами летят на запад, предваряя рассвет, шепотом своим прервал его сон. Фрейзер проснулся, и с его уст неизвестно почему слетело незнакомое имя.
Альпин Фрейзер не был ни философом, ни естествоиспытателем. То, что проснувшись в лесу, он вслух произнес имя, которого явно не было прежде в памяти и которому просто неоткуда было прийти на ум, не вызвало в нем желания разобраться в явлении. Мелькнула было мысль, что это довольно странно, он поежился, – но это могло быть и от ночной прохлады, – а потом улегся поудобнее и снова уснул. Но теперь его забытье наполнилось сновиденьями.
Ему снилось, будто он идет по дороге, покрытой белой пылью и потому ясно видимой во тьме летней ночи. Он не знал, откуда и куда она ведет, не знал, почему и зачем он идет по ней, все казалось ему вполне естественным, как это обычно бывает во сне. В Сонной Стране ничто не способно нас удивить, поскольку здравый смысл тоже отдыхает. Вскоре он оказался на распутье: в сторону шла тропа, по которой, как ему показалось, уже давно никто не ходил – ведь она вела к неминучей беде. И все-таки он свернул на нее, точнее сказать, его заставила свернуть какая-то властная сила.
Вскоре он осознал, что ему сопутствуют невидимые существа, для которых у него не было названия. Из-за деревьев, что высились по обеим сторонам дороги, до его ушей долетал едва слышный шепот на каком-то странном языке, который он, впрочем, отчасти понимал. И из этих внятных обрывков он уяснил себе, что кто-то злоумышляет сотворить с его плотью и душой нечто чудовищное.
Уже давно стемнело, но бесконечный лес, через который он шел, был наполнен бледным свечением, и не понять было, откуда оно идет, ибо свет был, но не было теней. В колее блеснула лужица, наверное, оставшаяся от последнего дождя, но отблеск был багровым. Он наклонился, макнул в нее пальцы, и они сделались красными – то была кровь! Он огляделся и увидел, что кровью забрызгано все вокруг. Особенно заметными были пятна на широких листьях сорняка, которым заросли обочины. Да и пыльную полосу между колеями изрябили красные ямки, словно после кровавой мороси. А по древесным стволам ползли алые потеки, и листья были обрызганы кровавой росой.
Он смотрел на все это со страхом, который странным образом уживался в его душе с ощущением, что так все и должно быть. Ему казалось, будто так вершится его кара за некое преступление, кара вполне справедливая, хотя вины за собой он не помнил. К тому, что творилось вокруг, добавились еще муки совести, и ужас из-за этого стал сильнее. Он понапрасну ворошил свою память, стараясь отыскать корни своего греха – образы и сцены сбились в его мозгу невообразимой кучей, одна картина наслаивалась на другую, и обе вдруг переворачивались и растворялись в хаосе, нигде не виделось даже намека на то, что он искал. И неудача эта влекла за собой новый ужас; Альпин Фрейзер чувствовал себя так, как если бы убил кого-то в темноте, невесть кого, невесть почему. Положение, в котором он очутился, можно было назвать беспросветным, хотя вокруг и разливалось сияние, зловещее и таинственное, сулящее что-то невыразимо ужасное; со всех сторон толпились, уже не таясь, деревья, травы и кусты, издавна и повсюду известные своей вредоносностью, отовсюду неслись шепотки и вздохи потусторонних созданий. Не в силах доле выносить этот ужас, страстно желая разбить колдовские оковы, что заставляли его молчать и стоять недвижно, он закричал во весь свой голос! Но крик его, казалось, тут же раздробился на множество причудливых голосков, которые, перекликаясь, унеслись в лесную глушь и там затихли. Ничто вокруг не изменилось, но Альпин Фрейзер приободрился.
– Я не покорюсь, – сказал он вслух. – Не одни же демоны властвуют на этой проклятой дороге, здесь могут быть и добрые силы. Я оставлю им послание, расскажу им о своих ошибках и скитаниях… я, немощный смертный, кающийся грешник, кроткий поэт!
Здесь следует сказать, что поэтом – да и кающимся грешником тоже – Альпин Фрейзер был только во сне.
Достав из кармана записную книжку в переплете красной кожи – исписана она была лишь наполовину – он вспомнил, что карандаша у него нет. Тогда он отломил с куста ветку, обмакнул в кровавую лужицу и принялся лихорадочно писать. Но как только ветка коснулась листа, из какого-то отдаленнейшего далека до него донеслись раскаты дикого хохота. С каждым мгновением он приближался, делаясь все громче и громче, этот ледяной, безрадостный, нечеловеческий хохот, похожий на крик гагары над пустым полночным озером. Наконец он перешел в истошный вопль, причем вопили, похоже, совсем рядом, а потом затих, словно лютая тварь, из чьей глотки он исходил, убралась за пределы нашего мира. Но Альпин Фрейзер чувствовал, что чудовище притаилось где-то неподалеку.
Мало-помалу его телом и разумом овладело странное ощущение. Он не мог бы сказать, через какой из органов чувств оно просочилось; казалось, они тут вовсе не при чем – это больше походило на прямое, непосредственное знание. Неизвестно почему он уверился, что рядом обретается нечто злое, сверхъестественное, но совершенно иной природы, чем роящиеся вокруг создания, а главное – много превосходящее их своею мрачной мощью. Теперь он знал наверняка, что именно оно так страшно хохотало. И теперь оно неумолимо приближалось к нему, но откуда, с какой стороны – он не знал… а оглядеться боялся. Все прежние страхи отлетели, вернее сказать, их поглотил неописуемый ужас. Поглотил он и Альпина Фрейзера, всего, целиком. В голове билась лишь одна мысль: надо дописать послание силам добра, которые все-таки заглянут сюда когда-нибудь, заглянут и спасут его, если, конечно, ему не будет даровано блаженное небытие. Сочащаяся кровью ветка забегала по листу с невероятной быстротой, но вдруг посреди строки руки отказались служить и повисли, как плети, а записная книжка упала на землю. И тогда Альпин Фрейзер, не имеющий уже сил ни двинуться, ни хотя бы крикнуть, увидел прямо перед собой бледное лицо и пустые, мертвые глаза своей матери. Она молча стояла перед ним в белом смертном облачении!
II
Свое детство и юность Альпин провел с родителями в Нэшвилле, штат Теннесси. Семейство Фрейзеров было зажиточным и пользовалось уважением в обществе, точнее сказать, среди его остатков, переживших гекатомбу гражданской войны. Детям своим они дали самое лучшее воспитание и образование, какое можно было дать в то время и в тех краях, а уж наставники постарались привить им хорошие манеры и развить умственные способности. Альпин, ребенок не самого крепкого здоровья, был в семье самым младшим, и мать буквально носилась с ним. Что же до отца, то он едва обращал на мальчика внимание; как большинство состоятельных южан, Фрейзер-старший всецело отдавал себя политике, точнее сказать, делам штата и округа. То, что говорили домашние, он пускал мимо ушей, ему были более привычны споры государственных мужей, к числу которых он, само собой, причислял и себя.
Со временем Альпин превратился в мечтательного, даже, пожалуй, романтического юношу, мало склонного к какой-либо практической деятельности; юриспруденции, которой предстояло стать его профессией, он явно предпочитал литературу. Те из его родственников, кто уверовал в теорию наследственности, считали, что в нем воплотилась натура Майрона Бейна, прадеда по материнской линии. Тот тоже более всего был склонен к романтической созерцательности, что отнюдь не помешало ему сделаться одним из заметных поэтов колониальной эпохи. Наверное, каждый из Фрейзеров был обладателем роскошно изданного сборника его поэтических опусов, который был отпечатан за счет семейства и довольно быстро исчез из книжных лавок Но к Альпину семейство относилось с явственным предубеждением, подозревая в нем этакую паршивую овцу, которая, того и гляди, опозорит все стадо, заблеяв в рифму. Фрейзеры из Теннеси были людьми практичными, хотя филистерами их никто бы не назвал. Просто в их кругу осуждалось все, что могло отвлечь мужчину от его естественного занятия – политики.
Некоторым оправданием юному Альпину могло служить лишь то, что при всех своих качествах, унаследованных, если верить семейному преданию, от барда-аристократа колониальных времен, сам он поэтическим талантом не обладал. Он никогда не пытался оседлать Пегаса, более того, не смог бы даже под страхом смерти породить стихотворную строфу. Но мог ли кто поручиться, что дар этот однажды не проснется в нем и рука не потянется к кифаре?
А пока юноша рос, ни в чем не испытывая недостатка. Мать свою он очень любил, равно как и она его. Здесь надо еще сказать, что миссис Фрейзер была преданной поклонницей покойного Майрона Бейна, хотя природная женская скромность, – которую злые языки предпочитают называть коварством – заставляла ее держать эту привязанность в тайне ото всех, кроме сына, питавшего к своему прадеду те же чувства. Естественно, эта общая тайна связывала их еще крепче. Пожалуй, можно было согласиться, что мать избаловала юного Альпина, да он и не сопротивлялся. Достигнув же зрелой поры, если так можно сказать о южанине, который не интересуется политикой, он еще сильнее привязался к матери – очаровательной женщине, которую он с детских лет привык звать просто Кэти. В этих двух мечтательных натурах словно воплотилось свойство, природу которого обычно толкуют превратно: преобладание чувственного начала во всех жизненных проявлениях, способное украсить и обогатить даже обычные отношения кровных родственников. Мать и сын были буквально неразлучны, и люди посторонние нередко принимали их за возлюбленных.
Но однажды Альпин Фрейзер зашел в будуар матери, поцеловал в лоб, тронул ее черный локон и спросил, с трудом скрывая волнение:
– Кэти, ты не будешь возражать, если я на несколько недель съезжу по делам в Калифорнию?
Она могла бы и не отвечать: бледность, залившая ее щеки, была весьма красноречива. Кэти явно намеревалась возражать, и слезы в ее больших карих глазах были тому подтверждением.
– Сынок, – сказала она, глядя на Альпина с бесконечной нежностью, – я ждала чего-то такого. Неспроста я не спала полночи и плакала. Мне приснился дедушка Бейн. Он стоял у своего портрета, такой же молодой и красивый, как на нем, и указывал на твой портрет, что висит рядом. Я посмотрела и не увидела твоего лица: оно было закрыто платком, как у покойника. Я рассказала сон твоему отцу – он только посмеялся. Но мыто с тобой знаем, что такое вот без причины не снится. А пониже платка я увидела синяки, словно от чьих-то пальцев… прости, но ведь мы никогда ничего не скрываем друг от друга. Как прикажешь это толковать? Конечно, ты скажешь, что к твоей поездке это не имеет никакого отношения. А может, мне стоит поехать с тобой?
Надо сказать, что такое толкование сновидения, хоть и согласовывалось с новомодными теориями, не произвело на сына особого впечатления, поскольку он более матери был склонен к логическому мышлению. Ему в ту минуту показалось, что сон этот никак не связан с поездкой на тихоокеанское побережье, скорее уж предвещает, что его удушат здесь и сейчас.
– А может, в Калифорнии есть какие-нибудь целебные воды? – спросила миссис Фрейзер прежде, чем Альпин успел высказать свое толкование ее сна. – Нужно же мне, наконец, избавиться от ревматизма и невралгии. Смотри, пальцы у меня едва гнутся. Наверняка это из-за них я не могу даже спать толком.
Она протянула сыну руки, чтобы он убедился сам. Нам неизвестно, какой диагноз поставил ей молодой человек, ибо он счел за благо промолчать, только улыбнулся; скажем лишь, что еще ни один мнительный пациент не предъявлял врачу пальцев более гибких и менее подверженных приступам боли.
В конечном итоге из этих двух своеобразных натур, имеющих одинаково необычные представления об обязанностях, один поехал в Калифорнию, как того требовали интересы его клиента, другая же осталась дома, не без терзаний, которых, впрочем, муж даже не заметил. В Сан-Франциско Альпин Фрейзер противу своего желания стал моряком. Проще говоря, его напоили, и проснулся он уже в открытом море на борту этакого развеселого парусника. Но злоключения его тем не кончились: корабль сел на мель у необитаемого острова, расположенного в южной части Тихого океана. Только через шесть лет уцелевших моряков приняла на борт и доставила в Сан-Франциско некая торговая шхуна.
И хотя в кошельке Альпина Фрейзера гулял ветер, духом он остался столь же горд, как и в прежние годы, казавшиеся теперь такими далекими: он отверг помощь, предложенную посторонними людьми, и поселился с одним из своих собратьев по несчастью в окрестностях городка Санта-Элена, ожидая вестей и денежного вспомоществования из дома. Вот в эти-то дни он и отправился на охоту, которая и завершилась вынужденной ночевкой в лесу.
III
To, что предстало взору нашего мечтателя в заколдованном лесу – видение, так похожее и так не похожее на его мать, – было ужасно! Душа его не отозвалась ни любовью, ни тоской, ни воспоминаниями о золотой поре юности, ни каким-либо иным чувством: все вытеснил невыносимый ужас. Он хотел бежать, но ноги словно приросли к земле. Руки повисли, беспомощные и бесполезные, и только глаза еще не утратили способности видеть. Фрейзер никак не мог отвести взгляд от блеклых глаз призрака. Он вдруг понял, что перед ним вовсе не бестелесная душа, а самое страшное из всего, что можно встретить в лесу, полном призраков, – тело, лишенное души! В пустом взгляде не читалось ни любви, ни жалости, словом, ничего, что позволяло бы надеяться на пощаду. «Апелляция отклоняется», – невесть почему мелькнула в голове Альпина процессуальная формула, и ее совершенная неуместность только усилила ужас; так разверстая могила кажется еще страшнее, если над нею чиркнуть спичкой.
Долго-долго – казалось, за это время весь мир успел поседеть от старости и грехов, а лес, породивший чудовище, напрочь стереться из сознания вместе со свечением и шепотами – Фрейзера буравил взгляд, в котором не было ничего, кроме алчности дикого зверя. Потом призрак вытянул вперед руки и яростно бросился на свою жертву! Тут силы вернулись к Альпину, хотя воля его по-прежнему была парализована ужасом; разум был помрачен, но сильное тело и ловкие члены сопротивлялись сами, словно были наделены собственной жизнью, слепой и нерассуждающей. Несколько мгновений он, словно во сне, наблюдал это неестественное состязание омертвелого рассудка с машиной из плоти и крови, потом вновь обрел власть над собой, облекся в собственное тело и стал бороться с яростью, едва ли уступающей ярости его ужасного супостата.
Но может ли смертный одолеть порождение собственного сна? Сознание, породившее такого врага, побеждено с самого начала, и исход схватки предрешен ее причиной. И хотя дрался он отчаянно, все его усилия пропали втуне и ледяные пальцы в конце концов сомкнулись у него на горле. опрокинутый наземь, он еще успел увидеть совсем рядом мертвое лицо, искаженное яростной гримасой, а потом все поглотила тьма. Послышался рокот, словно где-то вдалеке били барабаны, потом невнятные голоса и вопль, после которого все смолкло. Альпину Фрейзеру приснилось, что он умер.
IV
После теплой ясной ночи наступило сырое туманное утро. А накануне, ближе к полудню, у западного склона горы Санта-Элена, ближе к ее голой вершине, появилось нечто такое, что и облаком-то нельзя назвать, скорее уж эскизом облака, этаким воздушным сгущением. Оно было так эфемерно, так зыбко, так похоже на сон, готовый вот-вот воплотиться, что хотелось воскликнуть: «Смотрите, смотрите скорее! Сейчас оно растает!». Но уже через минуту оно стало больше и плотнее. Уцепившись краем за вершину, оно поползло над склоном, разрастаясь как к северу, так и к югу, поглощая облачка поменьше, которые словно именно для этого и висели над горой. Оно все росло и росло. Сперва оно скрыло вершину горы, потом затянуло всю долину необъятным серым пологом. В Калистоге, что стоит у самого подножья горы, ночь была беззвездной, а утро пасмурным. Туман, опустившийся в долину, пополз к югу, накрывая одно ранчо за другим, а вскоре заполонил и городок Санта-Элена, расположенный в девяти милях от Калистоги. Пыль, напитавшись влагой, осела на дороги, с листьев капало, птицы забились в свои гнезда, а утренний свет был тусклым и бледным – ни бликов, ни ярких красок.
С рассветом двое мужчин вышли из Санта-Элены и двинулись на север долины, в сторону Калистоги. За плечами у них висели ружья, но никто из местных нипочем не принял бы их за охотников. Одного из них звали Холкером, он был в Напе помощником шерифа, второго, детектива из Сан-Франциско, Джералсоном. А охотиться они привыкли на людей.
– Далеко еще? – спросил Холкер. Шли они уже довольно долго, оставляя во влажной дорожной пыли цепочки светлых сухих следов.
– До Белой Часовни? С полмили или меньше, – ответил его спутник и добавил: – Собственно, никакая это не часовня, и вовсе она не белая – просто заброшенное здание школы, давно посеревшее от старости. Когда-то, правду сказать, в нем проводились службы и стены у него были побелены, но сейчас там только кладбище и осталось, такое, знаете ли, способное впечатлить поэта. Кстати, вы не догадываетесь, зачем я вас с собой позвал, да еще и оружие попросил захватить?
– Я не люблю гадать. Сами скажете, когда придет время. Впрочем, если угодно, вот вам мое предположение: вам нужна моя помощь, чтобы арестовать кого-то из тамошних покойников.
– Бранскома помните? – спросил Джералсон, оставив без внимания шутку, чего она, впрочем, только и заслуживала.
– Типа, который перерезал горло жене? Конечно, помню. Неделю на него угробил, да и потратился изрядно. За него обещали пять сотен долларов, но его словно черти унесли. Так вы хотите сказать, что?..
– Именно. Все это время он был у вас под носом. А по ночам он приходит на старое кладбище у Белой Часовни.
– Черт! Ведь именно там похоронили его жену.
– Точно. И можно было догадаться, что рано или поздно он придет к ней на могилу.
– Вот там-то, пожалуй, ему бы и не следовало маячить.
– Но все прочие возможные места вы уже переворошили. Вот я и решил устроить засаду на кладбище.
– И прищучили его?
– Ни черта подобного! Это он меня прищучил. Мерзавец подкрался сзади и взял меня на мушку. Пришлось уносить ноги. Еще слава Богу, что не продырявил. Скажу я вам, это тот еще тип. Так что, если вы не против, вознаграждение можем поделить пополам.
Холкер добродушно хохотнул и доверительно сообщил, что сейчас его кредиторы совсем остервенели.
– Сначала давайте хорошенько осмотрим место, а уж потом и план составим, – предложил детектив. – А оружие, подумал я, нам и днем не помешает.
– Готов присягнуть, что этот тип – сумасшедший, – заметил помощник шерифа. – А вознаграждение полагается за поимку и водворение в тюрьму. Психопату же место не в тюрьме, а в желтом доме.
Мистера Холкера так поразила возможность такого исхода, что он даже остановился посреди дороги, а когда двинулся дальше, прежнего рвения в нем заметно не было.
– Вполне может быть, – согласился Джералсон – Правду сказать, такого небритого, нестриженного, грязью заросшего и так далее типа можно встретить лишь среди рыцарей древнего и славного ордена бродяг. Но раз уж дело начато, надо его закончить. Как бы ни повернулось, слава от нас никуда не денется. Ведь никто, кроме нас с вами, не знает, что он крутится по эту сторону Лунных гор.
– Ладно… – сказал Холкер. – Пойдемте осмотрим место. – Он добавил излюбленную составителями эпитафий формулу: – «Где и мы упокоимся в свой черед»… причем довольно скоро – когда Бранскому надоест, что мы шныряем вокруг его лежки. Кстати, я слышал, будто Бранском – не настоящая его фамилия.
– И как же его звать по-настоящему?
– Не могу вспомнить, хоть вы меня убейте. Я позабыл было об этом мерзавце, ну, и фамилия в памяти не задержалась. Парди, кажется… или что-то в этом роде. А женщина, которой он перерезал горло, ко времени их встречи была вдовой. В Калифорнию она приехала, надеясь отыскать какого-то родственника… такое бывает не так уж редко. Ну, да вы и без меня это знаете.
– Конечно, знаю.
– А как же вы, не помня имени, установили нужную могилу?
– Я ее так и не установил, – с заметной неохотой признался Джералсон. – Просто осмотрел кладбище, так сказать, в целом. Ну, вдвоем-то мы и могилу найдем. Кстати, вот и Белая Часовня.
Дорога, до тех пор стелившаяся меж полей, теперь подошла к густому лесу. Теперь слева от нее поднимались дубы, мадронии и высоченные ели, а поросль помельче тонула в тумане. Подлесок был очень густой, но вполне проходимый. Сперва Холкер не разглядел Белую Часовню, но когда они вошли в лес, в тумане обрисовались ее контуры. Оттуда здание виделось очень большим, и казалось, что до него еще идти и идти. Но буквально через несколько шагов сыщики очутились совсем рядом с нею – посеревшее от сырости строение весьма скромных размеров, выдержанное в том стиле, который порой называют ящичным, типичном, впрочем, для сельских школ. Фундамент из валунов, поросшая мхом крыша, пустые, без стекол и рам, оконные проемы – все было при ней. Здание ветшало, но в руину еще не обратилось, и являло собой типичный калифорнийский вариант того, что путеводители для европейцев именуют памятниками американской старины. Джералсон едва удостоил строение взглядом и двинулся дальше через сочащийся влагой подлесок.
– Сейчас покажу место, где Браском меня прищучил, – сказал он. – Кладбище – вот оно.
Среди кустов стали попадаться ограды, в которых чаще всего было не более одной могилы. О том, что это именно могилы, говорили выцветшие камни и полусгнившие доски, стоящие под всевозможными углами в изголовьях и изножьях, а порой и вовсе поваленные. А там, где ограды давно повалились и истлели, могилу позволял определить белый гравий, заметный под палой листвой. Хватало тут и безымянных могил, где останки бедняги, оставившего в нашей юдоли скорби «множество безутешных друзей», пребывали в полном от них забвении под осевшими холмиками, более долговечными, чем людская память. Если здесь когда-то и были дорожки, они давно уже заросли, на иных могилах успели вырасти довольно большие деревья, чьи корни и ветви напирали на ограды и в конце концов сокрушали их. На кладбище этом в полной мере ощущалась атмосфера тлена и запустения, в особенности свойственная позабытым некрополям.
Джералсон и Холкер решительно ломились сквозь молодую поросль, но детектив – он шел первым – вдруг замер, жестом остановил спутника и сдернул с плеча ружье. Он пристально рассматривал что-то впереди. Холкер тоже насторожился, хотя и не заметил ничего подозрительного. Секунду-другую спустя Джералсон осторожно двинулся вперед, и компаньон последовал за ним.
Под гигантской елью, широко распростершей свои ветви, лежал мертвец. Подойдя к телу, сыщики внимательно его осмотрели, пытаясь в самых общих признаках – одежде, выражению лица, положению тела – отыскать ответ на вполне естественный вопрос.
Мертвец лежал на спине, ноги были широко раскинуты, одна рука закинута за голову, другая прикрывала горло, кулаки – сведены смертной судорогой. Все говорило о том, что покойный отчаянно, хотя и безуспешно, сопротивлялся. Но кому… или чему?
Рядом с телом валялись дробовик и ягдташ, из-под сетки которого топорщились перья подстреленных птиц. Вокруг все тоже свидетельствовало о жестокой схватке: побеги падуба надломлены, кора местами содрана, палая листва по сторонам от ног мертвеца разворошена до земли, там же заметны были и две вмятины, явно от чьих-то колен.
Кое что прояснилось, когда сыщики осмотрели лицо и шею мертвеца. Его руки и грудь были белыми, лицо же – багровым, почти черным. Плечи лежали на небольшой кочке, а голова была повернута под неестественным углом. Мертвые глаза пялились куда-то вверх и вдаль. На губах застыла пена, изо рта свисал язык, почерневший и разбухший. На горле видны были страшные следы: не просто синяки от пальцев, а сплошной кровоподтек, да еще и рваные раны. Кто-то, обладавший невероятной силой, долго еще терзал это горло, когда несчастный был уже мертв. И грудь, и горло, и лицо мертвеца были влажны, одежда промокла насквозь, капли росы блестели в шевелюре и на усах.
Осматривая тело, они не обменялись ни словом – все и так было ясно обоим.
– Вот бедняга! – сказал наконец Холкер. – Ну и досталось же ему.
Джералсон, взяв ружье на изготовку, внимательно осмотрел заросли вокруг.
– Дело рук законченного психопата, – сказал он, не отводя взгляда от кустарника. – Не удивлюсь, если это был Бранском, он же Парди.
Тут Холкер высмотрел в палой листве что-то красное. Это была записная книжка в кожаном переплете. Он поднял ее и перелистал. На первой странице значилось: «Альпин Фрейзер». Далее шли стихотворные строфы, написанные чем-то красным и явно в страшной спешке. Пока Джералсон придирчиво осматривал подернутые туманом окрестности и вслушивался, не слыша, впрочем, ничего, кроме капель росы, падающей с листьев, Холкер стал читать вслух, с трудом разбирая торопливый почерк:
- Под мрачной сенью чащи колдовской,
- Нездешним, зыбким светом осиянной,
- Где сплелся падуб ветками с сосной,
- Стоял я и тоской томился странной.
- У стоп моих – дурман и белена,
- Бессмертник чахлый побежден крапивой.
- Поодаль, молчалива и мрачна,
- Склонила ветви траурная ива.
- Казалось, будто лес навек уснул.
- Недвижный воздух тленьем был напитан.
- Не слышно птиц, умолк пчелиный гул.
- Все саваном безмолвия укрыто.
- Вдруг – шепот, тихий, слышимый едва, —
- То призраков сплотился сонм унылый.
- Сочились кровью листья и трава,
- Мерещилась разверстая могила…
- Я закричал, но лес рассеял звуки.
- Длань ледяная мне зажала рот.
- Не знаю я, за что мне эти муки,
- Не ведаю я, кто меня спасет.
- Но вдруг незримый…
Холкер умолк больше читать было нечего – рукопись обрывалась на середине строки.
– Похоже на Бейна, – сказал Джералсон, обнаруживая знания, неожиданные для детектива. Он был уже не так насторожен и спокойно смотрел на тело.
– А кто это? – спросил Холкер, больше ради приличия.
– Майрон Бейн, лет сто назад он был довольно известным поэтом. Стихи у него, надо сказать, были на редкость мрачные. У меня есть его томик, но этого стихотворения я не помню. Наверное, позабыли включить.
– Экая мозглая погода, – поежился Холкер. – Пойдемте отсюда. Нам ведь еще надо вызвать коронера из Напы.
Джералсон молча кивнул; обходя кочку, на которой покоились плечи убитого, он споткнулся обо что-то. Он разворошил листву, и открылось надгробие с едва различимой надписью «Кэтрин Ларю».
– Ларю, конечно же, Ларю! – с воодушевлением воскликнул Холкер. – Ларю, а вовсе не Парди – вот настоящая фамилия Бранскома. Господи!.. А ведь женщина, которую он зарезал, прежде звалась миссис Фрейзер!
– Здесь какая-то адская тайна, – пробормотал детектив Джералсон. – Не нравится мне все это.
Тут из дали, затянутой туманом, до них донесся смех – хриплый, бездушный и какой-то искусственный. Радости в нем было не больше, чем в хохоте гиены, тревожащем безмолвную ночь. Он становился все громче, слышался все ближе и ближе, делался все страшнее. Казалось, хохочущее существо вот-вот выступит из тумана. И таким отвратительным, таким нечеловеческим, скорее уж дьявольским был этот хохот, что души бывалых охотников на людей преисполнились ужасом! Они даже не вспомнили о своих ружьях – против такого пули бессильны. Вскоре хохот стал затихать, так же медленно, как только что нарастал, и наконец его последние тоскливые всхлипы истаяли, и воцарилось беспредельная тишина.
Страж покойника
I
Мертвец, покрытый саваном, лежал в одной из верхних комнат заброшенного дома, стоящего в том районе Сан-Франциско, который известен под названием Норт Бич. Было около девяти вечера, комната слабо освещалась единственной свечой. Оба окна были закрыты, даже шторы задернуты, хотя погода стояла теплая, да и покойникам издавна повелось предоставлять побольше воздуха. Из мебели в комнате стояли лишь кресло, конторка, на которой горела свеча, и большой кухонный стол; на нем и лежало тело. Человек наблюдательный сразу определил бы, что все эти предметы – и труп в том числе – принесли сюда недавно: на них не успела осесть пыль, а весь пол был покрыт ею, словно ковром, да и в углах тенет хватало.
Контуры тела вырисовывалось под простыней вполне отчетливо, угадывались даже черты лица, неестественно острые, что, как принято считать, свойственно всем покойникам, на самом же деле – лишь тем, кого свела в гроб долгая изнурительная болезнь. В комнате было тихо, и это позволяло полагать, что окна выходят не на улицу. Они и вправду упирались в высокий утес – дом был по существу пристроен к скале.
Когда часы на колокольне неподалеку начали отбивать девять, – так монотонно и лениво, что трудно было понять, зачем они вообще еще идут, – дверь в комнату отворилась, впуская мужчину, и тут же захлопнулась, словно сама по себе. В скважине натужно заскрежетал ключ, замок щелкнул, за дверью послышались шаги и вскоре стихли. По всему выходило, что мужчину заперли. Он подошел к столу, с минуту постоял, глядя на тело, потом дернул плечом, подошел к одному из окон и отвел штору. За окном царила темнота. Человек смахнул со стекла пыль и увидел, что снаружи окно забрано железной решеткой, вмурованной в кладку. Он осмотрел другое окно и обнаружил то же самое. Похоже, это его не удивило: он даже не стал поднимать раму. Если он и был заключенным, то вполне покладистым. Закончив осматриваться, он сел в кресло, достал из кармана книгу, придвинул конторку со свечой и погрузился в чтение.
Мужчина – смуглый, темноволосый, гладко выбритый – был довольно молод, не старше тридцати. Лицо у него было худощавое, нос с горбинкой, лоб широкий, а подбородок того типа, который принято называть волевым. Серые глаза смотрели пристально, цепко, их обладатель явно не привык озираться по всякому поводу. Но сейчас молодой человек смотрел в книгу. Впрочем, временами он отрывался от строк и взглядывал на тело. Наверное, есть все-таки у мертвых некая таинственная притягательная сила, которой поддаются даже смелые люди. Точнее сказать, именно смелые и поддаются – робкий в такой обстановке старался бы отвернуться. Этот же смотрел на мертвеца так, будто вспоминал о нем только из-за того, что прочел в книге. Проще сказать, сторож при покойнике делал свое дело наилучшим образом: толково и без аффектации.
Через полчаса или около того он отложил книгу – наверное, дочитал главу. Потом встал, отнес конторку в угол, к окну, взял с нее свечу и вернулся к пустому камину, близ которого сидел с самого начала.
Чуть погодя он подошел к мертвецу и приподнял край простыни, открыв копну темных волос и тонкий платок на лице, под которым черты покойного казались еще более резкими. Заслонясь от света свободной рукой, он некоторое время смотрел на своего бездыханного соседа, смотрел спокойно, серьезно и с подобающей почтительностью. Опустив покров на лицо, он вернулся в свое кресло, взял с подсвечника несколько спичек и положил в карман. Потом вынул из подсвечника огарок и критически осмотрел, явно прикидывая, надолго ли его хватит. От свечи оставалось менее двух дюймов – через час ему предстояло очутиться в полной темноте. Молодой человек вернул свечу на место и задул ее.
II
В кабинете врача на Кэрни-стрит трое мужчин пили пунш и курили. Время шло к полуночи, и пунша было выпито много. Хозяину, доктору Хелберсону было лет тридцать, его гости были моложе. Все трое были медиками.
– Суеверный ужас, с которым живой относится к мертвому неистребим, – заявил доктор Хелберсон. – Все мы с ним рождаемся. А постыден он не больше, чем прирожденное отсутствие способностей к математике или, скажем, склонность ко лжи.
Гости рассмеялись.
– Разве человеку не пристало стыдиться заведомой лжи? – спросил самый младший, еще студент.
– Дорогой мой Харпер, я не о том. Согласитесь: склонность ко лжи – одно, а сама ложь – другое.
– Итак, вы утверждаете, – вступил в разговор третий, – будто этот суеверный, иррациональный страх перед мертвецами присущ всем без исключения? А вот я, например, ничего такого не испытываю.
– И все-таки он у вас, что называется, в крови, – стоял на своем Хелберсон. – И при определенных условиях, когда наступит, говоря словами Шекспира, «удобный миг», проявится во всю свою силу. Конечно, медики и солдаты подвержены ему менее прочих.
– «Медики и солдаты»! А почему вы не назвали еще и палачей? Тогда убийцы всех мастей были бы налицо.
– Нет, дорогой мой Мэнчер, присяжные не дают палачам так свыкнуться со смертью, чтобы не бояться ее.
Юный Харпер взял со столика сигару и вернулся в свое кресло.
– И при каких же, по вашему мнению, условиях, человек, рожденный женщиной, мог бы однозначно понять, что и он не чужд этой всеобщей слабости? – довольно витиевато вопросил он.
– Ну-у… Если бы кого-то заперли на всю ночь с трупом в каком-нибудь заброшенном доме, в темной комнате, где нет даже одеяла, чтобы накрыться им с головой и не видеть своего компаньона, и он пережил бы ночь, сохранив здравый рассудок, он мог бы потом похваляться, что не рожден женщиной и даже не добыт кесаревым сечением, как шекспировский Макдуф.
– Я уж испугался, что этим вашим условиям конца не будет, – сказал Харпер. – А я вот знаю человека, не медика и не солдата, который на пари решится на такое при всех ваших условиях.
– Кто же это?
– Его зовут Джерет. Он нездешний, приехал, как и я, из Нью-Йорка. У меня нет денег, чтобы поставить на него, но он сам выставит любой заклад.
– Почему вы так уверены?
– Так он же заядлый игрок. А что до страха, то Джерет, насколько я знаю, считает его чем-то вроде чесотки… или ереси, если угодно.
– А как он выглядит? – В вопросе Хелберсона забрезжило любопытство.
– Похож на Мэнчера, причем изрядно… Сошел бы, я думаю, за его брата-близнеца.
– Я принимаю пари, – тут же сказал Хелберсон.
– Премного вам обязан за комплимент, – пробормотал Мэнчер, который за этим разговором чуть не задремал. – А мне поставить можно?
– Только не против меня, – сказал Хелберсон. – Вас мне разорять не хочется.
– Что ж, – сказал Мэнчер, – тогда я буду мертвецом.
Хелберсон и Харпер рассмеялись.
Итог этого сумасбродного разговора нам известен.
III
Мистер Джерет задул свечной огарок, сберегая его для какого-нибудь особого случая. Возможно, он решил так если уж темноты все равно не избежать, лучше иметь в запасе такого вот рода козырь – когда станет совсем уж невмоготу, свет поможет отвлечься. Или успокоиться. К тому же огарок мог пригодиться хотя бы для того, чтобы смотреть на часы.
Загасив свечу и поставив подсвечник на пол рядом с собой, он поудобнее устроился в кресле и смежил веки, собираясь вздремнуть. Но не тут-то было: уже через несколько минут Джерету стало совершенно ясно, что заснуть не удастся нипочем. Что ему оставалось делать? Ведь не бродить же ощупью в темноте с риском споткнуться и упасть или, того хуже, наткнуться на стол и потревожить мертвеца. Все мы сходимся на том, что мертвым следует обеспечить покой и своего рода иммунитет от внешних воздействий. Джерету удалось убедить себя самого, что он остается в кресле и воздерживается от прогулок во тьме только в силу этих резонов.
Когда он размышлял обо всем этом, ему почудилось, будто от стола донесся какой-то звук, слабый, едва внятный. Джерет даже головы не повернул. Да и много ли было от этого толку в кромешной темноте? Вместо этого он прислушался – и тут же ощутил такое головокружение, что вцепился в подлокотники. В ушах звенело, голова буквально разламывалась, грудь словно обручем сдавило. «Что это? – мелькнула мысль. – Неужели я испугался?» Тут грудь его сама собой опустилась – он выдохнул. Джерет судорожно вдохнул, и едва легкие наполнились новым воздухом, голова перестала кружиться. Прислушиваясь, он так затаил дыхание, что чуть не задохнулся. Поняв это, он досадливо поморщился. Потом встал, отодвинул кресло коленом и сделал несколько шагов. Но темнота – не для прогулок; и Джерету тут же пришлось ощупью искать стену и дальше идти, держась за нее. Он дошел до угла, повернул, миновал окно, потом другое, но в следующем углу налетел на конторку. Она с грохотом упала – Джерет вздрогнул и тут же разозлился на себя. «Вот дьявольщина! – бормотнул он, пробираясь вдоль стены в сторону камина. – Как я мог забыть, где она стоит? Надо бы поставить ее на место».
Он пошарил по полу и, найдя свечу, зажег ее и первым делом посмотрел на стол. Там, конечно, все было по-прежнему. Что до конторки, то она так и осталась валяться на полу – Джерет позабыл «поставить ее на место». Он внимательно осмотрел комнату, поднося свечу к тем местам, где залегали особенно густые тени, потом подошел к двери и попытался открыть ее, крутя и дергая ручку. Дверь не поддалась, и это даже успокоило его. Тут Джерет увидел засов, которого раньше не заметил, и запер дверь еще надежнее. Вернувшись в кресло, он достал часы – стрелки показывали всего половину десятого. Джерет удивился и поднес часы к уху. Они исправно шли. А вот огарок стал заметно короче. Он снова задул его и поставил подсвечник на прежнее место.
Мистер Джерет дернул плечом. Ситуация не нравилась ему, не нравились и собственные страхи. «Чего тут страшного? – уговаривал он себя. – Бояться просто нелепо, даже стыдно. В конце концов, я же разумный человек». Но оттого, что вы пообещаете себе не поддаваться страху, смелости не прибавится, и чем гневливее Джерет упрекал себя, тем больше давал оснований для упреков. Чем убедительнее он доказывал себе, что мертвый просто не может быть опасен, тем сильнее восставали против этого все его чувства.
– Надо же! – воскликнул он, вконец растерявшись. – Ведь я никогда не был суеверным… и в бессмертие души не верю… и знаю, причем сейчас даже лучше, чем когда-либо, что загробная жизнь – всего лишь мечта, фикция… Неужто я проиграю пари, стану посмешищем, перестану уважать себя, а то и рассудок потеряю, только потому, что мои дикие предки, которые и жили-то в пещерах и норах, сдуру верили, будто мертвые встают по ночам?.. Будто…
И тут Джерет услышал за спиной легкие, но вполне отчетливые шаги – кто-то приближался, неспешно и неумолимо!
IV
Солнце еще не поднялось, когда доктор Хелберсон со своим другом, юным Харпером, ехали в коляске по улицам Норт Бич.
– Ну что, мой молодой друг? Вы все еще убеждены, что ваш приятель исключительно смел или, вернее сказать, на редкость толстокож? – спросил доктор. – Все еще надеетесь, что я проиграл?
– Более того: знаю это наверняка, – с подчеркнутой убежденностью ответил Харпер.
– Что ж, пожалуй, я и рад бы был проиграть, – очень серьезно, почти торжественно, сказал доктор.
Какое-то время оба молчали, потом доктор заговорил:
– Вся эта история не так проста, как вы думаете, Харпер. – В тусклом свете уличных фонарей, мимо которых они проезжали, лицо его казалось очень значительным. – Этот ваш приятель задел меня за живое: уж больно презрительно он глянул на меня, когда я сказал, что страх не чужд и ему – хотя чувство это врожденное и стыдиться его не стоит, – и уж больно нагло потребовал, чтобы ему предоставили труп медика. Да, задел за живое, а то бы я не зашел так далеко. Ведь случись что-нибудь – нам с вами конец. И поделом, надо признаться.
– А что может случиться? Уж если дело примет дурной оборот, – чего, по-моему, не стоит опасаться, – Мэнчер просто «воскреснет» и все объяснит Джерету. Будь на его месте настоящий труп, из прозекторской, или кто-то из ваших почивших пациентов, дело обстояло бы куда как серьезнее.
Доктор Мэнчер, как следовало из слов Харпера, сдержал-таки обещание и прикинулся мертвецом.
Хелберсон долго молчал, коляска же тем временем медленно ехала по той же улице, где уже проезжала раза два или три.
– Что ж, – сказал он наконец, – будем надеяться, что Мэнчер, если ему пришлось «воскреснуть», вел себя осмотрительно. В такой ситуации легче напортить, чем поправить.
– Да уж, – согласился Харпер. – Джерет ведь и зашибить его мог. Но взгляните… – Он посмотрел на часы, когда коляска проезжала мимо очередного фонаря. – Скоро четыре.
Через минуту-другую они вышли из коляски и быстрым шагом пошли к заброшенному дому, который, надо сказать, принадлежал доктору. Именно там по условиям пари был заперт Джерет. Почти тут же навстречу им выбежал мужчина.
– Вы не знаете, где тут можно найти врача?! – крикнул он еще издали.
– А в чем дело? – поинтересовался Хелберсон.
– Пойдите и посмотрите сами, – ответил мужчина и побежал дальше.
Они прибавили шагу. Подойдя к дому, они увидели, что туда один за другим входят люди и что все они изрядно взволнованы. В соседних домах и в домах напротив окна были распахнуты, из них смотрели любопытные. Все наперебой о чем-то спрашивали друг друга, но ответа, похоже, не получали. Свет был и в тех окнах, которые оставались занавешенными: наверное, там одевались, собираясь выйти на улицу. Прямо напротив заброшенного дома стоял фонарь, освещая всю сцену тусклым желтоватым светом. Казалось, он намекал, что мог бы порассказать много чего, если бы захотел. Харпер, без кровинки в лице, задержался у входа и тронул друга за локоть.
– Похоже, дело плохо, доктор, – шутливый тон не мог скрыть, что он очень встревожен. – Доигрались мы с вами. По-моему, не стоит нам туда соваться.
– Я врач, – спокойно ответил ему Хелберсон, – и могу понадобиться в профессиональном качестве.
Они поднялись на крыльцо и остановились. Дверь была открыта. В холле было полно людей. Самые везучие заняли лучшие места: на площадке второго этажа и на лестнице, прочие толпились у подножия лестницы, не оставляя, однако, попыток протолкаться наверх. Все гомонили, никто не слушал других. Но вдруг сверху послышался шум, и на лестницу выскочил какой-то человек. Его пытались удержать, но не тут-то было: он буквально смел с лестницы опешивших зевак – одни отлетели к стене, другие удержались на ногах лишь потому что вцепились в перила. Дороги он не разбирал, топча тех, кто имел несчастье упасть, да еще и молотил кулаками направо и налево. Шляпы на нем не было, одежда – в полном беспорядке, а его безумный взор внушал еще больший ужас, чем нечеловеческая сила. Лицо было мертвенно бледным, волосы – снежно-белыми.
Люди, стоявшие в холле, расступились, чтобы пропустить его, и тут вперед выступил Харпер.
– Джерет! Джерет! – крикнул он, но Хелберсон ухватил его за ворот и оттащил.
Мужчина глянул на приятелей, явно не узнавая, и тут же исчез за дверью. Тучный полицейский, которому спуск по лестнице дался не так легко, тоже выбежал на улицу и кинулся вдогонку. Женщины и дети, глядящие из окон, кричали, указывая, куда подался беглец.
На лестнице почти никого не осталось – толпа вывалилась на улицу посмотреть погоню; Хелберсон же с Харпером поднялись на верхнюю площадку. Там путь им заступил еще один полисмен.
– Мы врачи, – объявил доктор, и полисмен их пропустил.
В комнате было полно народу, все столпились у стола. Приятели протолкались вперед и заглянули через плечи людей, стоявших в первом ряду. На столе в свете фонаря, который держал один из полицейских, лежало тело, прикрытое простыней. Фонарь выхватывал из мрака только труп и тех, кто стоял у него в головах, все прочие тонули во тьме. При взгляде на желтое лицо мертвеца любого охватил бы ужас: глаза под полуприкрытыми веками закатились, челюсть отвисла, а на губах, подбородке и щеках засохли клочья пены! Над телом, держа руку у него на груди, склонился высокий мужчина, наверное, врач. В следующую минуту он положил два пальца в открытый рот мертвеца.
– Этот человек умер часов шесть назад, – сказал он. – Нужно вызвать коронера.
Потом достал визитную карточку, вручил ее полисмену и пошел к двери.
– Очистить помещение! – гаркнул полисмен, поднимая фонарь над головой.
Мертвец вдруг канул в темноту, он пропал, словно его и не было на столе. Полицейский направил фонарь на любопытных, его луч освещал то одно лицо, то другое. Это подействовало, да еще как! Ослепленные ярким светом, испуганные люди метнулись к двери, пихаясь и отталкивая друг друга, – так бегут ночные призраки от лучей Феба. Полицейский безжалостно хлестал лучом фонаря эту бесформенную кучу. Этот клубок мигом вынес Хелберсона и Харпера на улицу.
– Господи, доктор, говорил же я, что Джерет его зашибет, – сказал Харпер, едва они выбрались из толпы.
– Да, помнится, говорили, – довольно спокойно ответил Хелберсон.
Несколько кварталов они миновали молча. На востоке уже ясно различались силуэты домов на холмах. По улице проехала тележка молочника, пробежал разносчик газет. Вот-вот должен был отправиться в свой путь посыльный из булочной.
– Я думаю, мой молодой друг, что наша утренняя прогулка подзатянулась, – сказал доктор. – А для здоровья это вредно. Хорошо бы нам с вами сменить обстановку. Как вы относитесь к плаванью в Европу?
– Когда?
– Все равно. Мне думается, если мы выедем в четыре пополудни, будет еще не поздно.
– Увидимся на пароходе, – заключил Харпер.
V
Прошло семь лет. Приятели сидели и разговаривали на скамье нью-йоркского Мэдисон-сквера. Некий человек – перед тем он какое-то время неназойливо наблюдал за нашей парой – подошел и учтиво приподнял шляпу, открыв снежно-белые волосы.
– Извините меня, джентльмены, – сказал он, – но не кажется ли вам, что человеку, который умертвил другого тем, что восстал из мертвых, лучше всего поменяться с мертвым одеждой и при первой же возможности удрать подальше.
Хелберсон и Харпер многозначительно глянули друг на друга, – такое начало разговора развлекло их. Хелберсон с улыбкой посмотрел на нежданного собеседника и ответил:
– Совершенно с вами согласен. Равно как и насчет…
Тут он запнулся и побледнел. Он вытаращился на незнакомца и даже рот открыл от изумления. Потом вздрогнул.
– О-о! – воскликнул тот. – Похоже, доктор нездоров. Ну, если вы не можете исцелиться сами, доктор Харпер наверняка поможет вам.






