Джейн Эйр Бронте Шарлотта
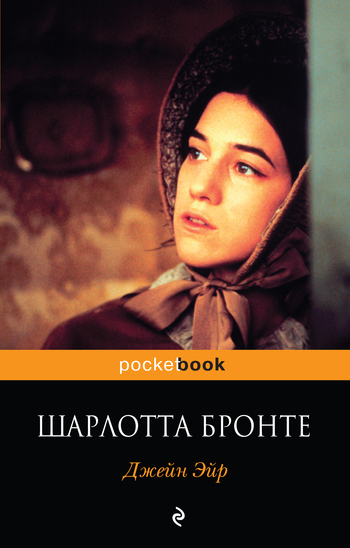
– Отвратительное варево! Это просто позор!
До начала уроков оставалось пятнадцать минут, и в классной царил невообразимый шум. Видимо, в эти четверть часа разрешалось разговаривать громко о чем угодно, и ученицы использовали свою привилегию сполна. Разговоры шли только о завтраке, который все дружно бранили. Бедняжки! Другого утешения у них не было. Из учительниц в комнате присутствовала лишь мисс Миллер. Столпившиеся вокруг нее старшие девочки, что-то убедительно говорили, возмущенно жестикулируя. Я услышала, как несколько раз прозвучало имя мистера Броклхерста, но мисс Миллер неодобрительно покачала головой. Однако она не прилагала особых стараний, чтобы утихомирить общее негодование: без сомнения, она его разделяла.
Часы в классной пробили девять. Мисс Миллер оставила старшеклассниц, вышла на середину комнаты и скомандовала:
– Тише! По местам!
Но дисциплина превыше всего: через пять минут беспорядочная толпа разошлась по своим местам, разноголосый хор смолк, и воцарилась относительная тишина. Старшие учительницы заняли свои места, однако все словно чего-то ждали. Восемьдесят девочек сидели на скамейках вдоль стен комнаты прямо и неподвижно. Какими невзрачными они выглядят! Все с гладко зачесанными за уши волосами – ни у одной ни единой кудряшки, все в коричневых платьях с застегнутыми у горла узкими воротничками, с холщовыми сумочками сбоку (несколько напоминающими сумки шотландских горцев), предназначенными для швейных принадлежностей. На всех толстые шерстяные чулки и грубые башмаки, застегнутые медными пряжками. Примерно двадцать одетых таким образом учениц были уже взрослыми девушками. Эта форма совсем им не шла, и даже самые миловидные выглядели в ней несуразно.
Я все еще смотрела на них, иногда поглядывая на учительниц – ни одна из них мне не понравилась: у полной лицо было грубым, смуглая казалась сердитой, иностранка – некрасивой и злой, а мисс Миллер, бедняжка, казалась посинелой, замученной холодом и множеством обязанностей. Как вдруг, пока мой взгляд переходил с лица на лицо, все ученицы встали, словно подброшенные одной пружиной.
Что случилось? Я не слышала никакой команды и растерялась. Но прежде чем я успела собраться с мыслями, девочки снова сели, все глаза обратились в одну сторону, и, посмотрев туда же, я увидела даму, которая встретила меня накануне вечером. Она стояла в глубине длинной комнаты и в молчании обводила внимательным взглядом два ряда девочек. Мисс Миллер подошла к ней, как будто о чем-то спросила и, получив ответ, вернулась на свое место, а потом распорядилась:
– Староста первого класса, принесите глобусы.
Пока это приказание выполнялось, дама неторопливо направилась к одному из столов. Видимо, у меня сильно развита шишка почтительного преклонения, так как я до сих пор помню, с каким благоговейным восхищением следила за каждым ее шагом. Теперь, при свете дня, она выглядела высокой, стройной и прекрасной. Светившиеся благожелательностью карие глаза, осененные длинными ресницами под тонкими бровями, смягчали белизну высокого лба. Темно-каштановые волосы были на висках собраны в букли (гладкие бандо[3] и длинные локоны тогда в моде не были). Платье, опять-таки модного тогда фасона, было из лилового сукна с отделкой из черного бархата, несколько в испанском стиле; на ее поясе поблескивали золотые часики (в те дни такие часы были еще редкостью). Пусть для довершения портрета читатель вообразит тонкие черты лица, хотя и бледного, но с нежной чистой кожей, а также величавую осанку, и он получит правильное представление – насколько вообще его могут дать слова – о внешности мисс Темпл, Марии Темпл, как я впоследствии прочла в надписи на молитвеннике, который мне было доверено отнести в церковь.
Директриса Ловуда (вот кем она была) села перед двумя глобусами, поставленными на один из столов, подозвала к себе первый класс и начала урок географии. Учительницы подозвали к себе остальные классы. Повторение истории, грамматики и прочего продолжалось около часа. Затем последовали письмо и арифметика, а мисс Темпл занималась музыкой с некоторыми из старших учениц. Длительность каждого урока проверялась по часам, которые наконец пробили двенадцать. Директриса встала.
– Я должна сказать кое-что ученицам, – объявила она.
Уже поднявшийся шум, который знаменует окончание занятий, разом оборвался при звуке ее голоса, и она продолжила:
– Утром вам подали завтрак, который вы не могли есть, и, следовательно, остались голодными. Я распорядилась, чтобы всем был подан хлеб с сыром.
Учительницы уставились на нее с изумлением.
– Ответственность я беру на себя, – добавила она в их сторону и тут же вышла из комнаты.
Вскоре хлеб с сыром был принесен и роздан к величайшему восторгу и утолению голода всей школы. Затем последовала команда: «В сад!» Все надели шляпки из грубой соломки с завязками из цветного коленкора и серые фризовые пелерины. Я получила такие же и в общем потоке вышла в сад.
Он представлял собой обширный участок, обнесенный высокой оградой, полностью загораживавшей вид на окрестности. Вдоль одной стороны тянулась крытая веранда, а широкие дорожки окаймляли разделенное на десятки маленьких клумб пространство в середине. Эти клумбочки поручались заботам учениц, и у каждой была своя хозяйка. Летом, все в цветах, они, без сомнения, были красивы, но теперь, во второй половине января, среди зимнего опустошения глаз не видел ничего, кроме бурых гниющих стеблей. Пока я стояла и осматривалась, меня пробрала дрожь: день мало подходил для прогулок. Дождь, правда, не лил, но сад затягивал желтоватый туман, каплями оседавший на всем, а земля под ногами хранила следы вчерашнего потопа. Самые крепкие и здоровые девочки бегали, затевали игры, но бледные и щуплые сгрудились на веранде, чтобы как-то укрыться от сырости и согреться. Однако холодная влага пробиралась к ним под одежду, вызывая озноб, и я часто слышала глухой кашель.
До сих пор я еще ни с кем не перемолвилась ни словом, и никто словно бы меня не замечал. Я держалась в стороне ото всех, но такое одиночество было мне привычным. Я прислонилась к столбу веранды, поплотнее закуталась в серую пелерину и, стараясь забыть про холод, который пощипывал меня снаружи, и про голод, который грыз меня изнутри, принялась наблюдать и размышлять. Мои мысли были слишком неопределенными и беспорядочными, чтобы их стоило записывать. Я даже толком не знала, где нахожусь. Гейтсхед и моя прежняя жизнь словно отодвинулись в неизмеримую даль, настоящее было смутным и непривычным, а будущее я и представить себе не могла. Я снова обвела взглядом этот монастырский сад, а потом поглядела на дом – половина огромного здания выглядела серой и древней, а вторая половина – совсем новой. Окна новой части, в которой находились классная комната и дортуар, частым металлическим переплетом напоминали церковные. Каменная доска над дверью гласила:
Ловудский приют. Сия часть здания была восстановлена в лето Господне… иждивением Наоми Броклхерст из Броклхерст-Холла в сем графстве.
«Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Св. Матф. V. 16
Вновь и вновь перечитывала я эти слова и искала им объяснения, так до конца и не постигнув их смысла. И все еще ломала голову над «приютом», ища связи между первыми словами и стихом из Писания, когда раздавшийся совсем рядом кашель заставил меня повернуть голову. На каменной скамье поблизости я увидела девочку, склонившуюся над книгой и, видимо, увлеченную чтением. Я разглядела заглавие: «Расселас». Имя показалось мне необычным, а потому особенно любопытным. Переворачивая страницу, девочка подняла глаза, и я ее спросила:
– Интересная книга? (Я уже решила, что как-нибудь попрошу дать мне ее почитать.)
– Мне она нравится, – ответила девочка после секунды-другой, пока окидывала меня взглядом.
– О чем она? – спросила я затем.
Не могу понять, откуда у меня хватило смелости вот так начать разговор с незнакомой девочкой. Подобный поступок был противен моей натуре и привычкам, но, полагаю, книга в ее руках пробудила во мне симпатию. Я ведь тоже любила читать, правда, развлекательные и детские книжки, – серьезные и поучительные я не умела ни постичь, ни переварить.
– Вот, пожалуйста, посмотри сама, – ответила девочка, протягивая мне книгу.
Я взяла ее и, пролистав, убедилась, что содержание было менее заманчивым, чем название. «Расселас» на мой необразованный вкус был скучен. Ничего о феях, ничего о джиннах, никакого яркого разнообразия в теснящихся строчках. Я вернула книгу девочке, она взяла ее молча и уже готова была вновь погрузиться в чтение, когда я осмелилась снова ее отвлечь:
– Ты не можешь объяснить мне, что означает надпись над дверью? Что такое «Ловудский приют»?
– Этот дом, куда ты приехала жить.
– А почему его называют приютом? Он чем-то не похож на другие школы?
– Отчасти это благотворительное учреждение: ты, я и все остальные – мы приютские дети. Ты, наверное, сирота. Ведь кто-то из твоих родителей умер?
– Они оба умерли, когда я была совсем маленькой, и я их не помню.
– Ну, тут все девочки лишились либо кого-то из родителей, либо обоих, и школа называется приютом для обучения сирот.
– И мы ничего не платим? Они держат нас тут даром?
– Мы платим, или платят наши друзья, пятнадцать фунтов в год каждая.
– Так почему же нас называют приютскими?
– Потому что пятнадцати фунтов недостаточно для оплаты полного пансиона и обучения и остальные средства собираются по подписке.
– И кто подписывается?
– Разные добрые дамы и джентльмены в этих краях и в Лондоне.
– Кто была Наоми Броклхерст?
– Дама, которая построила новую часть дома, как написано на доске, и чей сын за всем здесь следит и всем управляет.
– Почему?
– Потому что он казначей и попечитель Ловуда.
– Так этот дом не принадлежит высокой даме с часами на поясе, которая велела дать нам хлеба с сыром?






