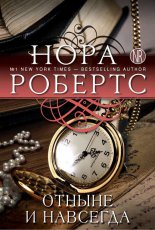Щегол Тартт Донна

— Да хер ли я знаю, откуда?
— Это вознаграждение!
— Вознаграждение?
— Ну да! За то, что мы ее благополучно вернули!
Дошло до меня не сразу. Я стоял. Пришлось сесть.
— Злишься? — осторожно спросил Борис.
Голоса в коридоре. Медный колпак на лампе поблескивает от тусклого зимнего солнца.
— Думал, ты обрадуешься. Ты не рад?
Но я пока что не нашел в себе сил что-то ему ответить. Только пялился ошалело.
Взглянув на мое лицо, Борис отбросил с глаз с челку и расхохотался:
— Да ты мне сам идею подал. Сам, небось, не понимал, какая идея-то была отличная. Ты гений! Жаль, что я сам сразу не допер. «Позвонить арт-копам, позвонить арт-копам». Вот бред! Это я так сначала подумал. Честно сказать, ты на этой теме малость свихнулся. Только потом, — пожал он плечами, — сам помнишь, повернулось все неудачно, и после того, как мы с тобой расстались на мосту, я поговорил с Вишней — что делать, что же делать, мы с ним ручки немножко позаламывали, потом кое-чего подразведали, и, — он поднял бокал, — идея-то оказалась гениальной! Ну почему я тебя никогда не слушаю? У тебя с самого начала башка отлично варила. Я, значит, на Аляске таскаюсь на заправку за десять километров, чтобы стырить там батончик «Нестле», а ты-то! Гений преступного мира! И чего я тебя никогда не слушаю? Потому что я все разведал, и, — он раскинул руки, — ты оказался прав! Кто бы мог подумать? За твою картину дают больше миллиона долларов вознаграждения! Да не за картину даже! За одну только информацию, которая укажет на ее местонахождение! И никаких вопросов! Наличка — ни проблем, ни налогов…
В окна бился снег. В соседнем номере кто-то громко кашлял, а может, громко смеялся — сложно было разобрать.
— Столько лет, туда-сюда, туда-сюда. Игры для неудачников. Опасно, неудобно. И — я вот сейчас себя спрашиваю: с чего я вообще во все это ввязался? Когда тут столько законных денег получить можно, только руку протяни. Ты ведь прав был — у них все четко, по-деловому. Никаких лишних вопросов. Они хотели только вернуть картину. — Борис закурил, с шипением затушил спичку в стакане воды. — Меня-то там не было. Жалко, конечно — но я решил, что не стоит там поблизости околачиваться. Немецкая штурмгруппа! С оружием, в бронежилетах! Руки вверх! Всем лечь на пол! Такая кутерьма, на улице сразу толпа собралась! Ох, хотел бы я увидеть Сашину рожу!
— Ты позвонил в полицию?
— Ну не я лично! Парнишка мой, Дима — Дима такой злой на немцев из-за того, что они перестрелку у него в гараже устроили. Можно было и без этого обойтись, а ему теперь расхлебывать. Понимаешь, — он заерзал, скрестил ноги, пустил толстенную струю дыма изо рта, — где они прячут картину, я себе примерно представлял. Есть одна квартирка во Франкфурте. Бывшей Сашиной подружки. Теперь там у них склад. Но мне туда в жизни не пробраться, хоть десять мужиков со мной будет. Замки, сигнализация, камеры, коды доступа. Одна только проблема, — он зевнул, утер рот рукой, — ну, две точнее. Во-первых, полиции, чтоб обыскать квартиру, нужна причина. Нельзя просто так позвонить и указать на вора, анонимный звонок, типа из лучших побуждений, понимаешь? Во-вторых, я не помнил точного адреса. Очень, очень все секретно, я сам там был всего один раз, и то — поздно вечером и не в лучшем виде. На районе я примерно ориентировался… раньше там бомжатник был, а теперь — место модное… Юрий меня там возил по улицам, туда-сюда, туда-сюда. До хера времени так катались. Наконец… Я вроде как вычислил нужные дома, но на сто процентов уверен не был. Тогда я вышел из машины и пошел пешком. Страшно было — одному на той улице, вдруг кто увидит, но я вылез из машины и пошел пешком. Ногами пошел. Глаза прикрыл. Немножко себя гипнотизировал, ну, понимаешь, чтоб вспомнить число ступенек. Пытался вспомнить всем телом. Ладно, короче, а то я забегаю вперед. Дима… — он старательно собирал пальцем хлебные крошки со скатерти, — невестка Диминого двоюродного брата, бывшая невестка, точнее, вышла замуж за голландца, у них есть сын, Антон — двадцать один ему, может, двадцать два, перед законом чист как стеклышко, фамилия ван дер Бринк — Антон гражданин Голландии, голландский у него родной язык, что нам, как ты понимаешь, тоже на руку. Антон, — он откусил кусок булочки, поморщился, сплюнул застрявшее между зубов ржаное зернышко, — Антон работает в баре для богатеньких, прямо рядом с П.К. Хофстраат, это модный Амстердам — налево «Гуччи», направо «Картье». Хороший мальчик. Говорит по-английски, говорит по-голландски, по-русски — ну, может, пару слов знает. Короче, Дима попросил Антона позвонить в полицию и сообщить, что он видел двух немцев, один полностью подходит под описание Саши — бабкины очки, рубашечка в стиле первых поселенцев, трайбал-татуха на руке, мы дали Антону фотографию, и он по ней научился эту татуху точно воспроизводить… ну и вот, короче, Антон позвонил арт-копам и рассказал им, что у него в баре два немца нажрались в сопли, спорили-орали и так разошлись, так разбушевались, что забыли — знаешь что? Папку с документами! Документики, конечно, все поддельные. Мы сначала хотели в телефон все это забить и им подкинуть, но технарей у нас особых нет, побоялись, что наследим где-нибудь. Поэтому я распечатал несколько фотографий… ту, что я тебе показывал, и еще парочку, которые у меня в телефоне нашлись… щеглик рядом с газетой, чтоб ясно было, когда снимали. Двухлетней давности газета, но все равно. И Антон, значит, просто нашел эту папку под стулом, а в ней еще и кое-какие документы по делу в Майами, чтоб и к этому их привязать. Туда же удачненько вписаны франкфуртский адрес и Сашино имя. Это все Мириам придумала, надо отдать ей честь, как вернешься домой, проставишься ей как следует. Переслала из Америки «Федексом» кое-какие очень убедительные бумажки. Там Сашино имя, там…
— Саша в тюрьме?
— В тюрьме, в тюрьме, — захихикал Борис. — Мы получили выкуп, музей — картину, копы закрыли дело, страховщики вернули себе все денежки, публика ликует, все в плюсе.
— Выкуп?
— Ой, ну вознаграждение, выкуп, как хочешь называй.
— И кто его платит?
— Не знаю, — раздраженно махнул рукой Борис, — музей, правительство, частное лицо. Это важно, что ли?
— Мне — важно.
— А вот этого бы не надо. Надо заткнуться и спасибо сказать. Потому что, — он вздернул подбородок, перебил меня, — знаешь, что, Тео? Знаешь что? Ты прикинь только. Прикинь, как нам повезло! Они не только твою птичку нашли, но еще — кто бы мог подумать? Еще много других ворованных картин.
— Что?
— Десятка два, а то и больше! Некоторые из них украли еще много лет назад! Не все они, конечно, такие миленькие и красивые, как твоя, по правде сказать — почти все. Такое мое личное мнение. Но все равно штук за пять этих картин было обещано большое вознаграждение — и побольше, чем за твою. И даже не очень известные — дохлая утка, унылый портрет какого-тот толсторожего мужика — даже за них награды были обещаны, поменьше — там тысяч пятьдесят, тут тысяч сто. Кто бы мог подумать? «За информацию, которая укажет на их местонахождение». Вот тебе плюс. И я надеюсь, — довольно строго прибавил он, — что теперь-то ты меня простишь.
— Что?
— Потому что это называется теперь «крупнейшей в истории находкой утраченных шедевров». Я надеялся, что вот эта часть тебе больше всего понравится — ну, может, и нет, но я надеялся. Музейные шедевры возвращены народу! Они свободно распоряжаются культурным достоянием! Радость-то какая! Ангелы поют на небесах! Но если б не ты, этого бы никогда не случилось.
Я сидел — молча, изумленно.
— Ну конечно, — добавил Борис, кивнув в сторону стоявшей на кровати сумки, — тут не все. Мириам, Юрий и Вишня получили на Рождество отличные подарки. Тридцать процентов я сразу отстегнул Антону с Димой. По пятнадцать каждому. На самом-то деле всю работу Антон сделал, так что как по мне — ему бы дать двадцать, а Диме — десять. Но для Антона и это — деньжищи огромные, так что он всем доволен.
— И другие картины нашли? Не только мою?
— Да, ты что не слышал, я только что…
— Какие картины?
— Ой, какие-то известные-знаменитые! Которые давным-давно украли.
— Например?..
Борис раздраженно фыркнул.
— Слушай, имен не знаю, нашел, кого спросить. Были какие-то современные картины — очень важные, очень дорогие, все перевозбудились прямо, хотя я, честно сказать, не понимаю, из-за чего весь сыр-бор. Почему вещь, которую ребенок в яслях нарисовать может, стоит столько денег? «Уродская клякса». «Черная палка с узлами». Но кроме них, нашли еще много старинных шедевров. Одного Рембрандта.
— Случайно не морской пейзаж?
— Не, какие-то люди в темной комнате. Скучновато. Зато симпатичный Ван Гог, какое-то побережье. И еще… ну, не знаю там… стандартных Марию, Иисуса, кучу ангелов. Даже скульптуры нашли какие-то. И какие-то азиатские шедевры. На вид так вообще дешевка, но, похоже, стоят запредельно. — Борис яростно затушил сигарету. — Кстати, вспомнил. Он сбежал.
— Кто?
— Да китайчонок Сашин. — Он подошел к мини-бару, достал штопор и два бокала. — Повезло ему, когда копы ворвались в квартиру, его там не было. И — если он умен, а он умен, то он не вернется. — Он скрестил пальцы. — Будет жить за счет какого-нибудь другого богатого мужика. Так он зарабатывает. И неплохая работенка, если устроишься. Короче, — он закусил губу, выдергивая пробку — хлоп, — жаль, что я сам до всего не додумался, а давно надо было. Огромный чек, без проблем! Законный платеж! Вместо того чтоб столько лет прыгать, мячик ловить. Туда-сюда, — он повертел штопором, тик-так, — туда-сюда. Весь на нервах! Столько лет, сплошная головная боль, а тут, прямо у меня под носом лежали легкие, государственные денежки! И вот что я тебе скажу, — он набулькал в бокал красного, протянул его мне, — в какой-то степени и сам Хорст рад не меньше твоего, что от нее избавился. Он, как и все, денежку любит заколачивать, но и вину свою чувствует, есть у него идеи всякие про культурное наследие, общественное достояние, ля-ля-ля.
— Я не понимаю, как Хорст со всем этим связан.
— Я сам не понимаю, и мы никогда ничего не узнаем, — твердо сказал Борис. — У нас с ним сейчас все тихо-вежливо. Ну да, да, — нетерпеливо прибавил он, украдкой, быстро отхлебнув вина, — да, я на Хорста немного зол и даже, наверное, уже не доверяю ему так, как прежде, а может, если честно, я ему теперь и не доверяю вовсе. Но Хорст говорит, что в жизни не натравил бы на нас Мартина, если б знал, что это мы. И, может, не врет. «Да ты что, Борис, я бы никогда». Кто знает? По правде сказать — только между нами — думаю, он это говорит, наверное, только чтоб хорошую мину удержать. Ну, раз с Мартином и Фрицем-то ничего не вышло, что ему остается? Только аккуратно от всего откреститься. Сказать, что вообще ничего не знал. Но ты учти, точно я ничего не знаю, — сказал он. — Это просто у меня такая теория. Хорст свое гнет.
— Что именно?
— Хорст утверждает, — вздохнул Борис, — Хорст утверждает, будто не знал, что Саша спер картину, и узнал только тогда, когда мы ее забрали, а Саша ему вдруг позвонил, попросил помощи — как гром среди ясного неба. Мартин был в городе по чистому совпадению — приехал из Лос-Анджелеса на праздники. В Амстердаме на Рождество много наркашей собирается. Тут, — он потер глаза, — насчет этого, я уверен, Хорст не врет. Что Саша ему позвонил совершенно неожиданно. Упал перед ним на колени. Некогда говорить. Действовать надо быстро. Откуда Хорсту было знать, что это мы? Саши даже в Амстердаме не было, ему все китаеза пересказал, немецкий-то у него так себе, а Хорст так вообще все из третьих рук слышал. Если так посмотреть, то все сходится. Но все равно… — Он пожал плечами.
— Чего?
— Ну… Хорст точно не знал, что картина в Амстердаме, не знал, что Саша пытался ее заложить, пока Саша не запаниковал и сам ему не позвонил, когда мы ее забрали. В этом я уверен. Но — не Хорст ли с Сашей стакнулись с самого начала, чтоб картина после провала той сделки в Майами уплыла во Франкфурт? Очень может быть. Хорсту очень, очень нравилась эта картина. Очень. Я тебе не рассказывал — он ее с первого взгляда узнал? За секунду, прикинь? Имя художника назвал, все вообще.
— Это одна из самых знаменитых картин в мире.
— Ну, — пожал плечами Борис, — говорю же, он образованный. Он рос среди красивых вещей. Но, кстати, Хорст не знает, что это я папку-то подкинул. Если узнает — не обрадуется. Но, — рассмеялся он, — интересно, пришла бы Хорсту эта мысль в голову? Вот интересно. Столько времени вознаграждение было у него прямо под носом. Законное, доступное! Лежит на самом видном месте, светится, как солнышко! Я вот о таком и не думал ни разу. Весь мир ликует и смеется! Найден утраченный шедевр! Антон — герой дня, его фотографируют, он дает интервью «Скай Ньюс»! Вчера вечером на пресс-конференции ему аплодировали стоя! Его все чуть ли не на руках носят, как того мужика, который несколько лет назад посадил самолет на воду и всех спас, помнишь? Но как по мне, это люди не Антону аплодируют — а тебе.
Мне нужно было столько всего сказать Борису, и я не мог сказать ничего. Благодарность моя при этом была очень невнятной. Может быть, подумал я, вытащив из сумки пачку денег, повертев ее в руках — может быть, в этом отношении хорошая полоса — все равно что дурная, и то, и другое сразу и не осмыслишь. Сначала вообще ничего не чувствуешь. Все чувства приходят позже.
— Ну, хорошо ведь? — спросил Борис, ему явно полегчало от того, что я наконец пришел в себя. — Доволен?
— Борис, ты должен половину забрать себе.
— Уж поверь мне, о себе я позаботился. У меня теперь денег столько, что если захочу — вообще долго могу ничего не делать. Кто знает, может, бар открою, в том же Стокгольме. Или не открою. Что-то скучно это. А вот ты — это все твое! И денег будет еще больше! Помнишь, когда твой отец дал нам с тобой по пять сотен? Легко так, бросил! Роскошный, благородный жест! Для меня-то? Для человека, который вечно недоедал? Которому было тоскливо и одиноко? У которого за душой ни гроша не было? Да это было целое состояние! Я в жизни столько денег за раз не видел! А ты, — нос у него покраснел, я подумал — сейчас чихнет, — ты всегда так хорошо, так по-человечески ко мне относился, делился со мной всем, а я — я с тобой как поступил?
— Ну ладно тебе, Борис. — Мне стало неловко.
— Я тебя обокрал, вот как я с тобой поступил. — Глаза у него пьяно заблестели. — Забрал у тебя самое дорогое. Как же я мог так с тобой обойтись, ведь я всегда желал тебе только хорошего?
— Перестань. Нет, правда, перестань, — сказал я, увидев, что он плачет.
— Ну что я могу сказать? Ты спросил меня, почему я украл картину? Что я могу ответить? Только то, что все не так, каким кажется — только плохим или только хорошим. Если б оно так было, жилось бы куда легче. Даже вот отец твой… он меня кормил, он со мной разговаривал, тратил на меня свое время, дал крышу над головой, одежду со своего плеча… Ты так отца ненавидел, а он ведь в чем-то очень хороший был человек.
— Не сказал бы, что хороший.
— А я вот скажу.
— Ну, тебя никто не поддержит. И ты окажешься неправ.
— Слушай, я тебя потерпимее буду, — сказал Борис, оживившись в предвкушении спора, шумно сглотнув слезы. — Ксандра… отец твой… ты вечно хотел выставить их такими плохими, злыми людьми. Ну да… отец твой наломал дров… он был безответственный… сущий ребенок. Но какая широта духа! Как самому ему было от этого тошно! И себе он навредил больше, чем кому-либо другому. Да-да, — театрально перебил он меня, — да, он тебя обворовал, ну, пытался обворовать, но знаешь что? Я тоже тебя обворовал, и ничего мне за это не было. И что хуже? Потому что, говорю тебе, — он потыкал сумку ногой, — мир куда страннее того, что мы о нем понимаем или можем выразить. Я знаю, что ты там думаешь или что хочешь думать, но, может, тут как раз тот случай, когда ты не можешь свести все только к идеально плохому или идеально хорошему, как тебе того вечно хочется?.. Взять вот твои две разные кучи. Плохое сюда, хорошее — туда. А может, все не так просто. Потому что — я всю дорогу сюда, всю ночь, пока мы ехали, на шоссе рождественская иллюминация, и у меня аж слезы подступили к горлу, мне в этом не стыдно признаться — потому что мне сразу на ум пришла та библейская притча… Ну там, где управитель ворует у вдовы ее лепту, а потом сбегает в дальние страны, там эту лепту с умом вкладывает и привозит вдове обратно в тысячу раз больше денег, чем он у нее украл. А она принимает его с распростертыми объятьями, они забивают упитанного тельца и давай веселиться.
— Что-то мне кажется, это разные истории.
— Ну… воскресная школа в Польше, давно это было. Но в общем. Я что хочу сказать, о чем я вчера ночью думал, пока мы ехали из Антверпена: от хороших дел не всегда бывает хорошее, а плохие дела — не всегда приносят плохое, ну да ведь? Даже самые мудрые, самые прекрасные люди не могут предусмотреть, во что выльются их поступки. Подумать страшно! Помнишь князя Мышкина в «Идиоте»?
— Знаешь, я сейчас не потяну интеллектуальных разговоров.
— Знаю, знаю, но ты послушай. Ты читал «Идиота», так? Читал. В общем, «Идиот» меня здорово тогда растревожил. Растревожил так, что я потом художку особо и не читал больше, ну кроме всяких там «Татуировок дракона». Потому что, — я все пытался перебить его, — ну, слушай, потом мне скажешь все, что ты думаешь, дай я сейчас тебе расскажу, почему эта книжка так меня растревожила. Потому что Мышкин всем делал только добро… бескорыстно… ко всем он относился с пониманием и сочувствием, и к чему привела вся эта его доброта? К убийствам! Катастрофам! Я из-за этого очень распереживался. Ночами не спал, так переживал! Потому что — ну почему так? Как такое может быть? Я эту книжку три раза прочел, все думал, может, не понял чего. Мышкин был добрый, он всех любил, он мягкий был человек, всех прощал, в жизни не совершил ничего дурного, но — доверился не тем людям, понапринимал неверных решений и всем этим навредил. Очень мрачный смысл у этой книги. «Зачем быть хорошим?» Но — вот что мне в голову-то вчера пришло, когда мы в машине ехали. А что если — что если все гораздо сложнее? Что если и в обратную сторону все тоже — правда? Потому что, если от добрых намерений иногда бывает вред? То где тогда сказано, что от плохих бывает только плохое? А вдруг иногда неверный путь — самый верный? Вдруг можно ошибиться поворотом, а придешь все равно, куда и шел? Или вот — вдруг можно иногда все сделать не так, а оно все равно выйдет как надо?
— Что-то я не слишком тебя понимаю.
— Ну… я вот что скажу, сам я лично никогда так вот резко, как ты, не разделял плохое и хорошее. По мне, так любая граница между ними — одна видимость. Эти две вещи всегда связаны. Одна не может существовать без другой. И я для себя знаю — если мной движет любовь, значит, я все делаю как надо. Но вот ты — ты вечно всех осуждаешь, вечно жалеешь о прошлом, клянешь себя, винишь себя, думаешь: «а что, если?», «а что, если?», «Как несправедлива жизнь!», «Лучше б я тогда умер!» Короче, ты сам подумай. А что, если все твои решения, все твои поступки, плохие ли, хорошие — Богу без разницы? Что если все предопределено заранее? Нет, нет, ты погоди — над этим вопросом стоит пораскинуть мозгами. Что, если эта наша нехорошесть, наши ошибки и есть то, что определяет нашу судьбу, то, что и выводит нас к добру? Что, если кто-то из нас другим путем туда просто никак не может добраться?
— Куда — добраться?
— Ты пойми, что говоря «Бог», я просто имею в виду некий долгосрочный высший замысел, который нам никак не постичь. Огромный, медленно надвигающийся на нас издалека атмосферный фронт, который потом раскидает нас в разные стороны как попало… — Он театрально замахал рукой, будто разгоняя летящие листья. — А может, и не так уж все случайно и безлично, если ты меня понимаешь.
— Прости, но что-то я не вижу в этом особого смысла.
— Да не ищи ты никакого смысла. Может, смысл как раз в том, что такой он большой, этот смысл, что сам ты его никак не разглядишь, не поймешь. Потому что, — взметнулись брови-чайки, — смотри, если бы ты не взял тогда картину из музея, а Саша бы ее потом не упер, а я бы не придумал эту идею с вознаграждением — может, тогда и все остальные картины так бы и не нашел никто? Никогда бы, а? Так и лежали бы они в оберточной бумаге. В квартире за семью замками. И никто бы на них не смотрел. Одиноко бы лежали там, потерянные для всего мира. А может, чтоб найти их все, надо было потерять одну?
— По-моему, это скорее называется «злой иронией», чем «божественным провидением»…
— Да, но зачем это как-то вообще называть? Не могут они оба оказаться одним и тем же?
Мы поглядели друг на друга. И тут я подумал, что, несмотря на все его бесчисленные и серьезные недостатки, я полюбил Бориса и практически с первой минуты нашего знакомства почувствовал себя с ним так легко как раз потому, что он никогда ничего не боялся. Нечасто встретишь человека, который так привольно чувствовал бы себя в этом мире, одновременно и страстно его презирая и упорно, чудно веря в то, что в детстве он любил называть «Планетой Земли».
— Ну что, — Борис одним глотком допил вино, подлил себе еще, — какие у тебя там важные планы?
— Планы — насчет?
— А ты буквально минуту назад уходить куда-то рвался. Задержаться не хочешь?
— Здесь?
— Не, ну не прямо здесь-здесь, не в Амстердаме — тут я с тобой согласен, нам бы неплохо из города уехать, и что до меня, так я еще долго сюда не вернусь. Я вот о чем — может, нам с тобой отдохнуть-расслабиться немножко, а потом уж полетишь домой? Поехали со мной в Антверпен. Посмотришь, где я живу. С друзьями моими познакомишься. Про девчонку эту свою забудешь на время.
— Нет, я домой.
— Когда?
— Если получится, то сегодня.
— Уже? Нет! Поехали в Антверпен! Там есть девочки, высший класс, не как тут на Красных фонарях — за двух девчонок две тыщи евро, и заказывать их надо за два дня. Все по два. Юрий нас отвезет. Я вперед сяду, а ты сзади сможешь лечь, поспать. Что скажешь?
— Может, лучше подбросишь меня до аэропорта?
— Может — лучше не надо? Вот если б я продавал билеты! Я тебя и в самолет не пустил бы. Такое впечатление, что у тебя птичий грипп или какая-нибудь атипичная пневмония. — Он расшнуровал свои насквозь промокшие туфли и пытался втиснуть в них ноги. — Ф-фу! Вот ты мне скажи. Почему, — он потряс испорченным ботинком, — почему я все равно покупаю эти модные итальянские кожаные туфли, если они у меня за неделю разваливаются? А помнишь мои старые боты-чукки? Как удобно в них было сматываться по-быстрому! Из окон прыгать! Годами им сносу не было! И насрать мне, что они с костюмом не сочетаются. Куплю теперь себе такие вот ботинки и буду всю жизнь только в них ходить. Ну и куда, — он, нахмурившись, посмотрел на часы, — куда вот Юрий подевался? Рождество же, с парковкой проблем быть не должно.
— А ты ему звонил?
Борис хлопнул себя по лбу.
— Нет, забыл! Вот черт! Он уж, наверное, позавтракал. Или ждет в машине и стучит зубами. — Он заглотнул остатки вина, сунул в карман маленькие бутылочки водки. — Вещи собрал? Да? Прекрасно! Тогда пошли, — он завернул в салфетку остатки хлеба с сыром, — спускайся, расплачивайся. И, кстати, — он неодобрительно взглянул на перепачканное пальто, которое я бросил на кровать, — вот его правда лучше выбросить.
— Как?
Он кивком указал на мутный канал за окном.
— Ты серьезно?..
— А что такого? Что, выбрасывать пальто в канал — незаконно?
— Ну, я вообще-то думал, что да.
— Ну, кто знает. Если и так, то закон этот особо не соблюдают. Тут знаешь, сколько дерьма по каналам плавало, когда мусорщики бастовали. И американцы пьяные туда блюют, да все, что хочешь. Хотя, — он выглянул из окна, — ты прав, при свете дня этого лучше не делать. Положим в багажник, увезем в Антверпен, а там сожжем. Тебе понравится у меня дома. — Он вытащил телефон, набрал номер. — Студия как у художников, только без художников! А когда магазины откроются, пойдем и купим тебе новое пальто.
6
Домой я улетел ночным рейсом, два дня спустя (второй день Рождества мы провели в Антверпене, вместо вечеринок и девушек из эскорт-услуг — суп из консервов, укол пенициллина, Борисов диван и старые фильмы), и часов в восемь утра был дома у Хоби: изо рта у меня белыми клубами вырывался пар, я открыл дверь, украшенную ветками бальзамической пихты, миновал гостиную с потухшей елкой, под которой уже почти не осталось подарков, и прошел через весь дом на кухню, где и нашел Хоби — он с сонным, помятым лицом стоял на низенькой раздвижной лестнице и убирал на верхнюю полку в шкафу супницу и чашу для пунша, которые доставал для рождественского обеда. — Привет, — сказал я, бросив чемодан на пол, отвлекшись на Попчика, который прибежал поздороваться и храбро выписывал вокруг меня старческие восьмерки, и только потом я взглянул на Хоби, который как раз слезал с лестницы, и заметил, до чего решительный у него вид: его явно что-то беспокоило, но улыбался он широко, с вызовом.
— Ну как ты? — спросил я, разогнувшись, снял новое пальто и перекинул его через спинку стула. — Есть какие новости?
— Да почти что никаких.
На меня он не глядел.
— С Рождеством! Ну, с прошедшим. У тебя-то как оно прошло?
— Неплохо. А у тебя? — сухо спросил он, помолчав.
— Да ничего, в общем. Я был в Амстердаме. — уточнил я, потому что он все молчал.
— Правда? Там, наверное, было здорово. — Он был какой-то рассеянный, растерянный.
— Как обед прошел? — выждав немного, осторожно спросил я.
— О, прекрасно. Слякотно только было, а так посидели отлично. — Он пытался сложить лесенку, но ее, похоже, заело. — Там под елкой до сих пор твои подарки лежат, можешь открывать.
— Спасибо. Вечером все посмотрю. С ног валюсь. Тебе помочь? — спросил я, шагнув к нему.
— Нет-нет. Нет, спасибо. — Что-то случилось, его выдавал голос. — Все, сложил.
— Ладно, — ответил я, удивляясь, что он так ничего и не сказал про свой подарок: образчик детской вышивки, увитые лозой цифры и буквы, схематичные контуры животных, вышитые тонкой шерстяной ниткой, «Мэрри Стюртевант вышила, 11 лет, 1779» — Неужели он так его и не посмотрел? Я отрыл его на блошином рынке, в коробке с синтетическими бабскими трусами до колен — заплатил, кстати, совсем недешево для блошиного-то рынка, четыре сотни баксов, но я видел, как на аукционах похожие вещицы уходили по ценам на порядок выше. Я молча наблюдал за тем, как он ходит по кухне, будто на автопилоте — покружит немного, откроет холодильник, так ничего и не достанет, закроет, потом примется наливать в чайник воду — глубоко уйдя в свои мысли, упорно не глядя на меня.
— Хоби, ну что стряслось? — наконец спросил я.
— Ничего. — Он искал ложку, но открыл не тот ящик.
— Ну что, неужели ты мне не расскажешь?
Он поглядел на меня — во взгляде промелькнула неуверенность, потом снова отвернулся к плите, выпалил:
— Неуместно было с твоей стороны дарить Пиппе такое ожерелье.
— Что? — опешил я. — Она расстроилась?
— Я… — Он уставился в пол, покачал головой. — Я не знаю, что с тобой творится, — сказал он. — Больше не знаю, что и думать. Послушай, я не хочу тебя осуждать, — продолжал он, пока я сидел, так и застыв на месте. — Вот правда, не хочу. Я, если честно, вообще бы об этом предпочел не говорить. Но, — казалось, он подыскивает подходящие слова, — неужели ты сам не понимаешь, до чего это неприлично и огорчительно? Подарить Пиппе ожерелье за тридцать тысяч долларов! После того, как мы отпраздновали твою помолвку! Просто бросить ей это ожерелье в сапог! Подкинуть под дверь!
— Я не за тридцать тысяч его купил.
— Конечно же нет, в магазине оно бы все семьдесят пять стоило. И кроме того, — он вдруг подтянул к себе стул, уселся, — ох, я совсем не знаю, что делать, — жалобно сказал он. — Не знаю даже, с чего начать.
— Ты о чем?
— Пожалуйста, скажи мне, что ты никак не связан со всеми этими делами.
— Делами? — осторожно переспросил я.
— Ну… — Из кухонного радиоприемника доносится утренняя передача о классической музыке, раздумчивая фортепианная соната. — За два дня до Рождества у меня тут побывал весьма нежданный гость — твой друг Люциус Рив.
Я словно бы в пропасть рухнул — мгновенно, стремительно, на самое дно.
— С весьма пугающими обвинениями. Я такого и представить не мог. — Хоби зажмурился, прикрыл глаза рукой, посидел так с минуту. — Так, нет, про это потом. Нет-нет, — сказал он, отмахнувшись от меня, едва я попытался заговорить. — Давай по порядку. Сначала про мебель.
Между нами протянулась невыносимая тишина.
— Я понимаю, тебе непросто было мне открыться, в этом я сам виноват. И понимаю также, что сам-то и поставил тебя в такие условия. Но, — он огляделся, — два миллиона долларов, Тео!
— Выслушай меня…
— Надо было записывать, у него там были фотокопии — накладные по отгрузкам, мебель, которой мы никогда не продавали и которой у нас вообще не было, вещи музейного уровня, которых на самом деле не существует, их было столько — в голове не укладывалось, поэтому в какой-то момент я просто и считать перестал. Десятки! Этакого размаха я и вообразить себе не мог! И насчет подсадки ты мне наврал. Совсем не это ему нужно.
— Хоби, Хоби, послушай. — Он и смотрел на меня, и как будто бы не видел вовсе. — Прости, что тебе вот так вот пришлось обо всем узнать, я надеялся, что успею сначала все уладить, но… уже все в порядке, слышишь? Теперь я все могу выкупить, до последней щепочки.
Но он вместо того, чтоб облегченно вздохнуть, только покачал головой:
— Плохо как, Тео. Как же я мог такое допустить?
Не растеряйся я так, то напомнил бы ему, что он просто доверился мне и принимал за чистую монету все, что я ему говорю, — вот и вся его вина, но на лице у него было написано такое искреннее недоумение, что у меня духу не хватило ему хоть слово сказать.
— Почему это все зашло так далеко? Как же я не замечал ничего? Он мне показывал, — Хоби отвернулся, снова быстро, недоверчиво замотал головой, — твой почерк, Тео. Твою подпись. Стол работы Дункана Файфа… комплект шератоновских обеденных стульев… Шератоновская софа, отгружена в Калифорнию… Я сам эту софу сделал, Тео, собственными своими руками, ты сам видел, как я ее делал, это такой же шератон, как вон тот пакет из «Гристедес». Рамки все новые. Даже подлокотники — и те новые. Там настоящих — только две ножки, я же при тебе на новых ножках желобки протачивал…
— Прости, Хоби… налоговики каждый день названивали… я не знал, что делать…
— Да понимаю я, что не знал, — ответил он, хоть, как мне показалось, и взглянул на меня вопросительно. — Там в магазине настоящий Крестовый поход детей был. Да только вот, — он отодвинул стул, поглядел в потолок, — почему ты не остановился-то? Почему продолжал их продавать? Мы же тратили деньги, которых у нас, по сути, не было! Увязли по уши! И это длилось годами! Даже если б мы могли все выкупить, а на это у нас денег точно нет, и ты сам прекрасно это знаешь…
— Хоби, во-первых, деньги у меня есть, и во-вторых, — мне хотелось кофе, я клевал носом, но на плите кофейника не было, а приниматься варить кофе именно сейчас вот уж точно не стоило, — а во-вторых, ну я не буду говорить, что все, мол, в порядке, потому что совсем все не в порядке, я просто пытался подлатать кой-какие дыры и расплатиться с долгами, и я не знаю, почему это все зашло так далеко. Но… нет-нет, ты послушай, — настойчиво сказал я, потому что видел, как он растворяется, ускользает от меня — мама так же делала, когда ей приходилось сидеть и выслушивать какое-нибудь особенно путаное и дикое отцовское вранье. — Не знаю, чего он там тебе наговорил, но теперь деньги у меня есть. Все нормально. Понял?
— Даже спросить не осмеливаюсь, как ты их достал, — и, откинувшись на спинку стула, печально спросил: — А на самом-то деле — ты где был? Можно спросить?
Я закинул ногу на ногу, снова поставил ноги на пол, провел ладонями по лицу:
— В Амстердаме.
— Но почему в Амстердаме? — Я промямлил что-то в ответ, а он сказал: — Я думал, ты не вернешься.
— Хоби…
Я сгорал со стыда, я ведь так старательно прятал от него свою мошенническую природу, демонстрировал ему только подчищенную, отглаженную версию себя, не постыдную, негодную сущность, которую я так отчаянно скрывал — обманщика и труса, лжеца и афериста..
— Почему ты вернулся? — он говорил теперь быстро, жалобно, как будто хотел сплюнуть все слова, разволновавшись, он вскочил, заходил по комнате, зашлепали по полу тапочки. — Я думал, больше тебя не увижу. Всю прошлую ночь — последние две-три ночи — я глаз сомкнуть не мог, все думал, что же делать. Крах. Катастрофа. И украденные эти картины во всех новостях. Ну и Рождество. А тебя — тебя нигде нет! На звонки не отвечаешь, и где ты, никто не знает…
— Господи. — Тут мне стало по-настоящему дурно. — Прости. И слушай, слушай, — заторопился я, рот у него сжался в нитку, он тряс головой, как будто уже отгородился от всех моих слов, и слушать, мол, нечего, — если ты из-за мебели переживаешь…
— Из-за мебели?! — Мирный, терпеливый, бесконфликтный Хоби заклокотал, как бойлер, который вот-вот взорвется. — Да кто говорит про мебель?! Рив сказал, ты запаниковал, удрал, но, — он быстро-быстро заморгал, пытаясь взять себя в руки, — я не верил, что ты на такое способен, не мог в такое поверить и боялся, что все куда хуже. Сам понимаешь, о чем я, — полусердито прибавил он, когда я ничего не ответил. — Что мне было думать? Ты так внезапно сбежал с вечеринки… А мы с Пиппой, ох, ты даже не представляешь, что было — хозяйка вечера надулась, «а где это жених?», фырк-фырк, ты так быстро ушел, на ужин после вечеринки мы приглашены не были, поэтому тоже сбежали, и тут — представляешь, каково мне было — возвращаюсь, дома все двери открыты, стоят нараспашку практически, из кассы пропали все деньги… И бог бы с ним, с ожерельем, но ты и записку Пиппе оставил такую странную, она разволновалась не меньше моего…
— Она волновалась?
— Конечно, она волновалась! — Он резко взмахнул рукой. Он чуть ли не кричал. — Что нам было думать? И тут еще кошмарный этот визит Рива. Я затеял пирог, не надо было вовсе дверь открывать, но я думал, что это Мойра… девять утра, а я стою в дверях, весь в муке, раскрыв рот, и пялюсь на него… Тео, почему ты это сделал? — с отчаянием спросил он.
Не понимая, о чем он — я много чего наделал, — я в ответ только отвернулся и покачал головой.
— Такая нелепица, как в такое вообще поверишь? Да я, по правде сказать, и не поверил. Потому что я понимаю, — я все молчал, и он продолжал говорить, — слушай, насчет мебели мне все понятно, ты не мог поступить иначе, и уж поверь, я тебе благодарен, если б не ты, я б сейчас работал на дядю и жил бы в каморке с клопами. Но, — он засунул кулаки поглубже в карманы халата, — но остальной весь этот бред? Разумеется, я пытался прикинуть, ты-то как во всем этом замешан. Еще бы, ты же сбежал, почти никому и слова не сказав, вместе с этим твоим приятелем, который, ты уж прости, юноша очаровательный, но вид у него такой, будто сидел он не раз…
— Хоби…
— А Рив-то! Ты бы его слышал… — Казалось, из Хоби выкачали всю энергию, он обмяк, поник. — Старый змей. И — чтоб ты знал, он дошел до того что… кража музейных шедевров?! Тут я встал на твою защиту и высказался очень ясно. Чего бы ты там ни натворил, но я был уверен — такого ты уж точно не делал. И тут? Не прошло и трех дней. И — о чем говорят во всех новостях? О какой картине? Что нашли вместе с другими пропавшими шедеврами? Он правду сказал? — спросил Хоби, потому что я так ничего и не ответил ему. — Твоих рук дело?
— Да. Ну, то есть чисто технически — нет.
— Тео.
— Я могу все объяснить.
— Уж прошу тебя, — сказал он и яростно принялся тереть глаза.
— Присядь.
— Я… — Он растерянно заоглядывался, как будто боялся, что если сядет со мной за стол, то растеряет всю свою решимость.
— Нет, ты лучше присядь все-таки. История долгая. Я постараюсь покороче.
7
Он не проронил ни слова. Он не подошел к звонившему телефону. После перелета я вымотался, все кости ныли, и о двух трупах я, конечно же, умолчал, но в остальном — рассказал обо всем так подробно, как только мог: говорил короткими, сухими фразами, не оправдывался, не вдавался в объяснения. Когда я закончил, он даже с места не сдвинулся, молчание его меня пугало — в кухне стояла мертвая тишина, только гудел предсмертно старенький холодильник. Наконец он откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки.
— До чего странно иногда все оборачивается, верно? — сказал он.
Я молчал, не зная, что отвечать.
— Ну, то есть, — он потер глаза, — я чем старше становлюсь, тем больше это понимаю. До чего же время — удивительная штука. Сколько трюков у него в рукаве, сколько сюрпризов.
Я расслышал и понял только одно слово — «трюки». Тут Хоби вдруг резко поднялся — распрямился во весь свой двухметровый рост, и мне показалось, что проступила в его фигуре какая-то печальная неумолимость, призрак какого-нибудь его предка — совершающего обход полицейского, вышибалы, который сейчас возьмет и вышвырнет тебя из паба.
— Я пойду, — сказал я.
Он быстро-быстро заморгал.
— В смысле?
— Я выпишу тебе чек на всю сумму. Обналичишь только не сразу, а когда я скажу, вот и все. И клянусь, у меня никогда и в мыслях не было тебе навредить.
Привычным небрежным жестом он отмахнулся от моих слов:
— Нет, нет. Подожди здесь. Я тебе покажу кое-что.
Он встал, ушел, поскрипывая половицами, в гостиную. Не было его долго. Вернулся он с ветхим фотоальбомом в руках. Сел. Принялся его листать. И наконец, отыскав нужную страницу, протянул фотоальбом мне.
— Взгляни-ка, — сказал он.
Выцветшая фотокарточка. Маленький, носатенький, похожий на птичку мальчик улыбается, сидя за фортепиано в пышно обставленной комнате времен «прекрасной эпохи»: не то чтобы парижской, совсем нет — каирской. Парные жардиньерки, много французских бронзовых статуэток, много маленьких картин. В одной — с цветами в стакане — я опознал Мане. Но тут мой взгляд замер, уцепившись за двойника куда более знакомого мне образа, парой рамок выше.
Это, конечно же, была копия. Но даже на потускневшем старинном снимке картина теплела собственным, отдельным и до странного современным светом.
— Копия, — сказал Хоби. — И Мане тоже. Ничего особенного, но, — он положил руки на стол, — эти картины были огромной частью его детства, самой счастливой поры, еще до того, как он заболел — единственный ребенок, слуги его на руках носят, на него не надышатся — инжир, мандарины, балкон весь в цветущем жасмине. Ты ведь знал, что он говорил и по-арабски, и по-французски, да? И, — Хоби прижал руки к груди, постучал по губам пальцем, — он часто говорил, что великие картины и через копии можно глубоко познать, обжить даже. Даже вот у Пруста — знаменитый пассаж про то, как Одетта принимает его, будучи не совсем здоровой, она хмурится, волосы у нее неубраны, спадают на щеки прядями, кожа покрыта маленькими красноватыми пятнышками, и Сван, который до этой минуты о ней почти и не думал, влюбился в нее, потому что она выглядит точь-в-точь как девушка работы Боттичелли на слегка растрескавшейся фреске. Образ, который сам Пруст видел только на репродукциях. Оригинала, в Сикстинской капелле, он никогда не видел. И про это — весь роман, если так посмотреть, он выстроен вокруг этой сцены. Несовершенство — это отчасти то, что его и привлекает, те самые чуть одутловатые щеки у девушки на картине. Но даже не видя оригинала, Пруст сумел переосмыслить этот образ, перекроить им саму реальность, выхватить из него что-то уникальное и показать это миру. Потому что линия красоты есть линия красоты. Даже после того, как ее сто раз пропустили через ксерокс.
— Верно, — ответил я, но подумал не о картине, а о подменышах Хоби. О предметах, которые ожили под его пальцами, засияли так, будто на них чистым золотом пролилось Время, о копиях, пробуждавших любовь к «хэплуайту» или «шератону», даже если ты в жизни не видал ни «шератона», ни «хэплуайта».
— Ну, кто бы говорил, конечно, я и сам — старый подражатель. Помнишь, что говорил Пикассо? «Плохие художники копируют, хорошие — крадут». Но когда речь идет о великом шедевре, тебя всякий раз потряхивает, как током от оголенного провода. И неважно, сколько раз ты хватаешься за этот провод, неважно, сколько там еще человек хватались за него до тебя. Провод-то один и тот же. Свисает из высших сфер. И разряд в нем все тот же. И копии эти, — он оперся о стол, наклонился ко мне, — копии эти, в окружении которых он вырос и утратил, когда сожгли их дом в Каире, да, по правде сказать, он-то их утратил даже раньше, когда стал калекой и его отослали в Америку, но… он ведь тоже остался человеком, не хуже нашего, он привязывался к вещам, видел в них душу, видел в них индивидуальность, и хоть почти вся его прошлая жизнь была для него потеряна, картины остались с ним навсегда, потому что оригиналы никуда не делись. Он, бывало, специально куда-нибудь ездил, чтоб на них посмотреть, однажды проехал на поезде до самого Балтимора, там выставляли подлинник его Мане, давным-давно это было, еще мать Пиппы была жива. Для Велти то была целая экспедиция. Но он знал, до музея Орсе ему в жизни не добраться. И в тот день, когда они с Пиппой пошли на выставку голландской живописи. Как по-твоему, ради какой картины он ее туда повел?
Вот что занятно, худенький кривоногий мальчик на фото — невинный, мило улыбающийся ребенок в матросском костюмчике — был также и стариком, который, умирая, хватался за мою руку: наложились друг на друга две разные оболочки одной души. И картина, висевшая у него над головой, была той самой точкой сочленения: знаков и видений, прошлого и будущего, удачи и рока. Не было тут единого ответа. Ответов было множество. То была загадка, обраставшая все новыми, новыми и новыми разгадками.
Хоби кашлянул:
— Можно вопрос?
— Конечно.
— Ты как ее хранил?
— В наволочке.
— Хлопковой?
— Ну, перкалевый хлопок.
— Без подкладки? Ничем не прикрыв?
— Только бумагой и скотчем сверху. Ну да, — ответил я, когда в глазах у него заплескалась тревога.
— Надо было взять кальку и пленку с пузырьками!
— Это я теперь знаю.
— Прости, — он поморщился, потер висок. — В голове никак не укладывается. И ты, значит, провез картину в багаже, на рейсе «Континентал Эйрлайнз»?
— Говорю же, мне было тринадцать.
— Почему же ты мне не рассказал? Мог бы мне рассказать! — добавил он, когда я помотал головой.
— Ну да, — ответил я несколько поспешно, вспомнив, как одиноко, как страшно мне тогда было: боязнь соцслужб, удушливый мыльный запах спальни, где нельзя было запереться, пронизывающий холод бетонно-серой приемной, в которой я дожидался встречи с мистером Брайсгердлом, страх, что меня отошлют из Нью-Йорка.
— Я бы что-нибудь придумал. Впрочем, когда ты вот на меня свалился — бездомный ребенок… Надеюсь, ты не обидишься на то, что я тебе скажу, но даже твой юрист, да ты и сам все не хуже моего знаешь, его эта ситуация заставила понервничать, он все старался отправить тебя куда-нибудь, чтоб ты не жил у меня, да и с моей стороны — старые друзья мне твердили: «Джеймс, ты слишком много взвалил на себя…», ну сам понимаешь, почему они так думали, — поспешно прибавил он, когда увидел, какое у меня сделалось лицо.
— Ну да, да. — Фогели, Гроссманы, Мильдебергеры хоть и были всегда со мной вежливы, но при этом вполне ясно давали мне понять, что думают — у Хоби, мол, и без того забот хватает.
— В каком-то смысле, это, конечно, было безумием. Я понимал, как это все со стороны выглядит. И при этом — ну что ж — казалось, что все проще некуда: Велти прислал тебя сюда, и вот он ты, как жучок, возвращаешься сюда снова и снова… — Он задумался, наморщил лоб, заострилось вечное беспокойство у него на лице. — Я все как-то косноязычно, вот что сказать-то хочу, когда умерла моя мать, помню, тем ужасным, бесконечным летом я все ходил, ходил. Доходил, бывало, от Олбани до самой Трои. Прятался от дождя под навесами магазинов. Что угодно, только бы не возвращаться в дом, где ее больше нет. Скитался повсюду, как призрак. Сидел в библиотеке до самого закрытия, пока не выгонят, а потом садился на автобус до Вотервлита, ехал туда, бродил там. Я был крупным мальчишкой, уже в двенадцать лет — ростом со здорового мужика, люди принимали меня за бродягу, домохозяйки метлами отгоняли от своих домов. Но так-то вот я и попал к миссис де Пейстер — я сидел у нее на пороге, а она открыла дверь и сказала: «У тебя, наверное, в горле пересохло, может, зайдешь?» Портреты, миниатюры, дагерротипы, старушка-тетя такая-то, дядя сякой-то, и так далее, и так далее. Со второго этажа — винтовая лестница. Вот она где была — моя спасательная шлюпка. Доплыл. В том доме, бывало, приходилось себя щипать, чтоб вспомнить, что на дворе не тысяча девятьсот девятый. Никогда и нигде я больше не видел таких шедевров классического американского стиля, и, господи ты боже мой, какое же у нее было витражное стекло от «Тиффани» — это еще до того было, как все стали носиться с «Тиффани», тогда люди о нем и думать не думали, тогда это все не было модным, в Нью-Йорке, может, оно все уже и тогда стоило больших денег, но в те времена, у нас на Севере, на барахолках его можно было купить за бесценок. Вскоре я и сам стал рыскать по этим барахолкам. Но ей — ей все досталось по наследству. У каждой вещи была своя история. И с каким же удовольствием она мне показывала, где встать, в какое время, чтоб увидеть каждый предмет при наилучшем освещении. Ближе к вечеру, когда закатное солнце прокатывалось по комнате, — он растопырил пальцы, on! on, — они так и загорались один за другим, словно связка шутих.
С моего места мне хорошо был виден Ноев ковчег: стоят по двое слоны и зебры, шагают парами резные звери, до самых крохотных — петуха с наседкой, кроликов, мышей, которые и завершают процессию. И там засело безмолвное воспоминание, закодированное послание из того самого первого дня: струи дождя стекают по окошку в крыше, выстроились рядком на кухонной стойке неказистые деревянные животные, ждут, когда их спасут. Ной — великий сторож, великий охранитель.
— И, — он встал, принялся варить кофе, — наверное, не очень-то благородно — всю жизнь так страстно печься о вещах…
— Это кто сказал?
— Ну, — он повернулся от плиты, — давай по-честному, мы ведь не детей тут лечим? Что благородного в том, чтоб латать старые столы да стулья? Душу разъедает — почти наверняка. Уж я-то в стольких домах побывал, мне ли этого не знать. Идолопоклонство! Страстная любовь к вещам — губительна. Да только, если сильно любишь какую-то вещь, она начинает жить своей жизнью, верно ведь? А не в том ли смысл всех вещей — красивых вещей, — чтоб служить проводниками какой-то высшей красоте? Ты всю оставшуюся жизнь будешь искать или стараться как уж угодно повторить те самые, первые образы, от которых у тебя треснуло и надломилось сердце? Потому что я вот о чем: чинить старые вещи, сохранять их, ухаживать за ними — в каком-то смысле ничего рационального в этом нет…
— Если уж я люблю что-то, то безо всякой там «рациональности».
— Ну, да и я тоже, — миролюбиво сказал Хоби. — Но, — близоруко щурясь, он заглянул в банку с кофе, зачерпнул молотый кофе ложкой, насыпал его в джезву, — ты уж прости мое занудство, но как по мне, так все это немного отдает навязчивой идеей, не согласен?
— Что-что?
Он рассмеялся.