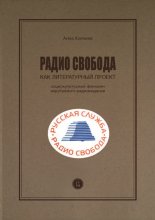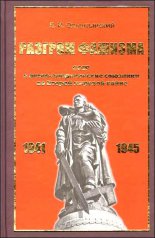Воспоминания великого князя Александра Михайловича Романова Романов Александр
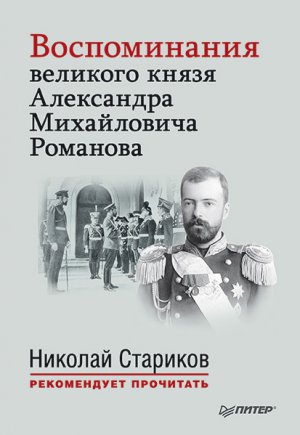
Лицо его прояснилось.
— Я всецело понимаю тебя, но я не могу отпустить тебя. Ты мне будешь нужен в Петербурге. Я хочу воспользоваться твоим опытом. Ты должен немедленно повидаться с дядей Алексеем и морским министром.
В течение часа я старался ему доказать, что я мог бы принести, гораздо большую пользу в Порт-Артуре, чем в столице, но Государь не соглашался. Я подозревал, что на него повлияли его мать и Ксения, которые не хотели подвергать меня непосредственно опасности.
В тот же день я встретил адмирала Авелана, моего бывшего командира по «Рынде», превосходного моряка, который, однако, совершенно не подходил для административного поста морского министра. Ни он, ни начальник главного морского штаба адмирал Рожественский{34} не могли мне объяснить, что же теперь произойдет и каким образом мы с нашими сорока пятью боевыми единицами, составляющими Тихоокеанскую эскадру, сможем одержать победу над японскими судами, построенными на английских судостроительных верфях?
От волнения налитые кровью глаза Авелана лезли буквально на лоб. Рожественский же заявил, что готов немедленно отправиться в Порт-Артур и встретиться с японцами лицом к лицу. Его почти нельсоновская речь звучала комично в устах человека, которому была вверена почти вся власть над нашим флотом. Я напомнил ему, что Россия вправе ожидать от своих морских начальников чего-нибудь более существенного, чем готовности пойти ко дну.
— Что я могу сделать, — воскликнул он: — общественное мнение должно быть удовлетворено. Я знаю это. Я вполне отдаю себе отчет в том, что мы не имеем ни малейшего шанса победить в борьбе с японцами.
— Отчего вы не думали об этом раньше, когда высмеивали моряков микадо?
— Я не высмеивал, — упрямо возразил Рожественский: — Я готов на самую большую жертву. Это тот максимум, который можно ожидать от человека.
И этот человек с психологией самоубийцы собирался командовать нашим флотом. Я был глубоко потрясен и, забыв общеизвестные черты характера нашего милейшего Генерал-Адмирала, отправился к дяде Алексею. Свидание носило скорее комический характер. Все вооруженные силы микадо на суше и на море не могли смутить оптимизма дяди Алексея. Его девиз был неизменен: «Мне на все наплевать». Каким образом должны были проучить наши «орлы» «желтолицых обезьян», так и осталось для меня тайной. Покончив таким образом со всеми этими вопросами, он заговорил о последних новостях Ривьеры. Что дал бы он, чтобы очутиться в Монте-Карло.
Пошли вопросы: видел ли я мисс X. и понравилась ли мне мисс У.? Не соберусь ли я к нему пообедать и вспомнить старое? Его повар изобрел новый способ приготовления стерляди, представлявший собою величайшее достижение кулинарного искусства, и т. д.
Главнокомандующим нашей армией в Манджурии был назначен генерал Куропаткин. В противоположность нашим морским начальникам, Куропаткин был полон оптимизма и уже победил японцев по всему фронту задолго до того, как его поезд выехал из Петербурга на Дальний Восток. Типичный офицер Генерального Штаба, он всецело полагался на свои теоретические расчеты, диспозиции и т. п. Что бы ни предприняли японцы, у Куропаткина имелся про запас контр-маневр. Он очень охотно беседовал с петербургскими журналистами и давал подробные интервью.
А в это время бесконечные воинские поезда медленно переползали чрез Урал. Три четверти солдат, которые должны были драться, только накануне узнали о существовании японцев. Им казалось непонятным оставлять родные места и рисковать своими жизнями в войне с народом, который не причинил им никакого непосредственного зла.
— Далеко ли до фронта? — спрашивали они своих офицеров.
— Около семи тысяч верст. Семь тысяч верст. Даже словоохотливый Главнокомандующий русской армией не мог бы объяснить этим солдатам, для чего понадобилось России воевать со страной, расположенной на расстоянии семи тысяч верст от тех мест, где русский мужик трудился в поте лица своего.
Бесцельно пересказывать вновь эпопею русско-японской войны. В течение восемнадцати месяцев мы шли от одного поражения к другому. Когда она окончилась и Витте удалось заставить японцев принять довольно сносные условия мира, наши генералы заявили, что, если бы у них было больше времени, они могли бы выиграть войну. Я же полагал, что им нужно было дать двадцать лет для того, чтобы они могли поразмыслить над своей преступной небрежностью. Ни один народ не выигрывал и не мог выиграть войны, борясь с неприятелем, находившимся на расстоянии семи тысяч верст и в то время, как внутри страны революция вонзала нож в спину армии.
Мое личное участие в войне 1904–1905 гг. оказалось весьма неудачным. В феврале 1904 г. Государь возложил на меня задачу организовать так называемую «крейсеровскую войну», имевшую целью следить за контрабандой, которая направлялась в Японию. Получив необходимые данные из нашей контрразведки, я выработал план «крейсерской войны», который был утвержден Советом министров и который заключался в том, что русская эскадра из легко вооруженных пассажирских судов должна была иметь наблюдение за путями сообщения в Японию. При помощи своих агентов я приобрел в Гамбурге у «Гамбург-Американской линии» четыре парохода по 12 000 тонн водоизмещения. Эти суда, соединенные с несколькими пароходами Добровольного флота, составляли ядро эскадры для «крейсерской войны». Они были снабжены артиллерией крупного калибра и были поставлены под начальством опытных и бравых моряков.
Замаскировав движение избранием направления, казавшегося совершенно невинным, наша флотилия появилась в Красном море как раз вовремя, чтобы захватить армаду из 12 судов, нагруженных огнестрельными припасами и сырьем и направлявшихся в Японию. Добытый таким образом ценный груз возмещал расходы, понесенные на выполнение моего плана. Я надеялся получить Высочайшую благодарность. Однако наш министр иностранных дел бросился в Царское Село с пачкой телеграмм: в Берлине и в Лондоне забили тревогу. Британское министерство иностранных дел выражало «решительный протест», Вильгельм II шел еще дальше и отзывался о действиях нашей эскадры, как «о небывалом акте пиратства, способном вызвать международные осложнения».
Получив вызов по телефону, я поспешил в Царское Село и застал Никки и министра иностранных дел в полном отчаянии. Дядя Алексей и адмирал Авелан сидели в креслах тут же с видом напроказивших детей, пойманных за кражей сладкого. В роли «дурного мальчика», соблазнившего их на этот поступок, оказался я, и все стремились возложить на меня всю ответственность за происшедшее. Никки, казалось, забыл, что идея «крейсерской войны» родилась в его присутствии, и он выразил тогда свое полное согласие на ее осуществление. Теперь он требовал объяснений.
— Какие же объяснения? — воскликнул я, искренно удивленный. — С каких пор великая держава должна приносить извинения за то, что контрабанда, адресованная ее противнику, не дошла по назначению? Зачем мы послали наши крейсера в Красное море, как не с целью ловить контрабанду? Что это, война или же обмен любезностями между дипломатическими канцеляриями?
— Но разве, Ваше Высочество, не понимаете, — кричал министр иностранных дел, впавший, по-видимому, в окончательное детство. — Мы рискуем тем, что нам будет объявлена война Великобританией и Германией. Разве вы не понимаете, на что намекает Вильгельм в своей ужасной телеграмме?
— Нет, не понимаю. Более того, я сомневаюсь, знает ли сам германский Император, что он хотел выразить своей телеграммой. Мне ясно только одно: он, по обыкновению, ведет двойную игру. Друг он нам или не друг? Чего же стоят его рассуждения о необходимости единения всех белых пред лицом желтой опасности?
— Вы видите, — продолжал кричать министр иностранных дел: — Его Высочество совершенно не отдает себе отчета в серьезности создавшегося положения. Он даже старается оправдать действия своей эскадры.
— «Своей эскадры», — я взглянул на адмирала Авелана и дядю Алексея. Мне казалось, что они будут достаточно мужественны, чтобы опровергнуть этот вздор, но они оба молчали. Таким образом, я оказался в роли зачинщика, а они в роли детей, которых направили на ложный путь.
— Сандро, я принял решение, — сказал твердо Никки: — ты должен немедленно распорядиться, чтобы твоя эскадра освободила захваченные в Красном море пароходы и в дальнейшем воздержалась от подобных действий.
Я задыхался от унижения. Я думал об офицерах и команде наших крейсеров, которые так гордились тем, что им удалось совершить, и ожидали поощрения. Предо мною мелькнуло ненавистное лицо Вильгельма, который торжествовал свою победу. А мои бывшие друзья в Токио. Как будет смеяться умный граф Ито!
В обычное время я подал бы в отставку и отказался бы от всех моих должностей, включая начальника Главного управления портов и торгового мореплавания. Но великий князь не имел права покидать своего Государя в тяжелое время. Подавив горечь, я подчинился.
Эпизод с «крейсерской войной» причинил мне громадное разочарование. Я надеялся, что Никки оставит меня в покое, перестанет рассчитывать на мою помощь и спрашивать моих советов. Но я ошибся. Мое мнение опять понадобилось. Начинался новый кошмар. Мы сидели в Царском с Никки, дядей Алексеем и Авеланом и обсуждали новый важный вопрос. Нам предстояло решить, должны ли мы утвердить план адмирала Рожественского, который предлагал отправить наши военные суда на Дальний Восток, на верную гибель?
Сам адмирал не питал каких-либо надежд на победу. Он просто думал о том, что надо «чем-нибудь удовлетворить общественное мнение». Наш флот и тысячи человеческих жизней должны были быть принесены в жертву невежественным газетным «специалистам по морским вопросам». Эти последние открыли недавно существование некоторых технических морских терминов, вроде «боевой коэффициент», «морской тоннаж» и т. п., и старались ежедневно доказать в газетных столбцах, что японцев можно пустить ко дну соединенными силами наших Тихоокеанской и Балтийской эскадр.
Никки объяснил нам причину нашего совещания и просил нас всех искренно высказать свое мнение по этому вопросу.
Дядя Алексей ничего не мог сказать и имел гражданское мужество в этом признаться. Авелан говорил много, но не сказал ничего путного. Его речь была на тему «с одной стороны нельзя не сознаться, с другой стороны нельзя не признаться…». Рожественский блеснул еще раз основательным знанием биографии Нельсона. Я говорил последним и решил не церемониться. К моему величайшему удивлению, было решено последовать моему совету и наш Балтийский флот на верную гибель в Тихий океан не посылать.
В течение двух недель все было благополучно, но к концу второй недели Никки снова изменил свое мнение. Наш флот должен был все-таки отправиться на Дальний Восток, и я должен был сопровождать Государя в Кронштадт для прощального посещения наших кораблей. По дороге в Кронштадт я снова пробовал высказать свою точку зрения и встретил поддержку в лице весьма опытного флаг-капитана императорской яхты «Штандарт». Государь начал снова колебаться. В душе он соглашался со мною.
— Дай мне еще раз поговорить с дядей Алексеем и Авеланом, — сказал он, когда мы переходили на яхту адмирала. — Дай мне поговорить с ними с глазу на глаз. Я не хочу, чтобы твои доводы на меня влияли.
Их заседание длилось несколько часов. Я же, в роли «enfant ter-rible»{35}, ожидал их на палубе.
— Ваша взяла, — сказал Авелан, появляясь на палубе: — мы приняли неизменное решение эскадры на Дальний Восток не посылать.
«Неизменность» решения Никки продолжалась десять дней. Но он все же переменил в третий и в последний раз свое решение. Наши суда, матросы и офицеры должны были все-таки быть принесены в жертву на алтарь общественного мнения.
14 мая — в девятую годовщину коронации — наш обед был прерван прибытием курьера от Авелана: наш флот был уничтожен японцами в Цусимском проливе, адмирал Рожественский взят в плен. Если бы я был на месте Никки, я бы немедленно отрекся от престола. В Цусимском поражении он не мог винить никого, кроме самого себя. Он должен был бы признаться, что у него недоставало решимости отдать себе отчет во всех неизбежных последствиях этого самого позорного в истории России поражения. Государь ничего не сказал, по своему обыкновению. Только смертельно побледнел и закурил папиросу.
В этот день наследнику Алексею исполнилось ровно девять с половиной месяцев и прошло немного более трех месяцев со дня убийства дяди Сергея в Москве.
Вся Россия была в огне. В течение всего лета громадные тучи дыма стояли над страной, как бы давая знать о том, что темный гений разрушения всецело овладел умами крестьянства, и они решили стереть всех помещиков с лица земли. Рабочие бастовали. В Черноморском флоте произошел мятеж, чуть не принявший широкие размеры, если бы ни лояльность моего бывшего флагманского судна «Ростислава». Новый министр внутренних дел князь Святополк-Мирский, заменивший убитого Плеве, говорил о «своей бесконечной вере в мудрость общественного мнения». А тем временем революционеры убивали высших должностных лиц вблизи тех мест, где Святополк-Мирский произносил свои речи. Латыши и эстонцы методически истребляли своих исконных угнетателей — балтийских баронов, и один из блестящих полков гвардии должен был нести в Прибалтийских губерниях неприятную обязанность по охране помещичьих усадеб. Полиция на местах была в панике. Из всех губерний неслись вопли о помощи и просьбы прислать гвардейские части или казаков. Было убито так много губернаторов, что назначение на этот пост было равносильно смертному приговору. Заключение мира с Японией, состоявшееся благодаря дружественному вмешательству президента С. Ш. С. А. Рузвельта, поставило на очередь чрезвычайно сложную проблему о возвращении наших военных частей с фронта в Европейскую Россию по Сибирской железной дороге, объятой на большей части протяжения всеобщей забастовкой.
6 августа был подписан Манифест о созыве так называемой «Булыгинской» Государственной Думы, обладавшей законосовещательными правами. Эта полумера, вместо успокоения, лишь удвоила агрессивность революционеров.
Война была окончена, но необходимо было немедленно приступить к постройке эскадры минных крейсеров за счет сумм, полученных по всенародной подписке, и эта новая задача была возложена Никки на меня. Я выехал в Ай-Тодор. Госпиталь, который я выстроил в предыдущее лето у себя в имении для выздоравливающих офицеров, хорошо работал, но революционное движение захватило даже благословенный Крым. Для нашей охраны из Севастополя прибыла рота солдат. Мы ходили с кислыми лицами, дети были подавлены. Телефонное сообщение с Севастополем было прервано забастовкой. То же самое происходило с почтой. Отрезанный от всего мира, я проводил вечера, сидя на скамейке около Ай-Тодорского маяка и мучительно ища выхода из создавшегося положения. Чем больше я думал, тем более мне становилось ясным, что выбор лежал между удовлетворением всех требований революционеров или же объявлением им беспощадной войны. Первое решение привело бы Россию неизбежно к социалистической республике, так как не было еще примеров в истории, чтобы революции останавливались бы на полдороге. Второе — возвратило бы престиж власти. Но во всяком случае положение прояснилось бы. Если Никки собирался сделаться полковником Романовым, то путь к этому был чрезвычайно прост. Но если он хотел выполнить присягу и остаться Монархом, он не должен был отступать ни на шаг пред болтунами революции. Таким образом, было два исхода: или белый флаг капитуляции, или же победный взлет императорского штандарта. Как Самодержец Всероссийский Николай II не мог допустить никакой иной эмблемы на верхушке шпиля Царскосельского дворца.
Тысяча пятьсот верст отделяли Петербург от Ай-Тодора. Еще большее расстояние отделяло мое мировоззрение от колеблющейся натуры Императора Николая II. 17 октября 1905 г. после бесконечного совещания, в котором приняли участие Витте, великий князь Николай Николаевич, министр двора Фредерикс, Государь подписал Манифест, весь построенный на фразах, имевших двойной смысл. Николай II отказывался удовлетворить обе боровшиеся силы революции — крестьян и рабочих, но перестал быть Самодержцем, несмотря на принесенную им во время коронования присягу в Московском Успенском соборе — свято соблюдать обычаи своих предков. Интеллигенция получила, наконец, долгожданный парламент. Русский Царь стал отныне пародией на английского короля, и это в стране, бывшей под татарским игом в годы великой хартии вольностей. Сын Императора Александра III соглашался разделить свою власть с бандой заговорщиков, политических убийц и провокаторов департамента полиции.
Это был — конец! Конец династии, конец Империи! — Прыжок чрез пропасть, сделанный тогда, освободил бы нас от агонии последующих двенадцати лет!
Как только телеграфное сообщение с Петербургом восстановилось, я немедленно телеграфировал Никки, прося об отставке от должности начальника Управления портов и торгового мореплавания. Я не хотел иметь ничего общего с правительством, идущим на трусливые компромиссы, и менее всего с группой бюрократов, во главе которой стал Витте, назначенный российским премьер-министром.
Бесчинства проклятого 1905 г. продолжались все возрастающим темпом.
В конце октября по России прокатилась волна еврейских погромов, которые либеральный Витте не мог остановить. Этот самодовольный Макиавелли воображал, что получит поддержку крайне правых элементов, разрешив пьяной черни разрушать дома и лавки еврейского населения! Он был достоин презрения и жалости!
Кульминационный пункт кровопролития наступил в декабре 1905 г., когда л. — гв. Семеновский полк должен был экстренно прибыть в Москву на подмогу бессильной полиции для подавления восстания на Пресне.
Выборы в I Государственную Думу происходили в атмосфере политических убийств, забастовок, экспроприаций и пожаров помещичьих усадьб. Большевики советовали своим сторонникам бойкотировать на выборах Государственную Думу, уступив поле битвы для триумфа кадетов — партии, состоявшей из профессоров, журналистов, докторов, адвокатов и пр., предводительствуемых поклонниками английской конституции.
Утром 27 апреля 1906 г. вдовствующая Императрица, великий князь Михаил Александрович, Ксения и я сопровождали Царя и Царицу из Петергофа в С.-Петербург, в Зимний дворец на открытие I Государственной Думы.
Церемония происходила в том же зале, в котором одиннадцать лет тому назад Никки просил представителей земско-городского съезда забыть о «бессмысленных мечтаниях», и эта неудачная фраза стала с тех пор военным кличем революции.
Все мы были в полной парадной форме, а придворные дамы — во всех своих драгоценностях. Более уместным, по моему мнению, был бы глубокий траур.
После богослужения Никки прочел короткую речь, в которой подчеркивал задачи, стоявшие пред членами Государственной Думы и преобразованного Государственного Совета. Мы слушали стоя. Мои близкие сказали мне, что они заметили слезы на глазах вдовствующих Императрицы и великого князя Владимира Александровича. Я сам бы не удержался от слез, если бы меня не охватило странное чувство при виде жгучей ненависти, которую можно было заметить на лицах некоторых наших парламентариев. Мне они показались очень подозрительными, и я внимательно следил за ними, чтобы они не слишком близко подошли к Никки.
— Я надеюсь, что вы начнете свою работу в дружном единении, вдохновленные искренним желанием оправдать доверие Монарха и нашей великой Родины. Да благословит вас Господь!
Таковы были заключительные слова речи Государя. Он читал свою речь звонким, внятным голосом, сдерживая чувства и скрывая горечь.
Затем раздались крики «ура» — громкие из группы членов Государственного Совета, слабые из группы членов Государственной Думы, и похороны самодержавия были закончены. Мы переоделись и возвратились в Петергоф.
Витте был уволен от должности председателя Совета министров накануне открытия Думы, и во главе смущенных сановников стоял теперь И. Л. Горемыкин{36}, дряхлый, покрытый морщинами, выглядевший как труп, поддерживаемый невидимой силой.
Во дворце царила подавленная атмосфера. Казалось, что приближенные Царя пугались собственной тени. Я задыхался. Меня тянуло к морю. Новый морской министр, адмирал Бирилев, предложил мне, чтобы я принял на себя командование флотилией минных крейсеров Балтийского моря. Я немедленно согласился принять это назначение. В том настроении, в котором я был, я согласился бы мыть палубы кораблей! Я задрожал от счастья, когда увидел мой флаг, поднятый на «Алмазе», и испытывал живейшую радость, что, по крайней мере, три месяца проведу, не видя «пляски смерти».
Ксения и дети проводили лето в Гатчине. Раз в неделю они навещали меня. Мы условились, что в моем присутствии не будет произнесено ни одного слова о политике. Все, что я знал о политических новостях, — это то, что молодой, энергичный саратовский губернатор П. А. Столыпин заменил И. Л. Горемыкина. Мы плавали в финских водах на яхте моего шурина Миши и говорили о вещах, очень далеких от новой российской «конституции».
Однажды пришло известие из Гатчины о том, что один из моих сыновей заболел скарлатиной и находится в тяжелом состоянии. Я должен был немедленно выехать.
— Я вернусь при первой же возможности, — обещал я своему помощнику. — Вероятно, на следующей неделе.
Эта «следующая неделя» так никогда и не наступила. Через три дня я получил от моего денщика, остававшегося на «Алмазе», записку, что экипаж крейсера накануне восстания и ждет только моего возвращения, чтобы объявить меня заложником.
— Я глубоко огорчен, Сандро, но в данном случае тебе не остается ничего другого, как подать в отставку, — решил Никки. — Правительство не может рисковать выдать члена Императорской фамилии в руки революционеров.
Я сидел за столом напротив него, опустив голову. У меня более не было сил спорить. Военные поражения, полная неудача всех моих усилий, реки крови и — в довершение всего — мои матросы, которые хотели захватить меня в качестве заложника. Заложник — такова была награда за те двадцать четыре года, которые я посвятил флоту. Я пожертвовал всем — моей молодостью, моим самолюбием, моей энергией — во славу нашего флота. Когда я разговаривал с матросами, я ни разу в жизни не возвышал голоса. Я радел о их пользе пред адмиралами, министрами, Государем! Я дорожил моею популярностью среди флотских команд и гордился тем, что матросы на меня смотрели, как на своего отца друга. И вдруг — заложник!!! Мне казалось, что я лишусь рассудка. Что мне оставалось делать? Но вдруг мне пришла в голову мысль. Под предлогом болезни сына я мог уехать за границу.
— Никки, — начал я, стараясь говорить убедительно: — ты знаешь, что Ирина и Федор больны скарлатиной. Доктора находят, что перемена климата могла бы принести им большую пользу. Что ты скажешь, если я уеду месяца на два за границу?
— Конечно, Сандро… Мы обнялись. В этот день Никки был благороден. Он даже не подал вида об истинных причинах моего отъезда. Мне было стыдно пред самим собою, но я не мог ничем помочь. «Я должен бежать. Должен». Эти слова, как молоты, бились в моем мозгу и заставляли меня забывать о моих обязанностях пред престолом и Родиной. Но все это потеряло для меня уже смысл. Я ненавидел такую Россию.
Глава XV
Биарриц. Начало авиации
Мы в Биаррице{37}, на вилле Эспуар. Вся семья, слава Богу, со мною. Я покинул Россию без тени сожаления. Я так измучен событиями последних лет, я так глубоко чувствую, что Россия на краю гибели, и никто, и ничто не в силах изменить фатальный ход событий.
В Биаррице дышится легко. Если бы я мог, я остался бы здесь навсегда. Я отгоняю совестью эту соблазнительную мысль, я стараюсь заглушить ее голосом души, чувством долга, — во мне постоянно идет напряженная борьба: русский вопрос, Россия, мои житейские разочарования последних лет, мое бессилие помочь, спасти родину и кровная преданность ей восстают против человеческого, мелкого желания отдыха, покоя и счастливой жизни среди своей семьи.
Мы все здесь: Ксения, я, шестеро детей, три няни, два воспитателя: француз и англичанин, воспитательница Ирины, фрейлина Ксении, мой адъютант и много служащих.
Ольга, сестра Ксении, приехала в Биарриц раньше нас и живет в Отель дю Палэ. В первое же утро после нашего приезда, изнывая от томительной сентябрьской жары, с лицами, распухшими от укусов москитов, мы устремляемся на плац и зарываемся в песок.
Напротив нашей виллы расположена площадка для гольфа. Я с увлечением начинаю учиться этой игре. Мы быстро входим в жизнь биаррицского общества. Мы встречаем много людей, устраиваем завтраки, обеды, играем в покер, в бридж, ездим на пикники.
Подходит Рождество с новыми развлечениями. Ирина и Федор окончательно поправились. Детей приглашают на елки. Мы все, взрослые и дети, веселимся и наслаждаемся простотой, легкой жизнью, — я отгоняю мысли о России, я живу, как живут сотни тысяч людей, всецело отдаваясь удовольствиям и развлечениям.
Весной в Биарриц приезжает Король Эдуард VII Английский. Ксения — племянница его жены, королевы Александры, и наши отношения всегда отличались большой серьезностью. Король Эдуард поселяется в Отеле дю Палэ.
Местное население относится к нему с особою теплотою. Устраивается целый ряд празднеств. Король — удивительный человек, с ярко выраженной личностью и большим обаянием.
Я иногда играю с ним в бридж, и он наслаждается свободной жизнью в Биаррице, быстро завоевывая всеобщие симпатии.
Императрица Мария Федоровна, которая плавает с Королевой Александрой (своей сестрой), тоже решается посетить Биарриц. Она приезжает в отдельном поезде, в сопровождении фрейлины Озеровой и князя Шервашидзе. Ее приезд — большое событие для Биаррица.
Императрица поселяется в тех же комнатах Отеля дю Палэ, откуда только что выехал Король Эдуард. Она радуется, что она с нами, ей нравятся наши друзья и наш образ жизни.
Я заказываю большой автомобиль фирме Делоннэ-Бельвиль, в соответствии с размерами нашей семьи: восемь мест внутри и два около шофера. Я сам управляю им, так как хорошо знаю местность.
Наступает май месяц, лучшее время года в Биаррице. Еще не жарко, масса цветов, поспевают ягоды, но мы должны уезжать.
Мы двигаемся в путь вместе с Императрицей. Происходит несколько официальных встреч по дороге. Близ Парижа Императрицу приветствует французский Президент А. Фальер, и, наконец, мы в России — в Гатчине.
Здесь в конце июня месяца рождается Василий, наше седьмое дитя. Он так слаб, что доктора боятся, что он не выживет, и приходится срочно вызывать священника, чтобы окрестить новорожденного, на этот раз без всякой торжественности. Но Василий, однако, обманул мрачные прогнозы докторов: он женился недавно в Нью-Йорке на княжне Голицыной.
После Гатчины мы живем в Петергофе, затем в Крыму. Я бываю повсюду, делаю визиты и исполняю мои обязанности. Никки и его министры рассказывают мне о серьезности политического положения. Вторая Дума состоит из открытых бунтовщиков, которые призывают страну к восстанию. Революция назревает. Одна надежда на твердость Столыпина. Но удастся ли ему удержать Россию на краю пропасти?
Проведя лето в Крыму, мы уходим с Императрицей на «Полярной звезде» в непродолжительное плавание, посещаем Норвегию, Данию, а затем мы с Ксенией едем в Баден-Баден, чтобы навестить моего отца. Мы находим его в хорошем виде. Он немного может ходить, и голова его свежа. Он так счастлив нашему приезду, особенно Ксении, которую он так обожает. Я объезжаю с Ксенией все любимые места моей матери. Мы в автомобиле ездим по дорогам, которые нам были знакомы с детства. Время быстро летит.
Отец хочет вернуться в Канны. Мы все отправляемся туда. Отец по железной дороге, мы в автомобиле через Швейцарию. Моя сестра (герцогиня Мекленбург-Шверинская) и брат мой Михаил, находившийся «в изгнании», встречают нас в Каннах. Анастасия поразительно красива — ее появление в обществе вызывает повсюду восхищение. Михаил живет со своей женой и двумя дочерьми (теперь леди Мильфорд, Хейвен и леди Зия-Вернер) в своей вилле «Казбек», которая является штаб-квартирой их бесчисленных друзей. В Каннах, как и в Биаррице, идет легкая, беспечная жизнь, в которую я окунаюсь с головой. Никакой работы, никаких обязанностей, только гольф, развлечения и поездки в Монте-Карло, где Анастасия играет с большим азартом. После Канн идет Венеция, затем Рим.
Мы нагрянули в Гранд-отель в Риме всей семьей, и администрация отеля не хотела верить тому, что все эти мужчины, дамы, дети, няньки в формах и без оных, прислуги и воспитатели и т. п. принадлежат к одной и той же семье русского великого князя. Если бы нашелся еще один такой великий князь, администрация построила бы второй отель.
После Рима мы должны ехать в Биарриц. Наши сундуки уже уложены и счета оплачены, как вдруг сын мой Дмитрий начинает жаловаться на головную боль. «Скарлатина» — краткий диагноз врачей. Ксения и шестеро детей отправляются в Биарриц. Я остаюсь с Дмитрием. Осложнения, обычно сопровождающие скарлатину, выражаются у Дмитрия болезнью уха. В течение четырех недель я сижу у постели моего сына, предаваясь горестным размышлениям. Наконец он поправляется и мы все съезжаемся в Биаррице.
В Биаррице с прошлого года ничего не изменилось. Те же развлечения, те же лица, те же безумства, за которыми следуют обычные угрызения совести. Та же легкая жизнь. Дмитрий быстро поправляется на чудном солнце.
Как-то утром, просматривая газеты, я увидел заголовки, сообщавшие об удаче полета Блерио над Ламаншем. Эта новость пробудила к жизни прежнего великого князя Александра Михайловича. Будучи поклонником аппаратов тяжелее воздуха еще с того времени, когда Сантос-Дюмон летал вокруг Эйфелевой башни, я понял, что достижение Блерио давало нам не только новый способ передвижения, но и новое оружие в случае войны. Я решил немедленно приняться за это дело и попытаться применить аэропланы в русской военной авиации. У меня еще оставались два миллиона рублей, которые были в свое время собраны по всенародной подписке на постройку минных крейсеров после гибели нашего флота в русско-японскую войну. Я запросил редакции крупнейших русских газет, не будут ли жертвователи иметь что-либо против того, чтобы остающиеся деньги были бы израсходованы не на постройку минных крейсеров, а на покупку аэропланов? Через неделю я начал получать тысячи ответов, содержавших единодушное одобрение моему плану. Государь также одобрил его. Я поехал в Париж и заключил торговое соглашение с Блерио и Вуазеном. Они обязались дать нам аэропланы и инструкторов, я же должен был организовать аэродром, подыскать кадры учеников, оказывать им во всем содействие, а главное, конечно, снабжать их денежными средствами. После этого я решил вернуться в Россию. Гатчина, Петергоф, Царское Село и С.-Петербург снова увидят меня в роли новатора. Военный министр генерал Сухомлинов затрясся от смеха, когда я заговорил с ним об аэропланах.
— Я вас правильно понял, Ваше Высочество, — спросил он меня между двумя приступами смеха: — вы собираетесь применить эти игрушки Блерио в нашей армии? Угодно ли вам, чтобы наши офицеры бросили свои занятия и отправились летать чрез Ламанш, или же они должны забавляться этим здесь?
— Не беспокойтесь, ваше превосходительство. Я у вас прошу только дать мне несколько офицеров, которые поедут со мною в Париж, где их научат летать у Блерио и Вуазена. Что же касается дальнейшего, то хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Государь дал мне разрешение на командировку в Париж избранных мною офицеров. Великий князь Николай Николаевич не видел в моей затее никакого смысла.
Первая группа офицеров выехала в Париж, а я отправился в Севастополь для того, чтобы выбрать место для будущего аэродрома. Я работал с прежним увлечением, преодолевая препятствия, которые мне ставили военные власти, не боясь насмешек и идя к намеченной цели. К концу осени 1908 г. мой первый аэродром и ангары были готовы. Весною 1909 г. мои офицеры окончили школу Блерио. Ранним летом в Петербурге была установлена первая авиационная неделя. Многочисленная публика — свидетели первых русских полетов — была в восторге и кричала «ура». Сухомлинов нашел это зрелище очень занимательным, но для армии не видел от него никакой пользы.
Три месяца спустя, осенью 1909 года, я приобрел значительный участок земли к западу от Севастополя, и заложил первую русскую авиационную школу, которая во время великой войны снабжала нашу армию летчиками и наблюдателями.
В декабре 1909 года я получил известие о смерти моего отца в Каннах. Ему было 77 лет, и в последние годы своей жизни он был инвалидом. Его кончина меня глубоко потрясла. Свет без него казался опустевшим. Он был одним из немногих людей, которые никогда не отступали пред выполнением своего долга и жили по заветам Императора Николая I.
Русский крейсер привез тело отца в Севастополь, а оттуда мы повезли его в Петербург, где оно должно было быть предано земле в усыпальнице Петропавловской крепости. Дорога была грустно-знакомая и произвела на меня тягостное впечатление. Три раза в моей жизни я путешествовал с останками моих близких. Шесть дорогих для меня могил смотрели на меня в усыпальнице Петропавловской крепости: Александра II, Александра III, великого князя Георгия Александровича, моего брата Алексея Михайловича и моих родителей.
Я продолжал свою деятельность в области воздухоплавания, ездил за границу и старался как можно меньше заниматься политикой.
Придворные круги были во власти двух противоречивых в своей сущности комплексов: зависти к успешной государственной деятельности Столыпина и ненависти к быстро растущему влиянию Распутина. Столыпин, полный творческих сил, был гениальным человеком, задушившим анархию. Распутин являлся орудием в руках международных авантюристов. Рано или поздно Государь должен был решить, даст ли он возможность Столыпину осуществить задуманные им реформы или же позволит распутинской клике назначать министров. Отношения мои к Государю и к Государыне были внешне вполне дружественными. Мы продолжали встречаться несколько раз в неделю и приглашали друг друга на обеды, но прежней сердечности в наших отношениях мы возродить не могли.
В остальных членах Императорской семьи чувствовалось недовольство и отсутствие дисциплины. В царствование Императора Александра III мой бедный брат Михаил Михайлович был выслан за границу за то, что вступил в морганатический брак с дочерью герцога Нассауского. Теперь же каждый из великих князей считал возможным в выборе подруги жизни следовать влечениям своего сердца. Брат Царя, великий князь Михаил Александрович женился на простой, дважды разведенной женщине. Дядя Царя, великий князь Павел требовал для своей морганатической супруги прав, которые давались только особам королевской крови. Двоюродный брат Царя, великий князь Кирилл женился на своей двоюродной сестре Дэкки (дочери великой княгини Марии Александровны и герцога Эдинбургского) — факт, неслыханный в анналах Царской семьи и православной церкви. Все эти три великие князя выражали явное неуважение к воле Государя и являлись весьма дурным примером для русского общества. Если Никки не мог заставить слушаться своих родственники, то еще труднее было ему добиться того же от своих министров, генералов и приближенных. Мы несомненно переживали эпоху упадка монархического начала.
Авиационная школа развивалась. Ее офицеры участвовали в маневрах 1912 г. Сознание необходимости аэропланов для военных целей, наконец, проникло в среду закоренелых бюрократов военного министерства. Я заслужил великодушное одобрение Государя.
— Ты был прав, — сказал Никки во время посещения авиационной школы: — прости меня за то, что я относился к твоей идее недоверчиво. Я радуюсь, что ты победил, Сандро. Ты доволен?
Я был и доволен и недоволен. Мой триумф в авиации не смягчил горечи моих неудач во флоте. Эту рану ничто не могло залечить. Ничто не могло заставить забыть меня кошмары — 1904–1906 гг.
Между тем наши странствования бросали нас из одного конца Европы в другой.
Традиционная весенняя встреча с Королевой английской Александрой в Дании. Ранний летний сезон в Лондоне. Пребывание Ксении на водах в Киссингене или же в Вителе. Далее сезон в Биаррице.
Экскурсии детей в Швейцарию. Ранний зимний сезон в Каннах. Мы покрывали в вагоне многие тысячи километров.
Летом 1913 года наша ежегодная программа мне надоела. Ксения и дети остановились в громадном отеле в Трепоре, а я отправился в Америку. Успехи Куртиса и братьев Райт делали мою поездку необходимой, но кроме того, мне хотелось провести несколько недель в обществе моих друзей в Филадельфии и в Ньюпорте. Мое намерение вернуться чрез короткое время в Соединенные Штаты обратно исполнилось ровно двадцать лет спустя.
Тени надвигающейся войны еще не переползли чрез Атлантический океан, хотя уже и в Штатах чувствовалась напряженность, и банкиры покачивали головами. Мне было трудно отвязаться от всех репортеров, которые хотели узнать мое мнение о глубоких изменениях, происшедших в Нью-Йорке с 1893 г. Я должен был высказаться о новых горизонтах, комментировать успехи движения суффражисток и гореть энтузиазмом по поводу будущего автомобиля.
В Соединенных Штатах произошло одно коренное изменение, которое, по-видимому, не было замечено туземными наблюдателями.
Постройка Панамского канала и колоссальное развитие штатов по берегу Тихого океана изменили характер американской предприимчивости. Американская промышленность выросла до такой степени, что требовала вывоза своих продуктов за границу. Американские финансисты, занимавшие прежде деньги в Лондоне, Париже и в Амстердаме, оказались сами в положении кредиторов. Сельскохозяйственная республика Джефферсона уступила место царству Рокфеллеров, хотя американцы среднего уровня еще не понимали нового порядка вещей, и большинство американского народа продолжало жить идеалами XIX века.
Сколько раз, во время моего второго приезда в Америку, посещая громадные фабрики или же прислушиваясь к объяснениям относительно новой части какой-нибудь сложной машины, я возвращался мыслью к зловещему докладу, представленному незадолго до этого моим братом Сергеем в Петербурге, который имел возможность лично познакомиться в Вене с лихорадочной работой, происходившей на заводах военного снабжения центральных держав.
Разница между Европой и Америкой была слишком разительна.
Поздно осенью в 1913 г. я был опять в С.-Петербурге и предсказывал надвигающуюся мировую войну.
— Вы можете точно предсказать, когда война начнется? — спрашивали меня умные, но иронически настроенные люди.
— Да могу, не позже 1915 года.
— Ужасно… Наступила зима 1913–14 гг. — мой последний «светский сезон» в С.-Петербурге. Главной темой разговоров являлось трехсотлетие Дома Романовых, празднование которого началось прошлой весной. Казалось, все было в порядке. Правительство уверяло, что все шло так, как еще никогда не шло со времен Александра III.
В феврале дочь моя Ирина вступила в брак с князем Ф. Ф. Юсуповым. Новобрачные отправились в свадебное путешествие в Италию и в Египет, условившись встретиться с нами в июне.
Том III
Глава XVI
Накануне
Тот иностранец, который посетил бы С.-Петербург в 1914 году, перед самоубийством Европы, почувствовал бы непреодолимое желание остаться навсегда в блестящей столице российских Императоров, соединявшей в себе классическую красоту прямых перспектив с приятным, увлекающим укладом жизни, космополитическим по форме, но чисто русским по своей сущности. Чернокожий бармен в Европейской гостинице, нанятый в Кентукки, истые парижанки-актрисы на сцене Михайловского театра, величественная архитектура Зимнего дворца — воплощение гения итальянских зодчих, сановники, завтракавшие у Кюба до ранних зимних сумерек, белые ночи в июне, в дымке которых длинноволосые студенты спорили с жаром с краснощекими барышнями о преимуществах германской философии… Никто не мог бы ошибиться относительно национальности этого города, который выписывал шампанское из-за границы не ящиками, а целыми магазинами.
Украшением этой столицы был памятник Петра Великого. Отлитый из бронзы Фальконетом, Император стоял на Сенатской площади, наблюдая с высоты четырехугольники домов, образующих прямые перспективы. Ему удалось построить этот сказочный, северный город на топких финских болотах ценою ста двадцати шести тысяч жизней, принесенных в жертву болотной лихорадке во имя России, и самодовольная усмешка светилась на его лице. Прошло двести лет с тех пор, как он, стоя на берегу финских вод и глядя на полуразрушенные деревянные хижины рыбаков, решил перенести русскую столицу из азиатской Москвы на берега западной Европы. Его рука затянула повод коня, поднявшегося на дыбы над пропастью. То не было мимолетной идеей скульптора, когда он создавал эту поражающую воображение позу: «Петр действительно спас нашу родину от прозябания в „азиатчине“» под властью вчерашних монгольских владык. Он освободил своих нерадивых подданых от власти средневековых суеверий и ударами своей дубинки заставил их приобщиться к культурной семье западноевропейских народов.
Сын жестокого XVII века, Петр Великий не привык стесняться в своих методах. Он твердо верил, что в человеческом материале в России недостатка не будет, и не щадил никого. Он не остановился перед убийством сына, когда убедился, что царевич Алексей решил противиться его начинаниям. Его испуганные современники видели в лице Царя Антихриста, но у ног его памятника лежало наглядное доказательство гения Петра: блестящий С.-Петербург — столица самых могущественных властителей в мире. Петр достиг своей цели, и важность его достижения стала еще более очевидной по прошествии двух столетий. Но в дальнейшем это была уже задача современных Романовых, которые готовились праздновать трехсотлетие царствования династии и продолжать усилия своего гениального предка.
Однако наблюдательный иностранец, посетивший Петербург перед войною, испытал он, наверное, чувство растущего беспокойства, которое от памятника на Сенатской площади передавалось всем, обладавшим способностью несколько предвидеть грядущий хаос. Он также заметил бы, что полтора миллиона мужчин и женщин, живших в столице Российской Империи, существовали изо дня в день, давая бронзовому монументу пищу для размышлений о «завтрашнем дне», затуманенном блеском прекрасного сегодня…
Все в Петербурге было прекрасно. Все говорило о столице российских императоров.
Золотой шпиль Адмиралтейства был виден издали на многие версты. Величественные окна великокняжеских дворцов горели пурпуром в огне заката. Удары конских копыт будили на широких улицах чуткое эхо. На набережной желтые и синие кирасиры, на прогулке после завтрака, обменивались взглядами со стройными женщинами под вуалями. Роскошные выезды, с лакеями в декоративных ливреях, стояли перед ювелирными магазинами, в витринах которых красовались розовые жемчуга и изумруды. Далеко, за блестящей рекой, с перекинутыми через воду мостами, громоздились кирпичные трубы больших фабрик и заводов. А по вечерам девы-лебеди кружились на сцене Императорского балета под аккомпанемент лучшего оркестра в мире.
Первое десятилетие XX века, наполненное террором и убийствами, развинтило нервы русского общества. Все слои населения Империи приветствовали наступление новой эры, которая носила на себе отпечаток нормального времени. Вожди революции, разбитые в 1905–1907 гг., укрылись под благословенную сень парижских кафе и мансард, где и пребывали в течение следующих десяти лет, наблюдая развитие событий в далекой России и философски повторяя поговорку: «Чтобы дальше прыгнуть, надо отступить».
А тем временем и друзья, и враги революции ушли с головой в деловые комбинации. Вчерашняя земледельческая Россия, привыкшая занимать деньги под залог своих имений в Дворянском банке, в приятном удивлении приветствовала появление могущественных частных банков. Выдающиеся дельцы петербургской биржи учли все выгоды этих общественных настроений, и приказ покупать был отдан.
Тогда же был создан знаменитый русский «табачный трест» — одно из самых больших промышленных предприятий того времени. Железо, уголь, хлопок, мед, сталь были захвачены группой петербургских банкиров. Бывшие владельцы промышленных предприятий перебрались в столицу, чтобы пользоваться вновь приобретенными благами жизни и свободой. Хозяина предприятия, который знал каждого рабочего по имени, заменил дельный специалист, присланный из Петербурга. Патриархальная Русь, устоявшая перед атаками революционеров 1905 года, благодаря лояльности мелких предпринимателей, отступила перед системой, заимствованной за границей и не подходившей к русскому укладу.
Это быстрое трестрирование страны, далеко опередившее ее промышленное развитие, положило на бирже начало спекулятивной горячке. Во время переписи населения Петербурга, устроенной в 1913 году, около 40 000 жителей обоего пола были зарегистрированы в качестве биржевых маклеров.
Адвокаты, врачи, педагоги, журналисты и инженеры были недовольны своими профессиями. Казалось позором трудиться, чтобы зарабатывать копейки, когда открывалась полная возможность зарабатывать десятки тысяч рублей посредством покупки двухсот акций «Никополь-Мариупольского металлургического общества».
Выдающиеся представители петербургского общества включали в число приглашенных видных биржевиков. Офицеры гвардии, не могшие отличить до сих пор акций от облигаций, стали с увлечением обсуждать неминуемое поднятие цен на сталь. Светские денди приводили в полное недоумение книгопродавцов, покупая у них книги, посвященные сокровенным тайнам экономической науки и истолкованию смысла ежегодных балансов акционерных обществ. Светские львицы начали с особым удовольствием представлять гостям на своих журфиксах «прославленных финансовых гениев из Одессы, заработавших столько-то миллионов на табаке». Отцы церкви подписывались на акции, и обитые бархатом кареты архиепископов виднелись вблизи бирж.
Провинция присоединилась к спекулятивной горячке столицы, и к осени 1913 года Россия, из страны праздных помещиков и недоедавших мужиков, превратилась в страну, готовую к прыжку, минуя все экономические законы, в царство отечественного Уолл-стрита!
Будущее Империи зависело от калибра новых властителей дум, которые занялись судьбой ее финансов. Каждый здравомыслящий финансист должен бы был сознавать, что пока русский крестьянин будет коснеть в невежестве, а рабочий ютиться в лачугах, трудно ожидать солидных результатов в области развития русской экономической жизни. Но близорукие дельцы 1913 года были мало обеспокоены отдаленным будущим. Они были уверены, что сумеют реализовать все вновь приобретенное до того, как грянет гром…
Племянник кардинала, русский мужик и банкир считали себя накануне войны владельцами России. Ни один диктатор не мог бы похвастаться их положением.
Ярошинсхий, Батолин, Путилов — вот имена, которые знала вся Россия.
Сын бывшего крепостного, Батолин начал свою карьеру в качестве рассыльного в хлебной торговле. Он был настолько беден, что впервые узнал вкус мяса, когда ему исполнилось девять лет.
Путилов принадлежал к богатой петербургской семье. Человек блестящего воспитания, он проводил много времени за границей и чувствовал себя одинаково дома на Плас де ла Бурс и на Ломбард-стрит.
Годы молодости Ярошинского окружены тайной. Никто не мог в точности определить его национальности. Он говорил по-польски, но циркулировали слухи, что дядя его — итальянский кардинал, занимающий высокий пост в Ватикане. Он прибыл в Петербург, уже будучи обладателем большого состояния, которое заработал на сахарном деле на юге России.
Биографии этих трех «диктаторов», столь непохожих друг на друга, придавали этой напряженной эпохе еще более фантастический колорит.
Они применили к экономической жизни России систему, известную у нас под именем «американской», но имеющую в С. Ш. С. А. другое название. Никаких чудес они не творили. Рост их состояния был возможен только благодаря несовершенству русских законов, которые регулировали деятельность банков.
Министр финансов держался от всего этого в стороне и с молчаливым восхищением наблюдал за тем, как этот победоносный триумвират все покорял «под нози своя». От пляски феерических кушей кружилась голова, и министр финансов имел полное основание считать, что его пост лишь переходная ступень к креслу председателя какого-нибудь частного банка.
Радикальная печать, неутомимая в своих нападках на правительство, в отношении трестов хранила гробовое молчание, что являлось вполне естественным, в особенности если принять во внимание, что им принадлежали самые крупные и влиятельные ежедневные газеты в обеих столицах.
В планы этой группы входило заигрывание с представителями наших оппозиционных партий. Вот почему Максиму Горькому Сибирским банком были даны средства на издание в С.-Петербурге ежедневной газеты «Новый Мир» большевицкого направления и ежемесячного журнала «Анналы». Оба эти издания имели в числе своих сотрудников Ленина и открыто высказались на своих страницах за свержение существующего строя. Знаменитая «школа революционеров», основанная Горьким на о. Капри, была долгое время финансирована Саввой Морозовым — общепризнанным московским «текстильным королем» — и считала теперешнего главу советского правительства Сталина в числе своих наиболее способных учеников. Бывший советский полпред в Лондоне Л. Красин был в 1913 году директором на одном из Путиловских заводов в С.-Петербурге. Во время войны же он был назначен членом военно-промышленного комитета.
На первый взгляд, совершенно необъяснимы побуждения крупной буржуазии, по которым она поддерживала русскую революцию. Вначале правительство отказывалось верить сообщениям охранного отделения по этому поводу, но факты были налицо.
При обыске в особняке одного из богачей Парамонова были найдены документы, которые устанавливали его участие в печатании и распространении революционной литературы в России. Парамонова судили и приговорили к двум годам тюремного заключения. Приговор этот, однако, был отменен, ввиду значительного пожертвования, сделанного им на сооружение памятника в ознаменование трехсотлетия Дома Романовых. От большевиков к Романовым — и все это в течение одного года!
«Действия капиталистов объясняются желанием застраховать себя и свои материальные интересы от всякого рода политических переворотов», — доносил в своем рапорте один из чинов департамента полиции, который был командирован в Москву расследовать дело богатейшего друга Ленина — Морозова. «Они так уверены в возможности двигать революционерами, как пешками, используя их детскую ненависть к правительству, что Морозов считает возможным финансировать издание ленинского журнала „Искры“, который печатался в Швейцарии и доставлялся в Россию в сундуках с двойным дном. Каждый номер „Искры“ призывал рабочих к забастовкам на текстильных фабриках самого же Морозова. А Морозов говорил своим друзьям, что он „достаточно богат, чтобы разрешить себе роскошь финансовой поддержки своих врагов“».
Самоубийство Морозова произошло незадолго до войны, и, таким образом, он так и не увидел, как его имущество, по приказу Ленина, было конфисковано, а его наследники брошены в тюрьмы бывшими учениками морозовской агитационной школы на о. Капри.
Батолину же, Ярошинскому, Путилову и Парамонову и многим остальным удалось избежать расстрела в СССР только потому, что они своевременно бежали.
Эксцентричность, проявленная банкирами, была лишь знамением времени…
Война надвигалась, но на грозные симптомы ее приближения никто не обращал внимания. Над всеми предостережениями наших военных агентов за границей в петербургских канцеляриях лишь подсмеивались или же пожимали плечами.
Когда брат мой, великий князь Сергей Михайлович, по возвращении в 1913 году из своей поездки в Австрию, доложил правительству о лихорадочной работе на военных заводах центральных держав, то наши министры в ответ только рассмеялись. Одна лишь мысль о том, что великий князь может иной раз подать ценный совет, вызвала улыбку. Принято было думать, что роль каждого великого князя сводилась к великолепной праздности.
Военный министр генерал Сухомлинов пригласил к себе редактора большой вечерней газеты и продиктовал ему статью, полную откровенными угрозами по отношению к Германии, под заглавием «Мы — готовы!».
В тот момент у нас не было не только ружей и пулеметов в достаточном количестве, но наших запасов обмундирования не хватило бы даже на малую часть тех миллионов солдат, которых пришлось бы мобилизовать в случае войны.
В вечер, когда эта газетная статья появилась, товарищ министра финансов обедал в одном из излюбленных, дорогих ресторанов столицы.
— Что же теперь произойдет? Как реагирует на это биржа? — спросил его выдающийся журналист.
— Биржа? — насмешливо улыбнулся сановник: — милый друг, человеческая кровь всегда вносит в дела на бирже оживление.
И действительно, на следующий день все бумаги на бирже поднялись. Инцидент со статьей военного министра был забыт всеми, кроме, быть может, германского посланника.
Остальные триста мирных дней были заполнены карточной и биржевой игрой, сенсационными процессами и распространившейся эпидемией самоубийств.
В эту зиму танго входило в большую моду. Томные звуки экзотической музыки неслись по России из края в край. Цыгане рыдали в кабинетах ресторанов, звенели стаканы, и румынские скрипачи, одетые в красные фраки, завлекали нетрезвых мужчин и женщин в сети распутства и порока. А над всем этим царила истерия.
Однажды в пять часов утра, когда бесконечная зимняя ночь смотрелась в высокие, покрытые изморозью венецианские окна, молодой человек пересек пьяной походкой блестящий паркет московского Яра и остановился перед столиком, который занимала одна красивая дама с несколькими почетными господами.
— Послушай, — кричал молодой человек, прислонившись к колонне: — я этого не позволю. Я не желаю, чтобы ты была в таком месте в такое время.
Дама насмешливо улыбнулась. Вот уже восемь месяцев прошло с тех пор, как они развелись. Она не хотела слушать его приказаний.
— Ах так, — сказал более спокойно молодой человек и вслед за тем выстрелил в свою бывшую жену шесть раз.
Начался знаменитый прасоловский процесс.
Присяжные заседатели оправдали Прасолова: им очень понравилось изречение Гете, приведенное защитой: «Я никогда еще не слыхал ни об одном убийстве, как бы оно ужасно ни было, которое не мог бы совершить сам».
Гражданский истец принес апелляцию и просил перенести слушание дела в другой судебный округ.
— Московское общество, — писал гражданский истец в своей кассационной жалобе: — пало так низко, что более уже не отдает себе отчета в цене человеческой жизни. Поэтому я прошу перенести вторичное рассмотрение дела в какой-нибудь другой судебный округ.
Вторичное рассмотрение дела имело место в небольшом провинциальном городке на северо-востоке России. Суд продолжался почти месяц, и Прасолов был снова оправдан.
На этот раз гражданский истец грозил организовать паломничество на могилу Прасоловой, чтобы сказать ей, что «Россия отказывается защищать оскорбленную честь женщины».
Если бы не началась война, то русскому народу были бы еще раз преподнесены тошнотворные подробности прасоловского дела, и словоохотливые свидетели в третий раз повторили бы свои невероятные описания оргий, происходивших в среде московских миллионеров.
Самые отталкивающие разновидности порока преподносились присяжным заседателям и распространялись газетами в назидание русской молодежи.
Жизнь убийцы и его жертвы описывалась с момента их знакомства в клубе самоубийц до свадебного пира, устроенного на даче «Черный Лебедь», который был построен знаменитым богачом в погоне за новизною ощущений. Список свидетелей по делу пестрил именами московских тузов. Их поступки могли создать новые судебные процессы. Двое из них покончили с собою, ожидая вызова в суд. Другие бежали от позора за границу.
Петербург не хотел отстать от Москвы, и еще во время прасоловского процесса двое представителей «золотой» петербургской молодежи Долматов и Гейсмар убили и ограбили артистку Тиме.
Арестованные полицией, они во всем сознались и объясняли мотивы преступления. Накануне убийства они пригласили своих друзей к ужину в дорогой ресторан. Им были нужны деньги. Они обратились к своим родителям за помощью, но получили отказ. Они знали, что у артистки имеются ценные вещи. И вот они отправились к ней на квартиру, вооружившись кухонными ножами.
— Истинный джентльмен, — писал по этому поводу в газетах один иронический репортер: — должен уметь выполнить свои светские обязанности любой ценой.
Среди криминальных сенсаций, отравлявших эту и без того истерическую атмосферу, заслуживает еще упоминания дело Гилевича, которое в 1909 году поставило петербургский судебный мир в тупик перед неслыханной изворотливостью и жестокостью хладнокровного убийцы.
В номерах дешевой гостиницы в Лештуковом переулке было обнаружено мертвое тело с обезображенным до неузнаваемости лицом. Документы, найденные при убитом, говорили о том, что жертва — довольно обеспеченный инженер Гилевич. Однако документы эти лежали слишком на виду, чтобы удовлетворить бывалых сыщиков. Но брат убитого рассеял все сомнения. Он узнал своего брата по «родимому пятну» на правом плече. После этого он предъявил четырем страховым обществам полисы на получение страховых премий: убитый был застрахован на общую сумму в 300 тысяч рублей в различных страховых обществах. Однако следственные власти очень скоро установили, что убитый — совсем не Гилевич, а одинокий и бездомный студент, прибывший в Петербург из провинции, чтобы учиться, и явившийся к Гилевичу на его публикацию…
Между тем преступники, получив часть страховых премий, перестали соблюдать осторожность. Гилевичу-старшему надоело прятаться в Париже, и он решил посетить Монте-Карло. Но счастье отвернулось от него. Он проиграл крупную сумму и послал своему брату в Петербург телеграмму с просьбой выслать ему 5000 рублей. Чиновник, читавший внимательно телеграммы, сообщил властям, что кто-то хочет получить в Монте-Карло от брата убитого Гилевича крупную сумму денег. В парижскую полицию была послана серия фотографий Гилевича и точное его описание. Гилевич был арестован. Однако во время ареста ему удалось обмануть бдительность агентов, и преступник отравился ядом, который всегда носил в кармане.
Будущий историк мировой войны имел бы полное основание подробнее остановиться в своем исследовании на той роли, которую криминальные сенсации занимали в умах общества всех стран накануне войны.
Полиция уже расклеивала на улицах Парижа приказы о мобилизации, а жадная до уголовных процессов толпа с напряженным вниманием продолжала следить за процессом г-жи Генриетты Кайо, жены бывшего председателя французского совета министров{38}, которая убила редактора «Фигаро» Гастона Кальметта за угрозы опубликовать компрометировавшие ее мужа документы. До 28 июля 1914 года фельетонисты европейских газет более интересовались процессом Кайо, чем австрийским ультиматумом Сербии.
Проездом через Париж по дороге в Россию я не верил своим ушам, слыша, как почтенные государственные мужи и ответственные дипломаты, образуя оживленные группы, с жаром спорили о том, будет ли или не будет оправдана г-жа Кайо.
— Кто это «она»? — наивно спросил я: — вы имеете в виду, вероятно, Австрию, которая, надо надеяться, согласится передать свое недоразумение с Сербией на рассмотрение Гаагского третейского трибунала?
Они думали, что я шучу. Не было никаких сомнений, что они говорили о Генриетте Кайо.
— Отчего Баше Императорское Высочество так спешите вернуться и С.-Петербург? — спросил меня наш посол в Париже Извольский{39}. — Там же мертвый сезон… Война? — Он махнул рукой. — Нет, никакой войны не будет. Это только «слухи», которые время от времени будоражат Европу. Австрия позволит себе еще несколько угроз, Петербург поволнуется. Вильгельм произнесет воинственную речь. И все это будет через две недели забыто.
Извольский провел 30 лет на русской дипломатической службе. Некоторое время он был министром иностранных дел. Нужно было быть очень самоуверенным, чтобы противопоставить его опытности свои возражения. Но я решил все-таки быть на этот раз самоуверенным и двинулся в Петербург.
Мне не нравилось «стечение непредвиденных случайностей», которыми был столь богат конец июля 1914 года.
Вильгельм II был «случайно» в поездке в норвежские фиорды накануне представления Австрии ультиматума Сербии. Президент Франции Пуанкарэ «случайно» посетил в это же время Петербург.
Винстон Черчилль, первый лорд адмиралтейства, «случайно» отдал приказ британскому флоту остаться, после летних маневров, в боевой готовности.
Сербский министр иностранных дел «случайно» показал австрийский ультиматум французскому посланнику Бертело, и г. Бертело «случайно» написал ответ Венскому кабинету, освободив таким образом сербское правительство от тягостных размышлений по этому поводу.
Петербургские рабочие, работавшие на оборону, «случайно» объявили забастовку за неделю до начала мобилизации, и несколько агитаторов, говоривших по-русски с сильным немецким акцентом, были пойманы на митингах по этому поводу.
Начальник нашего генерального штата генерал Янушкевич{40} «случайно» поторопился отдать приказ о мобилизации русских вооруженных сил, а когда Государь приказал по телефону это распоряжение отменить, то ничего уже нельзя было сделать.
Но самым трагичным оказалось то, что «случайно» здравый смысл отсутствовал у государственных людей всех великих держав.
Ни один из сотни миллионов европейцев того времени не желал войны. Коллективно — все они были способны линчевать того, кто осмелился бы в эти ответственные дни проповедовать умеренность.
За попытку напомнить об ужасах грядущей войны они убили Жореса в Париже и бросили в тюрьму Либкнехта в Берлине.
Немцы, французы, англичане и австрийцы, русские и бельгийцы — все подпадали под власть психоза разрушения, предтечами которого были убийства, самоубийства и оргии предшествовавшего года. В августе же 1914 года это массовое помешательство достигло кульминационной точки.
Леди Асквит, жена премьер-министра Великобритании, вспоминает «блестящие глаза» и «веселую улыбку» Винстона Черчилля, когда он вошел в этот роковой вечер в ном. 10 на Доунинг-стрит.
— Что же, Винстон, — спросила Асквит: — это мир?
— Нет, война, — ответил Черчилль. В тот же час германские офицеры поздравили друг друга на Унтер ден Линден в Берлине с «славной возможностью выполнить, наконец, план Шлиффена»{41}, и тот же Извольский, предсказывавший всего три дня тому назад, что через две недели все будет в порядке, теперь говорил, с видом триумфатора, покидая министерство иностранных дел в Париже: «Это — моя война».
Вильгельм произносил речи из балкона берлинского замка. Николай II, приблизительно в тех же выражениях, обращался к колено-преклонной толпе у Зимнего дворца. Оба они возносили к престолу Всевышнего мольбы о карах на головы защитников войны.
Все были правы. Никто не хотел признать себя виновным. Нельзя было найти ни одного нормального человека в странах, расположенных между Бискайским заливом и Великим океаном.
Когда я возвращался в Россию, мне довелось быть свидетелем самоубийства целого материка.