Широкий Дол Грегори Филиппа
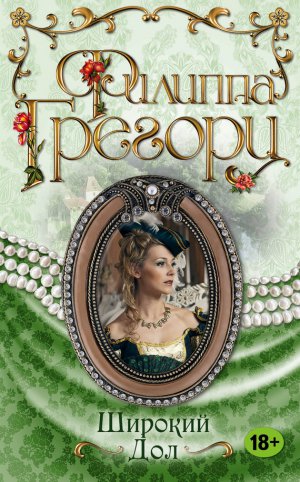
– Вот как? Неужели? – удивилась мама, ничего не смыслившая в колдовских чарах.
Когда я верхом на коне и в полном одиночестве подъехала к калитке, ведущей в их сад, Мег, похоже, ни капли этому не удивилась; ее, впрочем, вообще было трудно чем бы то ни было удивить. Она приветливо мне кивнула и в знак деревенского гостеприимства вынесла мне кружку молока. Молоко я, естественно, выпила, так и не слезая с седла, и как раз в этот момент из лесу, точно полночная тень, вышел Ральф, неся в одной руке пару убитых кроликов. По пятам за ним, как всегда, следовал черный пес.
– Мисс Беатрис, – сказал он в качестве приветствия и неторопливо поклонился.
– Здравствуйте, Ральф, – вежливо поздоровалась я. При ярком свете дня его полуночное могущество куда-то исчезло, и он больше не имел надо мной такой власти. Его мать, взяв у меня пустую кружку, тут же ушла, оставив нас наедине в пятне теплого солнечного света.
– Я знал, что вы приедете, – с уверенностью сказал он, и мне тут же показалось, что солнце в небесах разом померкло. Точно загипнотизированный змеей кролик, я смотрела в темные, почти черные глаза Ральфа и больше ничего вокруг не замечала и не видела. Передо мной были только эти пристально смотревшие на меня глаза, чуть ленивая улыбка у него на устах, да на шее у него быстро-быстро бился крошечный пульс под бронзовой от загара кожей. В одно мгновение, как и прошлой ночью, этот высокий и стройный юноша снова обрел надо мною полную власть. Он словно принес эту власть с собой из леса, и я была рада, что сижу значительно выше его – мое седло находилось примерно на высоте его плеча.
– О, неужели? – сказала я, бессознательно подражая холодным интонациям моей матери. А он вдруг резко повернулся и пошел к реке, пробираясь сквозь густые заросли кипрея. И я, совершенно не задумываясь, соскользнула с седла, накинула поводья моей лошадки на колышек в ветхой изгороди и последовала за ним. Ральф ни разу даже не оглянулся, ни разу не остановился и не подождал меня. Он шел так, словно был совершенно один. Сперва он спустился к самой воде, а потом пошел вверх по течению реки в ту сторону, где торчали развалины мельницы и виднелся темный мельничный пруд. Широкие арочные ворота того помещения, где раньше нагружали мукой повозки, были распахнуты. Ральф, по-прежнему не оглядываясь и не говоря ни слова, вошел туда, и я молча последовала за ним. На длинный помост для мешков с мукой вела шаткая лесенка. В теплом сумраке старой мельницы чувствовался затхлый, но вполне безопасный запах старой соломы; под ногами шуршал толстый мягкий слой пыльной мякины.
– Хочешь посмотреть гнездо ласточки? – вдруг довольно небрежным тоном предложил Ральф.
Я кивнула. Ласточки приносят удачу; и потом, мне всегда очень нравились их маленькие гнезда в форме чашечек из глины и травы на балках, перекрытиях или где-нибудь под застрехой. Ральф первым полез по лесенке наверх, я следом. На самом верху он наконец протянул мне руку и, когда я уже стояла с ним рядом, больше мою руку не отпустил, неотрывно глядя прямо на меня каким-то чересчур внимательным, оценивающим взглядом.
– Вон они, – сказал он. Гнездо было на нижней балке под крышей, и птицы-родители еще достраивали его. Мы видели, как одна из ласточек стрелой слетела на балку с полным клювом глины, смешанной с мякиной, прилепила этот комочек к стене будущего гнезда и снова метнулась вниз. Мы стояли не шелохнувшись и молча наблюдали за ласточками. Потом Ральф, выпустив наконец мою руку, обнял меня за талию и привлек к себе. Рука его скользнула по моему затянутому бархатом амазонки боку, пальцы коснулись моей округлой маленькой груди. По-прежнему не говоря ни слова, мы оба разом повернулись, он наклонился и поцеловал меня. Его поцелуй оказался столь же нежен и легок, как полет ласточки.
Он все продолжал целовать меня, едва касаясь моих губ, без малейшей настойчивости. Но вскоре я почувствовала, как напряглось его тело, как крепко теперь обнимают меня его руки. А у меня голова просто кружилась от наслаждения. Потом колени подо мной подогнулись, и я рухнула на пыльную солому, так и не разжав рук, которыми обнимала Ральфа.
Мы оба были еще лишь наполовину взрослыми, особенно я. Хотя я, конечно, все знала о том, как совокупляются домашние животные, но искусство поцелуев и любовных игр было мне совершенно неведомо. Ральф в этом отношении оказался куда более опытным; во-первых, он был парнем деревенским, и плату за свой труд получал как взрослый мужчина, и уже два года пил вместе со взрослыми мужчинами и наравне с ними. Шляпка свалилась у меня с головы, когда я, запрокинув голову, отвечала на его поцелуи; и я сама расстегнула ворот своего платья навстречу его жадным неловким пальцам, а потом расстегнула и рубашку у него на груди, чтобы прижаться к ней лбом и горящей щекой.
Где-то в глубине моей души некий голос твердил: «Лихорадка. Да ведь у тебя наверняка лихорадка!» Я чувствовала, что ноги мои настолько ослабели, что я не могу подняться, и я отчего-то дрожала всем телом, а где-то в самом моем нутре, глубоко под ребрами, возник некий болезненно-сладостный трепет. И вдоль позвоночника бежали и бежали мурашки. Я вздрагивала от каждого, даже малейшего, движения Ральфа. Когда он кончиком указательного пальца провел от моего уха до основания шеи, я задрожала всем телом. «Я, должно быть, больна, – твердило мое гаснущее сознание. – Да, наверное, я очень, очень больна».
И тут Ральф, слегка отстранившись от меня и опершись о локоть, спокойно сказал, глядя мне в лицо:
– Тебе пора. Уже довольно поздно.
– Ерунда, – возразила я. – Наверняка еще и двух часов нет.
Я вытащила из кармана свои серебряные часики, миниатюрную копию отцовских часов, открыла их и в ужасе воскликнула:
– Уже три! Я же опоздаю! – Я мгновенно вскочила на ноги, подняла шляпу и принялась отряхивать юбку. Ральф, не делая ни малейшей попытки помочь мне, полулежал, прислонившись к тюку старой соломы и равнодушно за мной наблюдая. Я застегнула платье, украдкой поглядывая на него из-под ресниц. А он вытянул из кучи соломинку и стал ее жевать. Его темные глаза не выражали ровным счетом никаких чувств. Он, похоже, был столь же доволен тем, что я от него ухожу, как и тем, что я сама к нему приехала. В своей ленивой неподвижности он был похож на тайного языческого божка, одного из старых, полузабытых, лесных богов этой земли.
Я была уже готова отправиться в обратный путь, и мне, надо сказать, следовало бы поспешить, однако тот странный трепет у меня в груди становился все сильнее, все болезненнее. Мне совсем не хотелось отсюда уезжать. Я снова присела рядом с Ральфом и, кокетливо положив голову ему на плечо, прошептала:
– Скажи, что ты меня любишь, прежде чем я уеду.
– Ох, нет, – спокойно возразил он, – ни за что. Никаких признаний в любви я делать не стану.
Я была потрясена. Я резко подняла голову и, чуть отстранившись, посмотрела на него.
– Значит, ты меня не любишь?
– Нет, – сказал Ральф по-прежнему совершенно спокойно. – Ведь и ты не любишь меня, не так ли?
Я промолчала, хотя с губ моих уже готов был сорваться гневный крик. Но я и правда не могла сказать, что люблю его. Да, мне очень понравилось целоваться, и я бы с удовольствием снова встретилась с ним здесь, в помещении полутемной старой мельницы. И тогда, возможно, я бы и платье с себя стащила, чтобы почувствовать на своем теле его руки и губы. Но он, в конце концов, был всего лишь сыном Мег. И жил вместе с нею в жалкой грязной хижине. И служил всего лишь помощником егеря. И был одним из наших подданных. И мы, его хозяева, милостиво позволяли ему и Мег жить в этом домишке почти что даром.
– Наверное, нет, – медленно ответила я. – Наверное, я еще не могу сказать, что люблю тебя.
– Знаешь, люди делятся на тех, кто любит, и тех, кого любят, – задумчиво проговорил Ральф. – Я видел немало взрослых мужчин, в том числе и благородных джентльменов, которые плакали как дети из-за любви к моей матери, а она ни на кого из них даже не глядела. Я бы никогда не стал так себя вести из-за женщины. Я никогда не стану чахнуть от любви к какой-то красотке. Я буду тем, кого любят, кому дарят и подарки, и любовь, и наслаждение… а он, получив все это, движется дальше.
И в голове у меня мелькнула мысль об отце, с уверенным видом лгущем своей жене и свободном от какой бы то ни было привязанности к ней; подумала я и о матери, которой остается лишь подавлять горестные вздохи и чахнуть от любви к сыну. Потом я вдруг вспомнила, как деревенские девушки, провожая глазами одного красивого парня, то краснели, то бледнели от волнения. Вспомнила я и о той девушке, которая утопилась в нашем речном пруду, когда любовник бросил ее и уехал на военную службу в графство Кент. Впервые я задумалась о том, сколько боли выпадает всякой любящей женщине после свадьбы – и бесконечные роды, и утрата привлекательности, и утрата любви, если, конечно, она у нее вообще была.
– Я тоже буду той, кого любят! – твердо заявила я.
Ральф громко расхохотался.
– Значит, ты тоже! – сказал он. – Еще бы, у тебя, по-моему, есть для этого все, что нужно! Ты такая же, как все вы, благородные: вас заботит только собственное удовольствие да необходимость удерживать землю в своих руках.
Да, собственное удовольствие и владение землей. Ральф сказал правду. Своими поцелуями он доставил мне удовольствие, чудесное удовольствие, от которого кружилась голова. Вкусная еда, хорошее вино, охота морозным утром – все это тоже доставляет удовольствие. Но владеть Широким Долом – это не удовольствие; для меня это единственная возможность чувствовать, что я живу. Я улыбнулась, подумав об этом. Ральф тоже ласково мне улыбнулся и горячо воскликнул:
– А ты станешь настоящей сердцеедкой, Беатрис, когда окончательно созреешь! А твои зеленые раскосые глаза и волосы цвета буковых орешков тебе помогут. И ты получишь столько удовольствий, сколько захочешь, и все земли в придачу.
Что-то в его голосе убедило меня, что он говорит правду. Да, я получу сколько угодно удовольствий, и эта земля тоже будет моей! То, что я так неудачно родилась девочкой, не сломает мою судьбу. Я могу получать не только любые удовольствия, но и эту землю я тоже непременно заполучу! И я буду владеть ею, хоть я и не мужчина. И наслаждения от любовных утех мне достанется больше, чем любому мужчине. Я же чувствовала, что Ральфу очень приятно целоваться со мной, но разве можно было сравнить его ощущения с моими? Ведь я чуть сознание не теряла от наслаждения! Я испытывала наслаждение каждой клеточкой своей шелковистой кожи. Да, мое тело – самое настоящее животное, замечательное животное: ловкое, гибкое, обворожительное. И я смогу получить максимальное наслаждение с любым мужчиной, который будет мне мил. И эта земля будет моей! Я всегда мечтала стать хозяйкой Широкого Дола; с этим были связаны все мои помыслы, каждый мой вздох, каждый сон. И я знала, что вполне заслужила это право, что никто так не любит Широкий Дол, никто так не заботится о нем, как я, и никто не знает его так хорошо, как я.
Я задумчиво посмотрела на Ральфа. Все-таки что-то еще послышалось мне в его голосе, да и смотрел он на меня не так равнодушно, как прежде; его глаза так и светились теплом и чувственностью.
– А вот ты мог бы полюбить меня! – заявила я. – Да ты уже и так почти в меня влюбился!
Он выбросил вперед руку тем жестом, к которому прибегают во время борьбы деревенские парни, когда хотят показать, что сдаются.
– Ну, в общем, да, – легко признался он, но таким тоном, словно особого значения это не имело. – Да и тебя я, возможно, смог бы заставить по-настоящему меня полюбить. Только для нас в этом мире попросту нет места. Ты живешь в богатой усадьбе, а я – в жалкой хижине, которая стоит на вашей земле и в вашем лесу. Мы, разумеется, можем встречаться тайно в этом темном и грязном сарае и даже получать немалое удовольствие, но замуж ты выйдешь за лорда, а я женюсь на какой-нибудь деревенской потаскушке. И если ты все же хочешь любви, тебе лучше найти кого-то другого. А я готов встречаться с тобой и просто для удовольствия.
– Ну что ж, значит, мы будем встречаться для удовольствия, – согласилась я, но сказала это с таким серьезным видом, словно клялась на Библии, и посмотрела на Ральфа, а он поцеловал меня так нежно и торжественно, словно принимал некий обет. Затем я все-таки собралась уходить, но снова помедлила, оглянулась и посмотрела на него. Он лежал, откинувшись на тюк соломы, и был похож в эту минуту на могучее и опасное божество урожая. У меня просто не хватило сил уйти от него. Я улыбнулась – почти застенчиво – и, шагнув назад, остановилась прямо перед ним. Он лениво протянул мне руку, и я во мгновение ока опять оказалась в его объятиях. Мы, улыбаясь, посмотрели друг другу в глаза, как равные, как если бы между нами не было никакой усадьбы и никакой жалкой хижины, и твердые губы Ральфа снова впились в мои уста. И шляпа, только что аккуратно надетая, снова свалилась у меня с головы.
В тот день я так и не пообедала.
Впрочем, есть мне совершенно не хотелось.
Глава третья
Три дня дома было находиться просто невыносимо, в таком невероятном волнении пребывала мама, обретя уверенность, что Гарри вскоре вернется домой. Каждый день мы с ней выезжали в легком ландо в Чичестер, чтобы что-то купить для его комнаты – то новые обои, то шторы на окна. В ее любимом журнале было полно всевозможных советов насчет модного в последнее время китайского интерьера, и мы без конца перебирали образцы обоев с драконами, пока у меня голова не начинала кружиться от усталости и скуки. Три долгих дня я провела в лавках, торгующих драпировочными тканями, пока мама выбирала то новое покрывало для Гарри, то новую парчу для портьер и балдахина в его комнате – а между тем уже наступило лето, и солнце пригревало все сильней, и где-то там, у реки, меня ждал Ральф.
Все в доме делалось для Гарри и во имя Гарри. Когда я спросила, нельзя ли и мне сменить в своей комнате шторы и балдахин, то в ответ получила весьма болезненный, хотя и туманный, отказ.
– Вряд ли это имеет смысл, – сказала мне мать. И больше ничего пояснять не стала. Да это, собственно, и не требовалось. Действительно, вряд ли имеет смысл тратить лишние деньги ради второго ребенка в семье, да еще и «второсортной» девочки. Вряд ли имеет смысл доставлять этой девочке столь дорогостоящее удовольствие и украшать ее комнату, если она живет там всего лишь временно, на пути к замужеству и дальнейшей жизни в совсем другом доме.
Я ничего не сказала маме; но я завидовала каждому пенсу, потраченному ею на Гарри, я завидовала каждому сантиметру того незаслуженно высокого пьедестала, который был создан в семье для моего брата. Да, я ничего не сказала матери, но вряд ли я желала добра Гарри в течение этих трех долгих дней.
Впрочем, насколько я могла судить, Гарри, может, и удивился бы сперва всем этим преобразованиям, может даже, и обрадовался бы, но уже через неделю ему все это стало бы безразлично. Хотя я понимала, конечно, что маме воздастся сполна за все ее хлопоты, как только ее «золотой мальчик» с благодарностью улыбнется ей нежной и ласковой улыбкой. Но кто и чем сможет искупить ту скуку и отвращение, которые терзали меня, пока я без дела торчала в какой-нибудь лавке, а мама, изображая капризную герцогиню, колебалась между разными оттенками выбранных обоев? Еще хуже было то, что я по какой-то неизвестной причине чувствовала себя просто отвратительно.
Однако матери я ничего об этом не сказала: меня, пожалуй, даже страшило проявление заботы и участия с ее стороны; и потом, мне почему-то очень не хотелось, чтобы ко мне хоть кто-нибудь прикасался. Когда я вытягивала перед собой руки, затянутые в пока еще детские перчатки, то было отчетливо видно, как дрожат мои пальцы. Мало того, живот мой терзали странные, схваткообразные боли, точно от невыносимого страха. И есть мне совершенно не хотелось. Меня спасала только одержимость мамы, с головой ушедшей в переустройство комнаты своего любимого сыночка; она даже не замечала, что в последние три дня я почти ничего не ем – только за завтраком, да и то очень мало.
Однажды в магазине, машинально поглаживая стопку бархата с набивным рисунком, я вдруг вспомнила, какая чудесная гладкая кожа у Ральфа на плечах, и колени подо мной вдруг подогнулись. Я буквально рухнула в кресло; сердце мое билось так, что я не сразу смогла вздохнуть полной грудью. «Нет, я наверняка больна», – решила я.
Вечером третьего дня мы с мамой возвращались домой, словно пытаясь нагнать солнце, которое спускалось за холмы в золотисто-розовой сияющей дымке. Мама выглядела страшно довольной своими усилиями. В перевязанных лентами коробках лежали шелка и атласы для новых диванных подушек и стеганых одеял, а также материя для новых одежд. Завтра должны были доставить уже заказанные гардины, обои и кое-какие предметы мебели, исключительно, на мой вкус, уродливой; отныне ей предстояло превратить уютную и типично английскую спальню Гарри в нечто вроде пагоды – насколько, разумеется, могли представить себе пагоду моя мать и чичестерские купцы.
Мама была настроена чрезвычайно миролюбиво и ласково поглядывала на свои покупки, которыми мы были обложены со всех сторон; я тоже улыбалась улыбкой мадонны – наконец-то меня везли домой, наконец-то я вновь дышала чудесным вечерним воздухом Широкого Дола и вдыхала аромат полевых цветов, которыми щедро были усыпаны обочины дороги. Усталые лошади трусили вялой рысцой, но уже насторожили уши, чуя близость конюшни. На берегах реки виднелись яркие пятна последних желто-зеленых первоцветов, а чуть выше уже зацветали колокольчики, собираясь маленькими робкими группками. Черные дрозды вовсю распевали в лесу чудесные любовные песни, звучавшие, впрочем, немного печально, а когда мы свернули на подъездную аллею и проехали в высокие ворота усадьбы, я услышала настойчивый призыв кукушки.
В тени большого тиса, росшего возле ворот, стоял Ральф. Лошади в этот момент шли шагом, и я как бы медленно проплыла мимо него в ландо. Мы оба неотрывно смотрели друг на друга и, похоже, ничего больше вокруг не видели и не замечали. Мне даже показалось, что лес вдруг затянуло какой-то темной дымкой, словно я слепну. Где-то внутри меня, в животе что-то болезненно сжалось, как от смертельного ужаса, и почти сразу этот ужас сменился дикой радостью. Я улыбнулась Ральфу, словно именно он принес в Широкий Дол и долгожданное лето, и эти первые колокольчики, и эту кукушку. Он поклонился нашему ландо, но не дернул себя за чуб, как это обычно делали крестьяне, и взгляда от меня не оторвал. Глаза его смотрели на меня горячо и ласково, чуть прищурившись, а на устах играла легкая интимная усмешка. Увы, наша повозка слишком быстро проехала мимо, и я на него не оглянулась, но чувствовала шеей и затылком его взгляд, полный страстного желания, пока возле старого медного бука мы не скрылись за поворотом дороги.
На следующий день у нашей грузовой повозки отвалилось колесо, да благословит его Господь, так что доставить купленные товары из Чичестера возчики не смогли. Мама занервничала; она рассчитывала сразу же посадить меня за работу – подшивать занавески, – но была вынуждена ждать. Я понимала, что завтра почти наверняка не смогу выйти из дома и буду вынуждена трудиться над проклятыми драконами, купленными для Гарри, но сегодня я была полностью свободна, и этот день был словно неожиданное спасение от смертного приговора. Я быстренько переоделась, сменив утреннее платье на новую зеленую амазонку – ее только на этой неделе доставили от портного, – закрутила волосы в узел и аккуратно убрала их под прелестную зеленую шляпку для верховой езды. Потом я вскочила на свою милую Беллу и помчалась легким галопом по подъездной аллее, по каменному мосту над рекой, затем направо, по лесной тропе, что тянулась вдоль берега реки.
Фенни вздулась после весенних дождей; вода в ней казалась коричневой и кипела, как суп в кастрюле. Ее бурные водовороты и плещущие в берег волны как нельзя лучше соответствовали моему настроению; я ехала и улыбалась. Буки уже покрылись молодой листвой, их кроны у меня над головой были словно окутаны легкой зеленой дымкой; в прошлогодней опавшей листве прорастали новые побеги, одновременно и хрупкие, и восхитительно сильные. Казалось, каждая птица в лесу зовет, зовет своего партнера. Мир Широкого Дола был полон жизни, весеннего настроения и любви, и я тоже была одета в зеленое, как сама жизнь.
Ральф сидел у реки с удочкой, прислонившись спиной к упавшей сосне. Он поднял голову, заслышав топот копыт моей Беллы, и улыбнулся, но ни малейшего удивления не выказал. Мне он в эту минуту показался столь же неотъемлемой частью моего любимого Широкого Дола, как и эти деревья. Мы не договаривались об этой встрече заранее, но она была столь же естественной, как пение птиц; просто мы оба захотели – вот и встретились, и это было совершенно нормально. Ральф притягивал меня к себе столь же уверенно и сильно, как вода под землей притягивает раздвоенный конец ивового прутика, указывая лозоходам, где нужно копать колодец.
Я привязала Беллу к кусту бузины, и она кивнула мне, словно понимая, что мы с ней пробудем здесь весь день. Шурша опавшей листвой, я подошла к Ральфу и остановилась перед ним, выжидая.
Он улыбнулся, глядя на меня и щурясь из-за ослепительно яркого неба, сиявшего у меня за спиной.
– Я скучал по тебе, – неожиданно признался он, и сердце мое подскочило, словно я полетела кувырком с одного из огромных отцовских гунтеров.
– Я не могла выбраться из дома, – сказала я. Руки свои я спрятала за спину, чтобы он не смог увидеть, как они дрожат, но тут – Господи, как это было нелепо! – глаза мои вдруг наполнились слезами, а губы запрыгали, как у маленькой. Я, конечно, могла спрятать руки за спиной, и уж, конечно, никто бы не догадался, что под мягким бархатом зеленой амазонки колени мои подгибаются от внезапной слабости, но лицо мое оказалось совершенно незащищенным; меня словно застигли во время сна или в минуту постыдного страха. Я осторожно, из-под ресниц, глянула на Ральфа, перехватила его взгляд, устремленный на меня, и в одно мгновение успела заметить, что и с него слетела вся самоуверенность. Ральф тоже был напряжен, как петля силка, в который попалась добыча. Я видела, как быстро-быстро он дышит, словно очень долго бежал. Удивленная этим, я шагнула вперед и протянула к нему руку, желая коснуться его густой черной шевелюры, но он каким-то быстрым, непредсказуемым движением перехватил мою руку и потянул меня вниз, на себя. Потом обеими руками с силой схватил меня за плечи и посмотрел мне в лицо своими сверкающими глазами, словно его раздирали два одинаково страстных желания: убить и любить. У меня же в голове не было ни одной мысли. Я просто смотрела на него во все глаза, словно более всего изголодалась именно по этой возможности – видеть его.
Затем то опасное, даже слегка свирепое выражение растаяло у него на лице, и он улыбнулся мне чудесной, теплой, как летний день, улыбкой.
– О, Беатрис… – с нежностью сказал он, и руки его соскользнули с моих плеч на талию, плотно обхваченную узким бархатным жакетом. Притянув меня к себе, он стал целовать меня в губы, в глаза, в шею. Потом мы сели рядышком на берегу, и Ральф одной рукой обнимал меня, а я, положив голову ему на плечо, смотрела на реку и на поплавок из сосновой шишки.






