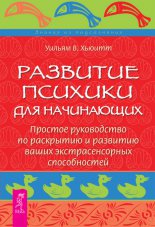Голливудская трилогия в одном томе Брэдбери Рэй

Смерть – дело одинокое
Тем, кто склонен к унынию, Венеция в штате Калифорния[1] раньше могла предложить все, что душе угодно. Туман – чуть ли не каждый вечер, скрипучие стоны нефтяных вышек на берегу, плеск темной воды в каналах, свист песка, хлещущего в окна, когда поднимается ветер и заводит угрюмые песни над пустырями и в безлюдных аллеях.
В те дни разрушался и тихо умирал, обваливаясь в море, пирс, а неподалеку от него в воде можно было различить останки огромного динозавра – аттракциона «русские горки»[2], над которым перекатывал свои волны прилив.
В конце одного из каналов виднелись затопленные, покрытые ржавчиной фургоны старого цирка, и, если ночью пристально вглядеться в воду, заметно было, как снует в клетках всякая живность – рыбы и лангусты, принесенные приливом из океана. Казалось, будто здесь ржавеют все обреченные на гибель цирки мира.
И каждые полчаса к морю с грохотом проносился большой красный трамвай, по ночам его дуга высекала снопы искр из проводов; достигнув берега, трамвай со скрежетом поворачивал и мчался прочь, издавая стоны, словно мертвец, не находящий покоя в могиле. И сам трамвай, и одинокий, раскачивающийся от тряски вожатый знали, что через год их здесь не будет, рельсы зальют бетоном, а паутину высоко натянутых проводов свернут и растащат.
И вот тогда-то, в один такой сумрачный год, когда туманы не хотели развеиваться, а жалобы ветра – стихать, я ехал поздним вечером в старом красном грохочущем, как гром, трамвае и, сам того не подозревая, повстречался в нем с напарником Смерти.
В тот вечер лил дождь, старый трамвай, лязгая и визжа, летел от одной безлюдной, засыпанной билетными конфетти остановки к другой, и в нем никого не было – только я, читая книгу, трясся на одном из задних сидений. Да, в этом старом, ревматическом деревянном вагоне были только я и вожатый, он сидел впереди, дергал латунные рычаги, отпускал тормоза и, когда требовалось, выпускал клубы пара.
А позади, в проходе, ехал еще кто-то, неизвестно когда вошедший в вагон.
В конце концов я обратил на него внимание, потому что, стоя позади меня, он качался и качался из стороны в сторону, будто не знал, куда сесть, – ведь когда на тебя ближе к ночи смотрят сорок пустых мест, трудно решить, какое из них выбрать. Но вот я услышал, как он садится, и понял, что уселся он прямо за мной, я чуял его присутствие, как чуешь запах прилива, который вот-вот зальет прибрежные поля. Отвратительный запах его одежды перекрывало зловоние, говорившее о том, что он выпил слишком много за слишком короткое время.
Я не оглядывался: я давно по опыту знал, что стоит поглядеть на кого-нибудь – и разговора не миновать.
Закрыв глаза, я твердо решил не оборачиваться. Но это не помогло.
– Ox, – простонал незнакомец.
Я почувствовал, как он наклонился ко мне на своем сиденье. Почувствовал, как горячее дыхание жжет мне шею. Упершись руками в колени, я подался вперед.
– Ox, – простонал он еще громче. Так мог молить о помощи кто-то падающий со скалы или пловец, застигнутый штормом далеко от берега.
– Ох!
Дождь уже лил вовсю, большой красный трамвай, грохоча, мчался в ночи через луга, поросшие мятликом, а дождь барабанил по окнам, и капли, стекая по стеклу, скрывали от глаз тянувшиеся вокруг поля. Мы проплыли через Калвер-Сити[3], так и не увидев киностудию, и двинулись дальше – неуклюжий вагон гремел, пол под ногами скрипел, пустые сиденья дребезжали, визжал сигнальный свисток.
А на меня мерзко пахнуло перегаром, когда сидевший сзади невидимый человек выкрикнул:
– Смерть!
Сигнальный свисток заглушил его голос, и ему пришлось повторить:
– Смерть…
И опять взвизгнул свисток.
– Смерть, – раздался голос у меня за спиной. – Смерть – дело одинокое!
Мне почудилось – он сейчас заплачет. Я глядел вперед на пляшущие в лучах света струи дождя, летящего нам навстречу.
Трамвай замедлил ход. Сидевший сзади вскочил: он был взбешен, что его не слушают, казалось, он готов ткнуть меня в бок, если я хотя бы не обернусь. Он жаждал, чтобы его увидели. Ему не терпелось обрушить на меня то, что его донимало. Я чувствовал, как тянется ко мне его рука, а может быть, кулаки, а то и когти, как рвется он отколошматить или исполосовать меня, кто его знает. Я крепко вцепился в спинку кресла перед собой.
– Смерть… – взревел его голос.
Трамвай, дребезжа, затормозил и остановился.
«Ну давай, – думал я, – договаривай!»
– … дело одинокое, – страшным шепотом докончил он и отодвинулся.
Я услышал, как открылась задняя дверь. И тогда обернулся.
Вагон был пуст. Незнакомец исчез, унося с собой свои похоронные речи. Слышно было, как похрустывает гравий на дороге.
Невидимый впотьмах человек бормотал себе под нос, но двери с треском захлопнулись. Через окно до меня еще доносился его голос, что-то насчет могилы. Насчет чьей-то могилы. Насчет одиночества.
Трамвай дернулся и, лязгая, понесся дальше сквозь непогоду, мимо высокой травы на лугах.
Я поднял окно и высунулся, вглядываясь в дождливую темень позади.
Я не мог бы сказать, что там осталось – город, полный людей, или лишь один человек, полный отчаяния, – ничего не было ни видно, ни слышно.
Трамвай несся к океану.
Меня охватил страх, что мы в него свалимся.
Я с шумом опустил окно, меня била дрожь.
Всю дорогу я убеждал себя: «Да брось! Тебе же всего двадцать семь! И ты же не пьешь». Но…
Но все-таки я выпил.
В этом дальнем уголке, на краю континента, где некогда остановились фургоны переселенцев, я отыскал открытый допоздна салун, в котором не было никого, кроме бармена – поклонника ковбойских фильмов о Хопалонге Кэссиди[4], которым он и любовался в ночной телепередаче.
– Двойную порцию водки, пожалуйста.
Я удивился, услышав свой голос. Зачем мне водка? Набраться храбрости и позвонить моей девушке Пег? Она за две тысячи миль отсюда, в Мехико-Сити. А что я ей скажу? Что со мной все в порядке? Но ведь со мной и правда ничего не случилось!
Ровно ничего, просто проехался в трамвае под холодным дождем, а за моей спиной звучал зловещий голос, нагонял тоску и страх. Однако я боялся возвращаться в свою квартиру, пустую, как холодильник, брошенный переселенцами, бредущими на запад в поисках заработка.
Большей пустоты, чем у меня дома, пожалуй, нигде не было, разве что на моем банковском счете – на счете Великого Американского Писателя – в старом, похожем на римский храм здании банка, которое возвышалось на берегу у самой воды, и казалось, что его смоет в море при следующем отливе. Каждое утро кассиры, сидя с веслами в лодках, ждали, пока управляющий топил свою тоску в ближайшем баре. Я не часто с ними встречался. При том что мне лишь изредка удавалось продать рассказ какому-нибудь жалкому детективному журнальчику, наличных, чтобы класть их в банк, у меня не водилось. Поэтому…
Я отхлебнул водки. И сморщился.
– Господи, – удивился бармен, – вы что, в первый раз водку пробуете?
– В первый.
– Вид у вас просто жуткий.
– Мне и впрямь жутко. Вы когда-нибудь чувствовали, будто должно случиться что-то страшное, а что – не знаете?
– Это когда мурашки по спине бегают?
Я глотнул еще водки, и меня передернуло.
– Нет, это не то. Я хочу сказать: чуете смертельную жуть, как она на вас надвигается?
Бармен устремил взгляд на что-то за моим плечом, словно увидел там призрак незнакомца, который ехал в трамвае.
– Так что, вы притащили эту жуть с собой?
– Нет.
– Значит, здесь вам бояться нечего.
– Но, понимаете, – сказал я, – он со мной разговаривал, этот Харон[5].
– Харон?
– Я не видел его лица. О боже, мне совсем худо! Спокойной ночи.
– Не пейте больше!
Но я уже был за дверью и оглядывался по сторонам – не поджидает ли меня там что-то жуткое? Каким путем идти домой, чтобы не напороться на тьму? Наконец решил и, зная, что решил неверно, торопливо пошел вдоль старого канала, туда, где под водой покачивались цирковые фургоны.
Как угодили в канал львиные клетки, не знал никто. Но если на то пошло, никто, кажется, уже не помнил и того, откуда взялись сами каналы в этом старом обветшавшем городе, где ветошь каждую ночь шелестела под дверями домов вперемешку с песком, водорослями и табаком из сигарет, усеивавшим берег еще с тысяча девятьсот десятого года[6].
Как бы то ни было, каналы прорезали город, и в конце одного из них, в темно-зеленой, испещренной нефтяными пятнами воде, покоились старые цирковые фургоны и клетки; белая эмаль и позолота с них облезли, ржавчина разъедала толстые прутья решеток.
Давным-давно, в начале двадцатых, и фургоны, и клетки, словно веселая летняя гроза, проносились по городу, в клетках метались звери, львы разевали пасти, их горячее дыхание отдавало запахом мяса. Упряжки белых лошадей провозили это великолепие через Венецию, через луга и поля, задолго до того, как студия «Метро-Голдвин-Майер»[7] присвоила львов для своей заставки и создала совсем иной, новый цирк, которому суждено вечно жить на лентах кинопленки.
Теперь все, что осталось от прошлого праздничного карнавала, нашло себе пристанище здесь, в канале. В его глубокой воде одни клетки стояли прямо, другие валялись на боку, схоронившись под волнами прилива, который иногда по ночам совсем скрывал их от глаз, а на рассвете обнажал снова. Между прутьями решеток сновали рыбы. Днем здесь, на этих островах из дерева и стали, отплясывали мальчишки, по временам они ныряли внутрь клеток, трясли решетки и заливались хохотом.
Но сейчас, далеко за полночь, когда последний трамвай унесся вдоль пустынных песчаных берегов к месту своего назначения, темная вода тихо плескалась в каналах и чмокала в решетках, как чмокают беззубыми деснами древние старухи.
Пригнув голову, я бежал под ливнем, как вдруг прояснилось и дождь перестал. Луна, проглянув сквозь щель в темных тучах, следила за мной, будто огромный глаз. Я шел, ступая по зеркалам, а из них на меня смотрели та же луна и те же тучи. Я шел по небу, лежавшему у меня под ногами, и вдруг – вдруг это случилось…
Где-то поблизости, кварталах в двух от меня, в канал хлынула волна прилива; соленая морская вода гладким черным потоком потекла между берегами. Видно, где-то недалеко прорвало песчаную перемычку и море устремилось в канал. Темная вода текла все дальше. Она достигла пешеходного мостика, как раз когда я достиг его середины.
Вода с шипением обтекала прутья львиных клеток.
Я подскочил к перилам моста и крепко за них ухватился.
Потому что прямо подо мной, в одной из клеток, показалось что-то слабо фосфоресцирующее.
Кто-то в клетке двигал рукой.
Видно, давно уснувший укротитель львов только что проснулся и не мог понять, где он.
Рука медленно тянулась вдоль прутьев – укротитель пробудился окончательно.
Вода в канале спала и снова поднялась.
А призрак прижался к решетке.
Склонившись над перилами, я не верил своим глазам.
Но вот светящееся пятно начало обретать форму. Призрак шевелил уже не только рукой, все его тело неуклюже и тяжело двигалось, словно огромная, очутившаяся за решеткой марионетка.
Я увидел и лицо – бледное, с пустыми глазами, в них отражалась луна, и только, – не лицо, а серебряная маска.
А где-то в глубине моего сознания длинный трамвай, сворачивая по ржавым рельсам, скрежетал тормозами, визжал на остановках, и при каждом повороте невидимый человек выкрикивал:
– Смерть… дело… одинокое!
Нет!
Прилив начался снова, и вода поднялась. Все это казалось странно знакомым, будто однажды ночью я уже наблюдал такую картину.
А призрак в клетке снова привстал.
Это был мертвец, он рвался наружу.
Кто-то издал страшный вопль.
И когда в домиках вдоль темного канала вспыхнул свет, я понял, что кричал я.
– Спокойно! Назад! Назад!
Машин подъезжало все больше, все больше прибывало полицейских, все больше окон загоралось в домах, все больше людей в халатах, не очнувшихся от сна, подходило ко мне, тоже не успевшему очнуться, но только не от сна. Будто толпа несчастных клоунов, брошенных на мосту, мы глядели в воду на затонувший цирк.
Меня трясло, я всматривался в затопленную клетку и думал: «Как же я не оглянулся? Как же не рассмотрел того незнакомца, ведь он наверняка все знал про этого беднягу там, в темной воде».
«Боже, – думал я, – уж не он ли, этот тип из трамвая, и затолкал несчастного в клетку?»
Доказательства? Никаких. Все, что я мог предъявить, – это три слова, прозвучавшие после полуночи в последнем трамвае, а свидетелями были лишь дождь, стучавший по проводам и повторявший эти слова, да холодная вода, которая, словно смерть, подступала к затонувшим в канале клеткам, заливала их и отступала, став еще более холодной, чем прежде.
Из старых домишек выходили все новые несуразные клоуны.
– Эй, народ! Все в порядке!
Снова пошел дождь, и прибывающие полицейские косились на меня, словно хотели спросить: «Что у тебя, своих дел мало? Не мог подождать до утра, позвонить, не называя себя?»
На самом краю берега над каналом, с отвращением глядя на воду, стоял один из полицейских в черных купальных трусах. Тело у него было белое – наверно, давно не видело солнца. Он стоял, наблюдая за тем, как волны заливают клетку, как всплывает покойник и манит к себе. За прутьями возникало лицо. Печальное лицо человека, ушедшего далеко и навсегда. Во мне росла щемящая тоска. Пришлось отойти: я почувствовал, как в горле начинает першить от горечи – того и гляди, всхлипну.
И тут белое тело полицейского вспороло воду. И скрылось.
Я испугался, не утонул ли и он тоже. По маслянистой поверхности канала барабанил дождь.
Но вдруг полицейский показался снова – уже в клетке, прижавшись лицом к прутьям, он хватал ртом воздух.
Я вздрогнул: мне почудилось, будто это мертвец всплыл, чтобы сделать последний судорожный живительный глоток.
А минуту спустя я увидел, как полицейский, изо всех сил работая ногами, уже выплывает из дальнего конца клетки и тащит за собой что-то длинное, призрачное, похожее на погребальную ленту из блеклых водорослей.
Кто-то подавил рыдание. Господи Иисусе, неужто я?
Тело выволокли на берег, пловец растирался полотенцем. Мигая, угасали огни патрульных машин. Трое полицейских, тихо переговариваясь, наклонились над покойником, освещая его фонариками.
– … похоже, почти сутки.
– … а следователь-то где?
– У него трубка снята. Том поехал за ним.
– Бумажник? Удостоверение?
– Пусто – видно, приезжий.
Начали выворачивать карманы утопленника.
– Нет, не приезжий, – сказал я и осекся.
Один из полицейских оглянулся и направил на меня фонарик. Он с интересом вгляделся мне в глаза и услышал звуки, которые рвались из моего горла.
– Знаете его?
– Нет.
– Тогда почему…
– Почему расстраиваюсь? Да потому! Он умер, ушел навсегда. О господи! Это же я его нашел!
Неожиданно мысли мои скакнули назад.
Давным-давно, в яркий летний день, я завернул за угол и вдруг увидел затормозившую машину и распростертого под ней человека. Водитель как раз выскочил и нагнулся над телом.
Я сделал шаг вперед и замер. Что-то розовело на дороге возле моего ботинка.
Я понял, что это, вспомнив лабораторные занятия в колледже. Маленький одинокий комочек человеческого мозга.
Какая-то женщина, явно незнакомая, проходя мимо, остановилась и долго смотрела на тело под колесами. Потом, повинуясь порыву, сделала то, чего и сама не ожидала. Медленно опустилась на колени возле огибшего. И стала гладить его по плечу, мягко, осторожно, словно утешая: «Ну, ну, не надо, не надо!»
– Его… убили? – услышал я свой голос.
Полицейский обернулся:
– С чего вы взяли?
– А как же… я хочу сказать… как бы иначе он попал в эту клетку под водой? Кто-то должен был его туда запихнуть.
Снова вспыхнул фонарик, и луч света зашарил по моему лицу, словно глаза врача, ищущего симптомы.
– Это вы позвонили?
– Нет, – поежился я. – Я только закричал и перебудил всех.
– Привет! – тихо проговорил кто-то.
Детектив в штатском, небольшого роста, начинающий лысеть, опустился на колени возле тела и уже выворачивал карманы утопленника. Из них вывалились какие-то клочки и комочки, похожие на мокрые снежные хлопья, на кусочки папье-маше.
– Что это, черт побери? – удивился кто-то.
«Я-то знаю», – подумал я, но промолчал.
Склонившись рядом с детективом, я дрожащими руками подобрал кусочки мокрой бумаги. А детектив в это время обследовал другие карманы, вынимая из них такой же мусор. Я зажал мокрые комочки в кулаке и, выпрямившись, сунул их себе в карман, а сыщик как раз поднял голову.
– Вы насквозь промокли, – сказал он. – Сообщите полицейскому свое имя и адрес и отправляйтесь домой. Сушиться.
Дождь начался снова. Меня трясло. Я повернулся, назвал полицейскому свою фамилию и адрес и быстро пошел к дому.
Я пробежал почти целый квартал, когда возле меня остановилась машина и открылась дверца. Коренастый лысеющий сыщик кивнул мне.
– Господи, ну и вид у вас, хуже некуда! – сказал он.
– От кого-то я уже слышал об этом всего час назад.
– Садитесь.
– Да я живу в квартале отсюда.
– Садитесь!
Весь дрожа, я влез в машину, и он провез меня последние два квартала до моей пропахшей затхлостью, тесной, как коробка от печенья, квартиры, за которую я платил тридцать долларов в месяц. Вылезая из машины, я чуть не свалился – так измотала меня дрожь.
– Крамли, – представился сыщик. – Элмо Крамли. Позвоните мне, когда разберетесь, что за бумажонки вы спрятали в карман.
Я виновато вздрогнул. Потянулся рукой к карману. И кивнул:
– Договорились.
– И хватит вам страдать и трястись. Кем он был? Никем. – Крамли вдруг замолчал – видно, устыдился того, что сказал, и наклонил голову, собираясь ехать дальше.
– А мне почему-то кажется, я знаю, кем он был, – проговорил я. – Когда вспомню, позвоню.
Я стоял, совсем окоченев. Боялся, что за спиной меня ожидает еще что-то страшное. Вдруг, когда я открою дверь, на меня хлынут черные воды канала?
– Вперед! – приказал Элмо Крамли и захлопнул дверцу.
Он уехал. Только две красные точки и остались от его машины, они удалялись в струях снова начавшегося ливня, который заставил меня зажмуриться.
Я посмотрел на телефонную будку возле заправочной станции на другой стороне улицы. Я пользовался этим телефоном, как своим собственным, названивая разным издателям, а вот они никогда не звонили мне в ответ. Шаря в карманах в поисках мелочи, я размышлял, не позвонить ли в Мехико, не разбудить ли Пег, не взвалить ли на нее мои страхи, не рассказать ли ей про клетку, про утопленника и… о Господи… напугать ее до смерти!
«Послушайся сыщика», – подумал я.
Вперед!
У меня уже зуб на зуб не попадал, и я с трудом вставил проклятый ключ в замочную скважину.
Дождь последовал за мной и в квартиру.
Что ждало меня за дверью?
Пустая комната двадцать на двадцать футов, продавленный диван, книжная полка, на ней четырнадцать книг и много пустого места, жаждущего, чтобы его заполнили, купленное по дешевке кресло да некрашеный сосновый письменный стол с несмазанной пишущей машинкой «Ундервуд стандарт» выпуска 1934 года, огромной, как рояль, и громыхающей, как деревянные башмаки по не покрытому ковром полу.
В машинку был вставлен давно ждущий своего часа лист бумаги. А в ящике рядом с машинкой лежала небольшая стопка журналов – полное собрание моих сочинений – экземпляры «Дешевого детективного журнала», «Детективных рассказов», «Черной маски», каждый из них платил мне по тридцать-сорок долларов за рассказ. По другую сторону машинки стоял еще один ящик, ждал, когда в него положат рукопись. Там покоилась единственная страница книги, никак не хотевшей начинаться. На ней значилось:
РОМАН БЕЗ НАЗВАНИЯ
А под этими словами моя фамилия. И дата – июль 1949 г.
То есть три месяца тому назад.
Продолжая дрожать, я разделся, вытерся полотенцем, надел халат, вернулся к письменному столу и уперся в него глазами.
Дотронулся до пишущей машинки, гадая, кто она мне – потерянный друг, слуга или неверная любовница?
Еще несколько недель назад она издавала звуки, отдаленно напоминавшие голос музы. А теперь почти каждый раз я тупо сижу перед проклятой клавиатурой, словно мне отрубили кисти рук по самые запястья. Трижды, четырежды в день я устраиваюсь за столом, терзаемый муками творчества. И ничего не получается. А если и получается, то тут же, скомканное, летит на пол – каждый вечер я выметаю из комнаты кучу бумажных шариков. Я застрял в бесконечной аризонской пустыне, известной под названием «Засуха».
Во многом мой простой объяснялся тем, что Пег так далеко – в Мехико, среди своих мумий и катакомб, а я здесь один, и солнце в Венеции не показывается уже три месяца, вместо него лишь мгла, да туман, да дождь, и снова туман и мгла. Каждую ночь я заворачивался в холодное хлопчатобумажное одеяло, а на рассвете разворачивался с прежним мерзким ощущением на душе. Каждое утро подушка оказывалась влажной, а я не мог вспомнить, что мне снилось и отчего она стала солоноватой.
Я выглянул в окно на телефон, я прислушивался к нему с утра до вечера изо дня в день, но еще ни разу он не зазвонил, чтобы предложить превратить в деньги мой замечательный роман, сумей я закончить его в прошлом году.
Вдруг я поймал себя на том, что пальцы неуверенно скользят по клавишам машинки. «Будто руки того утопленника в клетке», – подумал я и вспомнил, как они высовывались между прутьями решеток, покачиваясь в воде, словно морские анемоны. И я вспомнил о других руках, которых так и не увидел, – о руках того, кто ночью стоял в вагоне трамвая у меня за спиной.
И у того и у другого руки не знали покоя.
Медленно, очень медленно я присел к столу.
Что-то стучало у меня в груди, казалось, что-то бьется о решетку брошенной в канал клетки.
Кто-то дышал мне в затылок.
Надо избавиться от того и от другого. Надо что-то сделать, чтобы они успокоились и перестали меня донимать, иначе мне не заснуть.
Какой-то хрип зазвучал в моем горле, словно меня вот-вот вырвет. Но не вырвало.
Вместо этого пальцы забегали по клавишам, зачеркивая заголовок «РОМАН БЕЗ НАЗВАНИЯ».
Потом я сдвинул каретку, сделал интервал и увидел, как на бумаге возникают слова: СМЕРТЬ, затем ДЕЛО и, наконец, ОДИНОКОЕ.
Я дико уставился на этот заголовок, ахнул и, принявшись печатать, печатал, не останавливаясь, почти час, пока не заставил трамвай в отсветах грозовых молний умчаться сквозь ливень прочь, пока не залил львиную клетку черной морской водой, которая хлынула, сметая все преграды, и выпустила мертвеца на волю.
Вода струилась по моим рукам, стекала к ладоням и по пальцам выливалась на страницу.
И вдруг, как наводнение, надвинулась темнота.
Я так ей обрадовался, что рассмеялся.
И рухнул в постель.
Я пытался уснуть, но расчихался и все чихал и чихал, извел целую пачку бумажных носовых платков и лежал без сна, совершенно несчастный, предчувствуя, что моя простуда никогда не кончится.
Ночью туман сгустился, и где-то далеко в заливе одиноко и потерянно, не переставая, гудела и гудела сирена. Казалось, огромное морское чудовище, давно умершее, брошенное и забытое, оплакивая самого себя, уплывало все дальше от берега, в глубину, в поисках собственной могилы.
Ночью ветер задувал ко мне в окно, шевелил напечатанными страницами моего романа. Я слышал, как бумага, вздыхая, словно вода в каналах, дышит, как дышал мне в затылок тот, в трамвае. Наконец я уснул.
Проснулся поздно в ярком сиянии солнца. Чихая, добрался до двери, распахнул ее настежь и оказался в таком ослепительном потоке дневного света, что мне захотелось жить вечно, но, устыдившись этой мысли, я, подобно Ахаву[8], готов был посягнуть на солнце. Однако вместо этого я стал поспешно одеваться. Одежда за ночь не высохла. Я натянул теннисные шорты, надел куртку и, вывернув карманы еще сырого пиджака, нашел похожие на папье-маше комочки бумаги, вывалившиеся всего несколько часов назад из карманов мертвеца.
Затаив дыхание, я коснулся их кончиками пальцев. Я знал, что это такое. Но пока не был готов обдумать вопрос до конца.
Я не люблю бегать. Но тут побежал…
Побежал прочь от каналов, от клетки, от голоса в темном ночном трамвае, прочь от моей комнаты, прочь от только что напечатанных страниц, ждущих, чтобы их прочитали, ведь на них начинался рассказ обо всем случившемся, но сейчас мне еще не хотелось их перечитывать. Ни о чем не думая, я бежал очертя голову вдоль берега к югу.
Бежал в страну под названием «Затерянный мир».
Но замедлил бег, решив поглазеть на утреннюю кормежку диковинных механических зверей.
Нефтяные вышки. Нефтяные насосы.
Эти гигантские птеродактили[9], рассказывал я друзьям, стали прилетать сюда по воздуху в начале века и темными ночами плавно опускались на землю, чтобы вить гнезда. Перепуганные прибрежные жители просыпались среди ночи от чавканья огромных голодных животных. Люди садились в постелях, разбуженные в три часа ночи скрипом, скрежетом, стуком костей этих скелетоподобных монстров, взмахами голых крыльев, которые то поднимались, то опускались, напоминая тяжкие вздохи первобытных существ. Их запах, вечный, как само время, проплывал над побережьем, доносясь из допещерного века, из времен, когда люди еще не жили в пещерах, это был запах джунглей, ушедших в землю, чтобы там, в глубине, умереть и дать жизнь нефти.
Я бежал через этот лес бронтозавров[10], представляя себе трицератопсов[11] и похожих на частокол стегозавров[12], выдавливающих из земли черную патоку, утопающих в гудроне. Их жалобные крики эхом отдавались от берега, а прибой возвращал на сушу их древний громоподобный рык.
Я бежал мимо невысоких домиков, притулившихся среди чудовищ, мимо каналов, вырытых и наполненных водой еще в 1910 году, чтобы в них отражалось безоблачное небо, по их чистой поверхности в те дни плавно скользили гондолы, а мосты были, как светлячками, увешаны разноцветными лампочками, сулящими веселые ночные балы, похожие на балетные спектакли, уже не повторявшиеся после войны. И когда гондолы погрузились на дно, унеся с собой веселый смех последней вечеринки, черные уроды продолжали сосать песок.
Конечно, кое-кто из тех времен здесь все-таки оставался, укрывшись в лачугах или запершись в немногочисленных виллах, напоминавших средиземноморские, возведенных тут и там по капризу архитекторов.
Я бежал, бежал и вдруг остановился. Мне пора было поворачивать назад, идти искать этот похожий на папье-маше мусор, а потом выяснять, как звали его пропавшего, погибшего владельца.
Но сейчас я не мог оторвать глаз от высившегося передо мной средиземноморского палаццо, сиявшего белизной, как будто на песок опустилась полная луна.
«Констанция Раттиган, – прошептал я, – может быть, выйдешь поиграть?»
На самом-то деле дворец был не дворец, а слепящая глаза белоснежная мавританская крепость, фасадом обращенная к океану, она бросала дерзкий вызов волнам: пусть нахлынут, пусть попробуют сокрушить ее. Крепость венчали башенки и минареты, на песчаных террасах наклонно лежали голубые и белые плитки в опасной близости – всего каких-то сто футов – от того места, где любопытные волны почтительно кланялись крепости, где кружились чайки, стараясь заглянуть в окна, и где сейчас замер я.
«Констанция Раттиган».
Но никто не выходил.
Одинокий и таинственный, этот дворец, стоявший на берегу, где царили лишь грохот прибоя да ящерицы, бдительно охранял загадочную королеву экрана.