Третьего тысячелетия не будет. Русская история игры с человечеством Гефтер Михаил
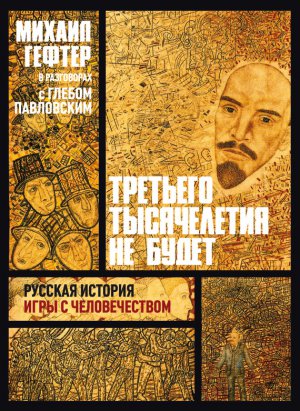
© Павловский Г. О., 2015
© Издательство «Европа», 2015
От составителя
На обложку я вынес слова, которые Михаил Яковлевич Гефтер часто повторял в последние годы жизни: третьего тысячелетия не будет. И это был не пессимистический жест, а справка по очередным вопросам русской истории. Гефтеровская версия русской истории вполне необычна и начинается довольно давно.
Гефтер видел в Homo sapiens существо, однажды неясным способом ускользнувшее от естественной видовой обреченности. Побег из эволюции через черный ход – долгое странствие, которое не выглядит жутким лишь при чтении книг из New Oxford World History. Мировая история по Гефтеру – это радикальная выходка человеческого существа, но не первая и, как знать, не последняя. Истории предшествовало существование, которое было человеческим, но историей не было и запросто могло бы не стать. По Гефтеру, Homo historicus, Человек Исторический, лишь эпизод. Еще одно отклонение в родовой судьбе Homo, у которого есть начало (даже не одно!) и финал. Историческими инновациями, такими как утопия, революция, церковь, нация и глобальность, человек предпринял попытку пересоздать себя. Паролем попытки стало человечество, а ее самой жаркой сценой – русская революция и советский коммунизм.
Но это не «конец истории» по Гегелю и Фукуяме. Третьего тысячелетия не будет, поскольку счет эпох от Рождества Христова значим только внутри истории, как ее датчик или метроном. На выходе время финала становится другим. Гефтер хотел понять, как мы оказались именно там, где последний трюк завершается. Кто в финальной сцене Россия – неудачливый плагиатор или великий актер, выложившийся без остатка и умерший на сцене? Неизвестно, но только тут способ говорить о России сегодня сколько-нибудь всерьез.
Может быть, главное, но почти не замеченное в том, что советское общество вместе с политической потерпело и речевую катастрофу. Гефтер первый обратил внимание, что в русском речевом поведении возник болезнетворный Двойник, бегущий от будущего, отрицая реальность прошлого. Притом его речи переполнены историческими терминами и именами. Всему этому так же опасно верить, как сантиментам невротика. Гефтер не считал фатальными самые страшные падения. Человек очень расположен злодействовать – как-то бросил он походя в разговоре. Речевое поведение важней морального, в котором мы себя беспрерывно виним. Фатальной он считал готовность смолчать, уйти в себя, подменить ресентиментальной болтовней. Фатален только обрыв связи.
В разговорах Гефтера русская сцена очерчена такими разнопорядковыми персонажами, как царь Иван и царь Петр, Пушкин и Чаадаев, Маркс и граф Витте, Ульянов и Сталин, Платонов и Мандельштам. В два великих русских века, XIX и XX, Россия вызвалась сбыться в человечестве не смиренным присоединением, а «русским человечеством», или «Русским миром» – внедрением глобальности в повседневность. Имя надрыва хорошо известно: Союз Советских Социалистических Республик.
Сегодня РФ придумывает себе другую историю, столь пошлую, что в позапрошлом веке ее не взяли бы ни в один журнал, даже реакционный. В новой родословной РФ русских обманывают, соблазняют и даже «кодируют» под гипнозом – но нация пребыла чистой и, как Соня Мармеладова, уже хочет спасать других. Симптом ложных родословных Гефтер относил к анамнезу суверенных убийц. Перед его глазами были только ранние кавказские и югославские прецеденты. Гефтер не ждал, что массами вновь завладеет идея укрыться от прошлого в текущем моменте, но знаки беспамятства он различал. Заметкам Гефтера о Российской Федерации как плоду амнезии посвящена одна из последних глав книги.
Если многие довольно легко согласятся с Гефтером в том, что русская история суть «цепочка цезур – обрывов переначатия», то явно трудней соглашаться с тем, что советское в целом есть нечто упущенное. Почему Гефтер со странной болью говорит об обществе, которое в 50-е годы «банально проводило Сталина на тот свет», – но тут же сочувственно задается вопросом, отчего среди советских 1937 года не нашлось тираноубийцы – русского полковника Штауффенберга?
К люч в гефте ровской постановке вопроса – есть ли будущее у прошлого? Эта формула, как многие другие, при жизни Михаила Яковлевича его друзьям казалась излишеством. А она была лишь строкой опроса – действительно ли мы готовы остаться без будущего? Поскольку будущее никогда в истории не вырастало из так называемой «современности» – нестойкого коллективного консенсуса вокруг статус-кво. Страх будущего, развернувшийся в патологии наших дней, внешне выражен во фьюжене российской амнезии. Если посмотреть спокойно, без осуждения, то модель «внедрения российского» Лужковым в Москве и Собчаком в Ленинграде никак технологически не отличима от подхода реконструктора Стрелкова к истории. Государственную современность строили вокруг идеи забыть советское и пришли к утрате умения быть русской.
Проблему Гефтер видел в том, что мы никак не выйдем из своей же финальной исторической интриги. Ставить вопрос об истории внутри нее, согласно Гефтеру, значит ставить вопрос, на который нет ответа, но сам вопрос посягает на личность спрашивающего. Проблема не в том, что с нами происходило, а в том, как мы об этом говорим. Язык, которым говорил Гефтер, оставляет открытым работу над будущим – другие языки ее исключают.
Читая эти записи, надо помнить, что с историком Михаилом Гефтером тут говорит не историк. В начале 90-х я был радикальным активистом. Это расспросы политика, более всего интересующегося ресурсами русского прошлого для воздействия на актуальный процесс. (Речь Гефтера и сегодня видится мне единственным русским языком, который остается открыт актуальному политическому процессу.) На мои провокации Гефтер отвечал своими «вопросами без ответа», однако невольно адаптируя их внутренний порядок и строй. Историк или философ задали бы ему совершенно другие вопросы. Но коллег не осталось – одни умерли, другие отпрянули еще в 1970-е, когда встречаться с опальным Гефтером стало небезопасно, а через 20 лет просто забыли его телефон. И если последние годы жизни Гефтера стали зрелостью его ума, то, с другой стороны, они были коммуникационной катастрофой. И вероятно, я сам был частью проблемы, ведь расспрашивая о том, что меня задевало, без уточнений пропускал интереснейшие «политически незначимые» темы. А также почти всю его историческую теологию.
Уместно ли появление в подзаголовке слова «теологический»? Думаю, да. Не только потому, что это слово меня уже не пугает. Гефтер видел историю в полюсах событий Голгофы и Страшного суда. Он полагал, что история, как выходка Homo sapiens – беглеца от обреченности, мистична в ее прозаичных «зачем» и «почему». Почему люди разбегались по земле друг от друга, зачем давали друг другу имена? Что за безумие было лезть в пещеру и в темноте там что-то разрисовывать? Что решает Homo historicus тем, что убивает, и зачем ему это страшное упрощение?
Книга заканчивается рефлексиями Гефтера о новой России и катастрофе выхода из холодной войны: провал попытки он распознал еще в середине 90-х. Человечество кончилось, а постчеловечество не дается. Ослепительная скорость финала всех отбрасывает к какому-то переначатию. И зачем отсчитывать тысячелетия от той Голгофы существу, которому она вновь предстоит?
Россия лишь место промежутка. Место, где человек вдруг догадался о том, что с ним случилось, и пугливо отвернулся от будущего – не исключено, что зря.
Этим томиком завершается публикация моих разговоров с Михаилом Яковлевичем Гефтером в конце 80–90-х годов[1]. Он отличается от ранее опубликованных мною книг[2], хотя в основе и тут записи «устного Гефтера», а не его тексты. Но я позволил себе освободить записи от диалогических излишеств беседы, отобрав фрагменты, трактующие собственное видение Гефтером истории русской и человеческой. При этом я, как правило, удалял свои запальчивые наскоки (20 лет спустя мне их и самому бывает стыдно читать).
Во втором томе я надеюсь развернуть свои мысли о Гефтере, здесь же скажу лишь то, что стоит учесть читателю. Моя цель была в том, чтобы собрать и систематизировать взгляды Гефтера на русскую и мировую историю. Но едва лишнее было удалено, как выяснилось, что оставшееся не собрать в монолог «истории по Гефтеру». Тогда я просто перестал мешать этим фрагментам быть тем, что они есть – коллекцией рассуждений, тематически рассортированной. Мои вопросы сокращены и оставлены там, где этого требует форма ответа. Книга в целом от этого приняла вид большого интервью.
Читатель найдет внутри только три сравнительно полных фрагмента гефтеровского разговора – в начале (октябрь 1994-го), в середине (август 1991-го) и в конце (февраль 1995-го, за неделю до смерти). Они оставлены, чтобы показать сложное движение внутреннего диалога Гефтера на самых острых сломах перспективы. Предчувствия его, казавшиеся даже мне темными и чрезмерными, сегодня оправдались чересчур.
Гефтер ценил свои тексты, а не свои речи. Он всегда что-нибудь писал на бумаге, эти блокнотики ждут публикации. Но для меня вход в его мысли почти всегда пролегал через разговор с ним. Эта книга лишь пролегомены к его текстам. Она не претендует на большее, чем дать будущему читателю мотив обратиться с письменным Гефтером прилежней, чем сумел я. Мотив и, возможно, ключи.
Автор выражает глубокую признательность венскому институту Institut fr die Wissen-schaften vom Menschen за предоставленные для работы покой, безответственность и библиотеку. Разговор с ректором и создателем IWM профессором Кшыштофом Михальским (ныне, увы, покойным) об апокалиптической метрике исторического времени был важен для уяснения мной ряда темных мест Гефтера. И только в Вене я мог решиться на дело, столь запоздалое и преждевременное одновременно.
Глеб Павловский,Москва, 7 ноября 2014 г.
Рассказ о моих пяти жизнях в ночь на 5 октября 1993 года
Я могу сказать, что прожил несколько жизней. И от каждой из жизней осталось ощущение, что это жизнь человека, с которым я просто хорошо знаком и знаю о нем несколько больше, чем все остальные. Таково мое свойство характера.
Сначала был провинциальный мальчик из Симферополя. Мальчик, у которого детство прошло без отца, но были мама и любимая бабушка, очень важный человек в моей жизни. Бабушка – уроженка Херсона. Ее мать рано умерла, и она как старшая дочь осталась главой семьи. Отец был рабочим на бойне. Ее выдали замуж за пожилого человека – вдовца, просветителя, устроителя еврейских школ. У моего дедушки довольно известные дети, среди которых особенно знаменит одесский юрист Герман Блюменфельд.
Роль бабушки в моей жизни не связана с религиозными или чисто еврейскими веяниями. Около меня всегда было доброе без сентиментальности существо, хорошо меня понимавшее и не стремившееся командовать. С детства обделенный тем, что есть у детей в смысле материального достатка, я чувствовал себя свободным и хорошо защищенным.
Бабушка первой приобщила меня к истории. Любимым рассказом детства была ее история о еврейских погромах в Одессе. Каждый раз, когда я просил, ее рассказ повторялся, и я уже знал, что будет дальше. С замиранием сердца ждал момента, когда погромщики приближаются к дому – пьяные физиономии, страшные уличные сцены, вопли, судорожное ожидание и кульминационный момент – с двух сторон дома выходят знаменитые одесские самооборонщики! Их звали аиды-самооборонщики. Они в упор стреляют в погромную толпу, та рассеивается. История впервые вошла ко мне с этим рассказом.
То были 1920-е годы. Мы были открыты совершающемуся и легко входили в новую жизнь по ее самоочевидным законам. Мы были послереволюционные дети, и революция в Крыму еще не стала вчерашним днем. Она жила в людях, в рассказах, в легендах. Вместе с тем она стала бесспорной самоочевидностью и формировала такое же отношение к жизни.
Крым – земля интернациональная. В 1920-е годы там жили немцы, болгары, татары, евреи, русские, греки, украинцы. Национального момента как значимой темы в моем детстве не было. Естественным с детства был интернационализм, который позднее так же естественно перешел у меня в космополитизм. У меня не было никакого ощущения железного занавеса – были мы, и был другой, старый мир. Но и другой мир так же реально присутствовал в моей и общей жизни. Мир был дома.
В школе я был активист. Меня рано повело в эту сторону – активный пионер, комсомолец, член президиума Крымского областного бюро пионеров. Жизнь не состояла только из Сталина и моей бабушки. Моей средой стали директора школ, секретари комсомольских организаций, горкома и райкома. Сомнений у такого мальчика, как я, быть не могло. Но парадоксальное явление: этот мальчик в силу того, что не сомневался, позволял себе говорить вслух все, что думает.
– И что думал мальчик?[3]
– Мальчик славился тем, что дерзит. Мы же строили социализм, где такие мальчики, как он, могут говорить вслух все, о чем думают. Дерзкий мальчик написал письмо Постышеву, жалуясь, что местные власти неправильно обходятся со школой, где я учился. Постышев ответил мне письмом. Секретарь партячейки гороно выговаривала директору школы: «Гефтер у вас троцкист!» – а мы лишь смеялись. Мальчику везло – моя дерзость ни разу не была жестоко наказана, хотя неприятные случаи бывали.
На рубеже школы мальчик перенес тяжелую болезнь, неясно какую, после думали – энцефалит. Это отразилось на его сознании – открылись вещи, о которых до этого не слышал. Мальчик открыл для себя Пушкина, и, когда ему было очень плохо, скрывая болезнь от мамы и бабушки, он плакал, читая Пушкина. Мальчик менялся, но к политике это почти не имело отношения.
Проболел с 1935 по 1936 год, был пионервожатым в детском костнотуберкулезном санатории. В 1936 году мальчик из Симферополя едет в Москву в университет и в поезде читает про расстрельный процесс Зиновьева и Каменева. Мальчик едет с открытой душой учиться истории, а страница истории тем временем для него уже перевернулась.
Московский университет – тогда еще не имени Михаила Ломоносова, а имени историка Михаила Покровского. Мальчик попал на истфак, где деканом-основателем был Фридлянд – автор известнейших книг о Марате. Поскольку Фридлянд занимался Французской революцией эпохи террора, в 1937 году его самого сделали «террористом». Из окна своего кабинета на улице Герцена он якобы собирался метнуть бомбу и попасть в Сталина, в чем сам «сознался» на суде.
Первые мои месяцы на истфаке были наполнены тем, что до часу ночи шли комсомольские собрания – студентов осуждают за то, что вовремя не разоблачили родителей. Когда в Москве арестовали моего дядю, и я едва не был исключен из комсомола. Мне объявили строгий выговор с предупреждением со стандартной формулировкой: «за утрату бдительности, выразившейся в неразоблачении дяди, врага народа». Но мальчика любили и в комсомоле оставили – мальчику опять повезло.
Мальчик тогда думал так: всех арестовали правильно… кроме моего друга Жени Мельничанского! Все правильно… кроме моего Муси Гинзбурга! Когда Женю Мельничанского обсуждали на комсомольском собрании, мы ему сказали: «Молчи, говорить будем мы». Но Женя сознался, что был однажды у Томского на елке. Отец его, крупный профсоюзный деятель в Штатах, вернулся в СССР и был казнен. В «Кратком курсе истории ВКП(б)» есть фраза: «разложившаяся профсоюзная верхушка – Томский, Догадов, Мельничанский и другие». Так что Женя был из проклятой семьи – странный, глухой и очень наивный. Но его самого смерть в 1937-м обошла – Евгения Мельничанского, учителя истории из Ижевска, где он проработал всю свою жизнь и недавно умер.
Вот такие мы были мальчики. И защищали, и возражали, и иногда даже некоторым из нас это сходило с рук. Я вправе сказать, что мальчик Миша Гефтер учился на истфаке в неплохое для него время Курс был замечательный. Почти не было рабфаковцев и «парттысячников» – курс мальчиков и девочек, только окончивших советские десятилетки, медалистов. Поначалу на курсе столичные задирали нос, но вскоре утвердились мы, провинциалы.
Мальчик был комсомольский деятель, изучал историю революций, но за ним водились странности. Так, будучи атеистом, я ожесточенно спорил в общежитии о том, что Христос – реальное историческое лицо. У мальчика был свой взгляд на русскую историю. Когда только пошла патриотическая волна, мальчик редактировал студенческий научный бюллетень, где подвергал зубодробительной критике «Александра Невского» Эйзенштейна и подобные вещи.
Но вот пришел 1939-й, памятный год в жизни мальчика. Миша Гефтер – общественный деятель, сталинский стипендиат. Его кормит советская власть, он любимец тоталитарного строя. Как вдруг в августе 1939-го СССР вступает в пакт с Гитлером – страшное событие в жизни мальчика! Плохие события почему-то случались вокруг моего дня рождения, в конце августа.
До этого один эпизод в самом детстве впервые заронил страх в мою душу – у дома напротив ночью убивали человека. А в Крыму на окнах ставни, и по ночам их наглухо закрывают. Человек бился в запертые ставни, ему не открыли. Выбежав утром с мальчишками, я увидел на стекле отпечаток кровавой ладони. С этого времени мальчик познал страх. Страх вошел в его жизнь, и всю остальную часть жизни он станет ему противиться.
Пакт 1939-го тоже обернулся страхом – мальчик испугался, что потеряет веру в этот родной ему антифашистский строй. В общежитии мы до утра спорили, даже переставали разговаривать друг с другом из-за проклятого пакта. Возникло новое отношение к сражающейся Англии. Для мальчика сопротивление Англии стало великим событием его личной жизни. Тогда, в 1940 году, я последний раз был дома в Крыму и в последний раз видел живыми свою маму и свою бабушку.
Вторая жизнь закончилась прологом сомнения – страхом потерять веру. Я произнес антифашистскую речь на комсомольском собрании в «Коммунистической аудитории» факультета, где читал лекции сам Василий Иосифович Ключевский, и меня проводили овациями. Я вслух говорил антифашистские резкости – меня не тронули и не посадили, а ведь шел сороковой год. Так что дети тоталитарного режима бывали разными.
В 1941-м началась третья жизнь мальчика – война, где мальчики уже не мальчики. В двадцать три года я стал командиром студенческого батальона МГУ на строительстве оборонительных сооружений вдоль линии фронта. Принимал самостоятельные решения, впервые головой отвечал за жизнь товарищей. Никакого особенного героизма не было, но вроде справлялся. И тут на том направлении, где мы стояли, началось главное немецкое наступление на Москву. Я имел грузовик и, вывозя своих, по глупости попал к немцам в руки. Всего на час, но и это стало событием в жизни для мальчика.
Вот юноша Гефтер стоит на шоссе, 4 октября 1941 года, машина забарахлила. Смоленская область, ясный голубой день после двух дней бомбежки. Он стоит на шоссе, а навстречу по обочине бредет красноармеец. Я спрашиваю его: «Что там такое?» – «В лесу уже немецкие танки». А я ему, каюсь, не поверил! Это теперь навсегда в моей жизни – голубое небо, полная тишина, а в леске напротив – вражеские танки. Так я стал понимать, что в истории все может случиться, особенно с теми, кто верит, не смея сомневаться. На своем грузовичке я и попал к немцам в лапы, но сбежал, успешно перепрыгнув кювет. В чей-то дом, к счастью для меня, не пустили хозяева, и я с остальными, со своим лучшим другом, который позже погиб на фронте, пешком дошел до Малоярославца. Здесь я остался один и уехал в Москву за пятнадцать минут до сдачи Малоярославца. В Москву прибыл знаменитой ночью на 16 октября 1941 года – дня паники, эвакуации и бегства начальства из столицы. При обороне Москвы записывал в блокнот свою первую философию истории, считая, что здесь под Москвой решается судьба рода человеческого.
Изменился ли я? Мои перемены теперь носили, как принято выражаться, экзистенциальный характер – для них требовалось личное страдание. Попал к немцам, ушел от немцев – это еще не страдание. Страданием было, когда мы с другом, идя от Малоярославца, впервые увидели в небе наш самолет с красными звездами: мой друг плакал – а я нет. Вот что было страданием.
Война для меня из-за тяжелых ранений в августе 1942-го оказалась недолгой. Мучительных воспоминаний немного, вот два штришка. Первый. 1941 год, мы уходим от немцев, те идут по пятам – деревня, высоко стоящий дом. Я, мой друг Валя Вайсман с каким-то майором выходим из окружения. Навсегда запомнил фразу майора. Он был кадровый военный и мне сказал: «Ты думаешь, это Гитлер на нас идет? На нас тридцать седьмой год идет!» А мне нечего было ему ответить.
Еще одно воспоминание, из самых страшных – бомбежка госпиталя. Наша палата большая, люди без рук, без ног, а то и без того и другого. Рано утром началась бомбежка. Представьте людей, которые с трудом сбрасывают себя с коек и, ампутированные, ползут по полу. Мы накрывались простынями от кусков летящего стекла, а у окна – лицом к нам! – медсестричка, которая ничем не может помочь.
Моя война кончилась. В 1943 году был списан из армии по тяжелому ранению, вернулся к истории. Потерял близких – их всех расстреляли немцы в Симферополе, уничтожая крымских евреев.
Молодой Гефтер растерян. Он знал, что теперь должна начаться новая жизнь, но любимый друг погиб, погибли родные и почти все друзья. Он не знал, как сложится его жизнь, и чувствовал себя одиноким, хотя до этого ему казалось, что он знает все. Жизнь надо было устраивать самому. Внешне я был тем, чем и раньше, – активистом, теперь партийным. Работал в ЦК комсомола, из-за ранения часто и много болел. Впервые серьезно занялся историей в аспирантуре, где стал учиться думать, хотя внешне это было не очень заметно. Я чувствовал тяготение к актуальным темам, но появилось нежелание писать в диссертации обо всем, что лично меня глубоко задевает. Пришлось перейти на экономическую историю.
Я учился в аспирантуре, когда написал письмо Сталину о том, что Вознесенский в своей знаменитой книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» не прав, когда писал, что Вторая мировая война стала справедливой только в 1941 году. Я считал, что война стала справедливой в силу сопротивления поляков и англичан Гитлеру. Меня выгнали из института, имела значение и пятая графа, но мне опять повезло – я понравился работнику ЦК, которому поручили объяснить мне мои ошибки.
Этот человек вызвал меня и долго объяснял, что я абсолютно не прав, что у англичан буржуазный строй и т. д. Но ему я понравился, хотя он жаловался, как меня трудно переубедить. Он вскоре умер, хороший был человек. По его звонку меня взяли на работу в Институт истории.
Начались плохие вещи, по отношению к которым следовало самоопределиться. Понимание пришло не сразу, и тут Гефтер иногда выглядел не лучшим образом. «Борьба с космополитизмом» была вещью жестокой – можно было пропасть, а можно подняться наверх. С войны мы вернулись военным поколением – поредевшим и с большими утратами, но сильным. Сталину удалось превратить поколение победителей в расколотую на части, атомизированную массу. Впервые нас так грубо, резко и успешно поделили по национальному и иным признакам. Связанным с жизнью, карьерой, покорностью и т. д. Такие вещи не проходят даром. Моя боль выражалась не столько в переоценке строя, сколько в несогласии и сильном, глубоком страдании от того, как мы себя выдали на моральное растерзание. Могут сказать, что это от того, что я еврей, – нет, только отчасти. До моего еврейства дело тогда не дошло. Уже умер Сталин, а я еще каждую ночь просыпался от стука в дверь, хотя Сталина не было.
Не думай, что я обрадовался, когда Сталин умер. Не помню точно, но, вероятно, я плакал и, во всяком случае, сильно переживал. Страданиями я менялся. Вероятно, стал другим и шел к чему-то, чего еще не знал. Это какая по счету жизнь – уже третья? Где-то здесь она обрывается.
Для моих ранений и моей контузии я слишком трудно жил. Один умный доктор сказал мне: «Человек, который так живет после такого ранения, долго не проживет». Его прогноз немножко не оправдался, хотя в 1956 году я заболел настолько, что ощутил себя смертником. Три года почти не мог работать, практически я не жил. На карачках доползал до письменного стола.
Заболел я на почве оскорбления. Оттого что сам, опоздав освободиться, когда с ХХ съездом освобождение пришло сверху, я его не принял. Я по сей день не приемлю свободы, приходящей извне. Постепенно во мне начались некоторые умственные подвижки, и я стал одним из главных действующих лиц в проекте большой советской «Всемирной истории». Тогда началась моя четвертая жизнь.
Теперь ко мне долго благоволили. Я добился от ЦК официальной реабилитации народничества и так далее и тому подобное. Работа над «Всемирной историей» была важна. Я вдруг обнаружил, что не могу как марксист увязать воедино истории разных стран и народов. Что-то опять передумывалось, и страдание опять ворвалось в мысль. Каким был итог? Итог был тот, что надо говорить вслух то, что думаешь. Теперь этот не очень молодой человек Михаил Гефтер знал, что может сильно пострадать, но уже не мог иначе. Что-то начало сопротивляться тому, чтобы жить как живется.
В Институте истории я вел сектор методологии истории. Идея, которой я заслужил пристальное внимание Лубянки и будущее изгойство, сегодня звучит банально: новое прочтение марксизма. За мной обнаружился страшный грех отрицания исторического материализма, истмата. Я утверждал публично и вел сектор на основе принципа, что теории истории вне исследования истории нет и не может быть. Что «общие законы», для которых история, творимая и влекущая людей, является лишь иллюстрацией, – это отмена исторической науки. И я твердил, что нельзя остаться на почве знания и понимания, не рассмотрев открытыми глазами все, что пережил коммунизм после Октября и во времена Сталина. Сталин неслучаен для коммунизма, утверждал я.
Так я стал инакомыслящим. Но инакомыслящий заведовал сектором методологии Института истории АН СССР! Быть инакомыслящим в фаворе – очень странная роль. Я был членом редакции первого тома «Истории КПСС», и академик Поспелов говорил: «У меня ни разу в жизни голова не болела, но когда я говорю с вами, у меня раскалывается голова!» Инакомыслящий в фаворе, легитимный диссидент – странная, нестойкая помесь. Сказавши «а», надо было идти к «б» – иначе заболеешь и снова рухнешь на больничную койку.
Руководя коллективом историков, я отказался от задания написать историю Октябрьской революции – на том основании, что при нынешнем уровне знаний в рамках марксизма ее написать нельзя. Начинался коллективный поединок Института истории АН СССР с отделом науки ЦК КПСС – противостояние внутри системы, равного которому в СССР 1960-х годов не было. Целый академический коллектив открыто противостоял Кремлю и всевластной тогда Старой площади. Кончилось тем, что нас примерно наказали – Институт истории разбили надвое, и он с тех пор нелепо разбит на «всеобщую историю» и «российскую».
Шел 1970 год. В этой четвертой жизни – мой биографический взлет, мой звездный час. Такого коллектива, как сектор методологии, и того дыхания, что было у Института истории в те времена, потом в русской исторической науке не было и нет по сей день. Это большое счастье, хотя в то время я был уже очень больной человек, почти инвалид.
Последней акцией моего сектора стал сборник о Ленине, рассыпанный в верстке. В нем – моя статья, послужившая окончательным поводом к отлучению от советской науки. Эпиграф из Пастернака сочли по меньшей мере неуместным. «Он управлял теченьем мыслей, и только потому – страной». Сказали, что так писать о Ленине бестактно, а статья, хоть и осталась ими непонятой, была сочтена ревизионизмом. Один важный на Старой площади человек, который мне до этого покровительствовал, Анатолий Черняев, сказал: «Михаил Яковлевич! Это уже не новое прочтение марксизма – это ваше!» И после этого на годы забыл мой адрес и телефон.
Я не входил в партбюро Института, но достаточно влиял. Имел несчастье первым выступить с публичной критикой заведующего отделом науки ЦК Сергея Трапезникова. За мной уже числилось и много другого. Я единственный человек в СССР, которому партбилет при всесоюзном обмене вручили в последний день. Требовали, чтобы я признал ошибки – какие угодно! Мне предоставлена была великая советская льгота – самому придумать свою «ошибку» и ее безопасно признать. Я отказался.
Меня не выкинули из партии, в последний момент дали партбилет. Не выкинули из института, но лишили сектора и права печататься. Однако зарплату платили. И я почувствовал, что все это настолько тягостно, что так можно снова заболеть, как в 1956-м. Четвертая жизнь кончилась тем, что в 1976-м на правах инвалида войны я ушел из института на пенсию. Уйдя, я стал, с одной стороны, свободным пенсионером, с другой – бедняком и преследуемым человеком. Я принял участие в двух последних больших самиздатских проектах – журналах «Поиски» и «Память». Стал диссидентом уже по всей тогдашней форме – с обысками, с арестами друзей.
В 1982 году вышел из КПСС, но очень скромно, без всяких заявлений о противостоянии. Написал короткое заявление, что в соответствии с Уставом партии, предусматривающим добровольное вступление, а стало быть, и добровольный выход, прошу с такого-то числа не считать меня членом КПСС. Ранее я этого не делал лишь потому, что не желал ставить бывших коллег в скверное положение, когда им пришлось бы голосовать за мое изгнание из партии.
К тому времени арестовали всех моих молодых друзей. Валерий Абрамкин, Виктор Сокирко и Глеб Павловский из «Поисков». Сеня Рогинский из редакции «Память». Я решил поставить точки над i и отправил письмо генеральному прокурору с требованием освобождения политзаключенных.
Итак, я перешел в свою пятую жизнь. Я не стал антисоветским, вообще приставка «анти» меня оскорбляет. «Анти» – это мордобой, я в таком не участвую. Я стал собою, перестав писать, как раньше писал. Моей профессией в истории становятся вопросы без ответа.
Можно прочитать у Черняева о том, как реагировал Горбачев, когда они вместе читали мое письмо об освобождении политзаключенных. Говорят, оно сыграло некую роль, и я этому счастлив, но думаю, главную роль сыграла смерть Анатолия Марченко. Он несколько месяцев голодал в Чистопольской тюрьме и там умер от голодовки. Наверное, Горбачеву объяснили, что Сахаров такого не перенесет, объявит очередную голодовку и на этот раз, вероятней всего, тоже умрет. Когда вернувшийся Андрей Дмитриевич прочел мое письмо к Горбачеву на эту тему, он сказал: «Ну, лед тронулся».
– Какая эволюция шла в твоем политическом мировоззрении и настроениях периода перестройки?
– До 1987 года внешних перемен в моей жизни нет. Без работы, без денег, без публикаций – только одна сторона, и не самая важная. Зато теперь я думал сам.
Поначалу перестройка мне не понравилась. Мне казалось, что все должно происходить иначе. Моя программа была короткой. Первое – немедленно вернуть всех диссидентов их семьям. Второе – выпускать из СССР желающих и обратно впускать. Третье – дать думающим людям печататься независимо. Вот и вся моя тогдашняя программа. Меня не увлекали ни «ускорение», ни «борьба с алкоголизмом». Но мне понравилось, что у Горбачева есть помощник Толя Черняев, которого, если про мужчину так можно сказать, я любил. Он и правда хороший парень.
В 1987 году, когда вернулся из ссылки Глеб Павловский, мы сделали мое интервью в журнале «Век ХХ и мир» под заголовком «Надо ли нас бояться», на котором цензор написал: «Автор считает, вероятно, что надо?» А председатель КГБ Чебриков по поводу этой публикации написал специальное письмо Горбачеву, чтобы тот обратил внимание на вредную статью. (Потом для сборника «Иное не дано» я интервью расширил под названием «Сталин умер вчера».)
Ничего этого я тогда не знал, потому что сам – умирал, у меня был инфаркт. В тот момент пришел мой смертный час, я стал умирать, но благодаря врачу, которого упомянул бы в любой биографии, остался жив. Началась та жизнь, которая идет и по сей день. Жизнь, в которой я пришел к другим идеям и мне все видится в несколько ином свете.
– В ином свете видится и марксизм?
– С Марксом у меня общий предмет – человечество. Я свой предмет в окно не швырял. А кто вышвырнул, думаю, себя обеднил.
Когда мой сектор закрывали, а я отказался писать челобитную в ЦК, чтобы чуть продлить его существование, я уже знал: если хочешь быть независимым человеком, за это надо платить. И в диссидентские времена я знал, что, если я в общем ряду диссидентов, это не означает согласия с каждым. Ныне я утвердился в своем праве и возможности быть аутсайдером. Полагаю, малые группы людей нужны нашему роду, чтобы остаться родом человеческим. И аутсайдеры показаны мысли, чтобы та оставалась мыслящей. Я не избирал себе амплуа, просто иначе я не могу. В данный момент я переживаю сильный внутренний кризис – то ли зажился, то ли еще раз пора все начинать с начала? Я не сторонник клоунад и политических фраз ради фраз, но у меня есть чувство ответственности и за то, к чему я не причастен. Какая-то моя жизнь кончилась в ночь с 4 на 5 октября 1993 года. Стреляли не в меня, а попали в меня, человека и историка. Кое-что теперь я должен выговаривать иначе. А может быть, и иначе думать.
Часть 1. Теология исторического и ее политика
1. Саморастворение в истории. Мышление вопросами без ответа.
– Читателю трудно примириться с твоими текстами, где суждения историка всегда так переплетены с суждениями о себе и личными воспоминаниями.
– Иногда должно пойти путем, который самому кажется научно незаконным, индивидуалистичным и субъективным. Некий человек я, определенным образом формируясь, вложился до саморастворения в некоторый мир. Мир стал рушиться с легкостью, оскорбительной для саморастворенного в нем существа. Существа, которое принимало все, и ужасное этого Мира, касавшееся самых близких, как цену чего-то абсолютно необходимого всем. Как частность исторического масштаба.
Этим он поощрял себя к поступкам, которые, вообще говоря, имели бы для него плохие последствия; но саморастворение охраняло. Потом вдруг обвал, катастрофа. И катастрофа эта – легковесных отречений, которые видятся ему мнимыми. Происходящее с собой естественно вписано в тот же масштаб, что прежняя самовключенность, и в объяснениях уже нельзя ограничиться чем-то банальным. Он вынужден идти дальше и дальше – пока не дойдет до пределов Мира, в котором действует Homo historicus и который этот Homo создал.
Мир рушится, и это возвращает мою мысль к Миру, где человек явился впервые. Миру, который создал его и который им создавался.
Разве это личная трудность? Разве это лишь частное крушение при общем крушении обанкроченной жизни, перед тем еще и опозоренной гнусностями системы? Или это глобальное возмущение, в универсальности которого у меня нет сомнений?
Я долго не умел называть вещи их именами. Путался, искал ответ в пределах речи, которой говорил, – не замечая, что язык мой начал меняться и я уже не смогу писать по-прежнему. Тогда я начинаю импровизированно и все упорней писать иначе. Что по совпадению обстоятельств 1950–1960-х годов – «Всемирная история», сектор методологии Института истории АН СССР и так далее и тому подобное – привело к тому, что у меня меняется весь взгляд на историю. Поначалу еще недотягивая до взгляда на существо истории человека, но в нем начинают главенствовать образы исторических отклонений, все эти евразийские кентавры, Атлантиды Платона и декабристов, Россия Маркса и Ленина.
Вот моя мыслительная ситуация, как я теперь ее знаю. В чем истинная трудность? В том, что, получив первые ответы, я поначалу затвердился в них и стал их исповедовать, наставлять, в силу этого стал повторяться.
В сущности, застрял я на вопросах без ответа. Они, знаешь ли, странная штука. Не в том застревание, что, мол, пора бы на них и ответить. Нет – пора поставить вопрос о природе вопросов без ответа. Вышел ли я из этих занимающих мое любопытство трудностей, когда начал мыслить вопросами без ответа? Или, шагнув в эту сторону, я еще раз застрял?
2. Коллективное прозрение, освобождение сверху и исчерпание истории.
– Суждение из средневековой еврейской каббалистики, не помню чье, – что зла вообще нет, зло – это невостребованное добро. В оболочке зла добро действует как невостребованное. И мое личное чувство исчерпания истории, ее финальности возникло очень личным путем и было связано с тяжкой болезнью, пережитой в конце 1950-х годов.
– Она кончилась для тебя лично, или ты познал ее как оканчивающуюся?
– Я уже не мог от этого уйти. Это стало наваждением, я все теперь видел в свете окончания истории.
– А откуда вообще у тебя явилась идея финала истории? Когда мы встретились в 1970 году, она уже была, и на ней мы легко сошлись. Из Гегеля или от Маркса «коммунизм есть решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение»?
– Нет, от сознания интеллектуальной катастрофы. Катастрофа заключалась в том, как же я не разглядел того, что было на виду и в чем участвовал? Как мог я отдаться тому, чему нормальному человеку отдаваться нельзя? А раз отдавался, то обязан теперь себе объяснить, в силу чего? Что повело меня к этому – карьеризм или страх? Или сложная смесь нескольких интеллектуальных страстей?
Но еще сильней было отвращение к современникам, которое я скрывал. Откуда такой соматический срыв? Потому что я не смел поддаться чувству искреннего отвращения, которое во мне рвалось наружу. Отвращения к тому, как советские люди торопились коллективно прозреть. Я не выпускал неприязни наружу, я с ней боролся и надорвался в борьбе. Все во мне клокотало против этого облагодетельствования освобождением! А ведь, казалось бы, все шло навстречу, даже лично – реабилитация любимого дяди… Все было так комфортабельно, но над всем довлело уже нечто бедственное. Начавшая рушиться сталинская система виделась мне столь масштабной, жуткой и столь глобальной, что я отверг спущенное сверху и раздаваемое по мелочи освобождение. Даже в тех случаях, где оно действительно было освобождением, я предчувствовал неопознанный нами обман. Западню, куда мы поспешим провалиться. Но я не давал этим мыслям выйти наружу, еще и боролся с ними в себе, пытаясь одолеть. И мой контуженный мозг, мои ржевские раны не выдержали.
Почему я отказывал «коллективному прозрению»? Ведь на отказе теперь свихнулся сам автор термина, Юрий Власов. Так же свихнулся тогда и я, но иначе. Мне казалось, что я не смею более существовать как человек, если цепь мировых событий, где восставали и гибли люди, открывались горизонты слва и преображались континенты – где вмиг погибло мое поколение! – все это уходит, как пустая бессмыслица. Мне не жаль было уходящего, это глупо. Я не испытывал тоски по прошлому. Я испытывал чувство двоякого оскорбления: ничтожеством своей втянутости и еще больше – дешевизной освобождения сверху.
Ошибкой было бороться с этими переживаниями, не дать им выйти наружу – и они вышли страшной болезнью. Только болезнью я узнал о нас нечто новое. Когда три человека в Беловежской пуще отменяют Советский Союз, я это прямо ввожу в то, что кончилось нечто тысячелетнее – Землю оставила идея человечества как вневидового родства людей. Идея покидает мир вот таким именно образом: покидая, не уходит, – но творит комиксы Беловежья, с куклами старосоветских персонажей и иные сложные мистификации Homo sapiens.
3. О времени, параллельном мире и немотивированности человека. Будущее прошлого.
– Разве история – это «все, что менялось во времени»? И есть история Млечного пути, история амебы? Нет. В строгом смысле, история бытует в единственном числе – всемирная история однократна. С условно иудеохристианского рубежа, в его сложной связи с азиатскими очагами, история строилась как проект человечеств. Проект столько всего дал людям, но оказался неосуществим, ведь в зародыше его – утопия. Вневидовое родство людей не состоялось в виде человечества, хотя и не исключает далее других видов осуществления. В этом драматизм переживаемого момента.
Человек ведет большую, незримую и опасную игру в прошлое (в которое люди не могут не играть). Ставка в игре – встреча, не более. Не думайте добиться большего – это максимум, это идеал! Все, что нам нужно, – встретиться с прошлым, но только не влезайте в него! Не пытайтесь заместить своим резонерством, судом и убогими поучениями жизнь ушедших людей – она сильней вашей. Прошлое сильнее всех вас, живущих.
Существенные моменты, разъясняющие места преткновения историка, – немотивированное появление человека думающего; необъяснимое появление речи; непонятное разбегание людей по лику и лону Земли.
Когда мы эти три вещи сопоставляем, мы обнаруживаем связь между тем, что люди, заговорив, обрели странное свойство – длящегося и не имеющего пределов понимания. Речь сняла предел понимания. Понимание делается бесконечно варьируемым, углубляемым, но и бесконечно затрудненным для себя самого. Воспроизводящим пороговые трудности, рубежи, до которых понимания не было, – здесь вам не плавное течение мысли.
Внезапность появления кроманьонца, человека, совершенно ничем от нас не отличающегося. А физически даже в лучшую сравнительно с нами сторону. Мы, видимо, потеряли и продолжаем терять многое из того, что он умел и что соответствовало тому, каким он создался. Его появление не выводится из предшественников целиком, а значит, вообще никак не выводится. Это я связываю с речью, по отношению к которой определенно известно нечто негативное – что та принципиально отлична от всех видов коммуникации любой сложности. Это, кстати сказать, сегодня подтверждается тем, как перегруженно-интенсивная, перенасыщенная глобальная коммуникация отупляет человеческое понимание. Разрушая изнутри самоё речь, она начинает мешать выживанию Homo.
Если все эти моменты рассмотреть вместе, они неизбежно приобретают вид одномоментного происхождения человеческого существа. Разумеется, оно имело свои прологи, преддверие, свой генезис, и все было где-то увязано с временем. С этой точки зрения идея Achsenzeit (осевого времени. – Г. П.) у Ясперса интересна ничуть не его конкретными приложениями, а увязанностью прачеловека с временем.
Возникает мысль: а что, собственно, собой представляет история? По отношению к тому бытию человека – уже человека! – которое было еще доисторическим, предысторическим и протоисторическим? И которое также ни из чего не выводимо. Я уж не говорю – несводимо, это само собой, но и не выводимо прямо из предшествующего состояния. Какую бы роль ни сыграли так называемые «случайности» (а те занимают в истории грандиозное место, требуя ввести их в самый предмет исторического), история немыслима вне осознания. Она немыслима вне таких созданных человеком мыслительных конструкций, как прошлое и будущее. Потому что прошлое и будущее с точки зрения их временного протекания не сводимы к физикалистскому времени макромира.
В сущности, есть три времени: время макромира, с его размеренно-календарным протеканием времени; скажем, «тривиальное время». Есть микромир, где все приобретает световые скорости. И есть мир человеческой мысли, трактуемый мной как припоминание. За невозможностью по-другому представить его движение, при негодности для этого таких слов, как озарение, наития или сны. Вообще говоря, человеческий сон – одно из оснований человечности, сопоставимое с речью. И воспоминания во сне играют роль, и сама терминология снов существенна.
Про историю важно знать, что та возникает сама. Прошлое и будущее возникли единожды. Собственно говоря, как бы возникла история, если не возникает то необычное состояние, которое трактуют как состояние прошлого? Как особенную встречу воспоминания, которое вводит нас в то, чего не стало? И в чем смысл будущего, по отношению к которому заранее дано, полагается, что оно в чем-то выше, достойнее того, как человек живет «сегодня».
Будущее не просто то, что предстоит. Будущее – то, что предстоит, выбранное из некогда отбракованного в прошлом, чего не стало и не вернется уже никогда. Из такого модуса будущего и возможно истинное припоминание прошлого.
– Становление системы есть движение от энтропии, от хаоса к какому-то информационному порядку.
– Прости, но суждение о будущем антиэнтропийно всегда. Это преодоление, полагающее само понятие будущего. Ты можешь мыслить будущее как угодно, представляя его в сколь угодно живых, конкретных образах! На игре в это построена масса вещей, и без нее, кстати, невозможна идеология.
При мышлении будущего само течение времени реально меняется. Когда задумаешься о том, что предстоит, время уже не протекает так, как оно протекало. Войдя в себя, вдруг обнаруживаешь, что оно и текло иначе. Инопротекание времени и есть прошлое. Если истории нет, откуда эта принципиальная аритмия времени, откуда его уплотнение? Эти дни, часы или годы, которые по масштабу событий, по необратимости происходящего равны векам. Но что такое историческое событие с этой точки зрения?
В истории дан модус узурпации этого параллельного мира. История – это попытка построить человеческую жизнь, которая не может состоять из одного только сознания и мышления. Она не равна только аэволюционности и вневидовым актам существования. История есть попытка втянуть всю жизнь в акт ее осознавания и сказывания.
С этой точки зрения история возникает единожды. Она однократна. Тогда можно представить, отчего она иссякает в настоящее время. Ведь то, что представлялось высшим для человека – мышление осознавания, принужденное к растворению в повседневности, – неизбежно приобрело зловещие свойства.
Пора посмотреть, что такое вопрос без ответа. И не-церковная идея параллельного мира, которая, впрочем, тесно, интимно соприкасается с теологией. Эта идея не прихоть обстоятельств. В тот момент, когда вопросы без ответа стали связаны с моим существом и моим именем, во мне проснулось еврейское начало в каком-то староеврейском смысле. Светлана Неретина отчасти права, называя мои взгляды исторической эсхатологией, что-то в этом действительно есть. Но как бы мне при этом не оттолкнуть свою идею не конца, но исчерпания истории? Поскольку сама история есть вид узурпации параллельного мира – с переносом его скоростей во внешнее действие и с попытками универсального овнешнения.
Мое любимое место из гегелевского «Введения» в его «Философию истории» о хитрости абсолютного разума, ты ведь его помнишь, правда? Если этот абсолютный дух – в котором нет начала, поскольку он уже есть, и его дело в том, что он движется к себе-имеющемуся, от полноты, которой недостает рефлексии, чтобы полнота стала человеком – осознанно, принято, – чего недостает? И когда Дух овнешняется, он застревает в человеческой истории и не может освободиться из застревания вне людского содействия, которое по природе человека – природе, именуемой страстью, – не может не быть избыточным, а избыточному нельзя не стать падением, самопокаранием за избыточность!
И как тогда звучат эти последние строчки из «Феноменологии духа»? Когда абсолютный Дух возвращается уже к себе после всей своей одиссеи, после своего трудного путешествия. Он возвращается к себе, уже равнопринятому, равнораскрытому рефлексией и отождествленному в соответствующей этому форме человеческого устройства жизни. Он не может не оглянуться назад, и это воспоминание есть его Голгофа, без которой не могло быть его полноты.
Место знаменитое, хрестоматийное, и никакой заслуги в том, что оно сразу засело в моем сознании, нет, но оно стало очень личным. Мистика этих слов меня всегда увлекала. Именно в 1950-е годы, годы десталинизации, для меня очень личным стало овнешнение, застревание, эта страсть покарания. Это и есть историческая теология. Поскольку, если человек узурпирует и овнешняет параллельный мир, в свете этого можно, наконец, подобрать ключ к иероглифу: будущее прошлого.
– Этот иероглиф твой был для меня всегда особенно труден.
– Будущее прошлого находится в принципиальном несовпадении с двумя банальностями: все, что было, и все, что предстоит. Банальности эти не только не прошлое и не будущее – они им перпендикулярны и просто лживы. Здесь не календарные – здесь другие скорости, другая природа самого времени. Тут иное время самого человека. И тут же размещено то самое, что сопротивляется истории, – человеческая повседневность. Она сопротивляется своей регулярностью. И тут же обитает культура в ее вечном споре с историей. Споре, который пытается вынести повседневность на сцену разыгранных трагедий, а трагедию – в избывание горя без крови и жертв.
4. Публичные девки случайности. Детерминизм и ужас финального результата. Происхождение мужицкого царя. Поражение Ленина и поражение Ганди.
– Ты уже несколько раз обращался к теме случайного – как незаданного, однако задающего ход истории.
– В одном романе есть точный афоризм о случайности: что она такое? Случайности – это публичные девки, но и они гуляют по хорошо известным местам. Отменно! Злачные места предопределенности и роль случаев, которые заводят махину истории, распаляя детерминационную похоть. Отсюда родом все суперперсоны политиков ХХ века.
– Я в восторге от афоризма! А можешь привести пример, как в ХХ веке находят гулящую девку?
– Изволь, известный пример. Едет Ленин в Россию, апрель 1917 года. Едет безумный утопист с установкой делать в России мировую революцию. Он все рассчитал, уже написаны пять «Писем издалека». Он едет в Россию, зная, что его партия не готова, не говоря про остальных. На подъезде к Петрограду спрашивает: время ночное, мы найдем извозчика? Встречающие говорят: «Владимир Ильич, что вы, какие извозчики! Увидите, сколько народа вас ждут!» Биографы не сталкивают между собой эти два факта: Ленин уже знал нечто, ради чего должен переломить всех, начиная с близких товарищей, – но не понимал еще, чем стала жизнь массы людей в России. Он вообразить не может себя через час – на броневике, говорящим речь перед стотысячной толпой!
Вот другой случай. Накануне октябрьских событий Ленин сидит взаперти, скрывается от Временного правительства. Те его настойчиво ищут, а это изолирует его от ЦК. Добравшись до Смольного, он находит там подлинного властелина событий – Льва Давидовича Троцкого. Ночью, когда формировали правительство и придумывали, как называть его членов: министры, комиссары, народные комиссары, – эта бумажка сохранилась – Ленин сказал Троцкому: главой правительства будете вы.
– Тот отказался – вроде по «5-му пункту»?
– У Троцкого вечная отговорка – мне нельзя, я еврей. Таким образом он отказался от Предсовнаркома. Когда назначали председателем Реввоенсовета, он опять было стал возражать: как так – еврей во главе русской армии? Ленин говорит: «Лев Давидович, еще раз такое скажете, и я буду настаивать на исключении вас из партии. Чтобы вы больше этот личный вопрос никогда не поднимали!» Когда Ленин умер, Троцкий если и мог выиграть бой, то только по национальному вопросу, где покойник оставил ему козыри. И опять его остановило, что он как еврей не смеет давать бой великорусскому национализму, даже красному большевистскому. А не ставши на этот путь, Троцкий далее терял все. Говорят: Троцкий не победил, ему Сталин не дал. Да не мог победить Троцкий – он не хотел побеждать!
Итак, вышел Ленин из блокады, а в ЦК готовятся к заседанию 2-го съезда Советов. Гениальна политическая идея Троцкого, соединить съезд с восстанием в Петрограде. По вопросу о земле – это, кстати, еще мы раскопали в нашем секторе – доклад сперва поручают делать Ларину и Милютину. Грех покойников обижать, но я легко представляю этих догматиков, особенно сумасшедшего Ларина. Что они от имени РСДРП(б) предложат мужицкой России? Какие-то совхозы! Но в последний момент появился Ленин, и вопрос о докладчике отпал: о земле вправе выступить только он, это ясно всем. Ленин идет к трибуне – он совершенно не готов! Тогда он просто достает из кармана эсеровский наказ о земле, добавив к нему пару вступительных фраз, его зачитывает – и все! Игра сыграна. Программой большевиков стал наказ мужиков-эсеров – а в Советской России появился мужицкий царь.
Ну а если б Ленин еще день пересидел в подполье и эти двое ортодоксов выступили с национализаторской программой РСДРП(б)? На этом для Ленина и большевиков все бы кончилось. Вот что такое история: встреча несовместимых. Историческое начинается там, где вещи, доселе не совместные, оказываются совмещены! Таинственная вещь, но если этого не понять, не занимайтесь историей.
В момент, когда несовместимое станет совмещено, является харизматический лидер. Человек, который извлек из кармана чужой наказ и объявил его всей России как программу советской власти. Совпадающую с политической монополией большевиков.
– Да, случай красив. Но согласись, что случай чертовски кровав. Махатма Ганди этого не одобрит.
– Но почему? Почему? Ленина и Ганди роднит спонтанность главного хода и немыслимость выбранных средств. Плюс интуиция Мира в рамках локальных задач.
Известнейший случай 1930 года. Индийский национальный конгресс в противоборстве с Англией зашел в тупик – лидеры в тюрьме, мирные средства исчерпаны. Радикалы берут верх, ради независимости прибегая к самым свирепым действиям. Тогда Ганди идет к берегу моря и начинает выпаривать соль. Призвав народ Индии делать то же – не покупать соль и не платить налогов британской короне.
Ганди, нашедший непрямой ослепительный выход из плохой ситуации, подобен Ленину осенью 1917 года. Россия уже перестала существовать. Власть и фронт рушились, мужик на селе озверел и никого не слушал. Ленин, который просто взял наказ о Черном переделе и озаглавил его «Декрет о земле», – чем не Ганди, выпаривающий морскую соль?
Теперь погляди на результат. Разве результат Ганди не страшен? Миллионы убитых в резне, разделившийся Индостан и его собственная гибель разве не доказательства его поражения? Разве финал Ганди не сопоставим с мучительным финалом Ленина, потерявшего власть над ходом вещей, который он начал? Исторический деятель вымеряется не тем, что опередил время, – иногда ему лучше отстать.
В случайный момент он улавливает единственное, немыслимое средство, чтоб двинуть к цели массу слепо возмущенных людей. Обратив слепоту в сообразное их умам действие. В эти минуты лидер воплощает собой историю. Таков Ленин в октябре, таким был Ганди. Но деятель измеряется не только звездными часами, но и в равной мере – поражениями. Опыт поражений – великое наследие людей. И в наследии Ленина для меня наиболее интересен интеллектуальный опыт поражения.
5. Ленин превращает себя в обстоятельство русской истории. Тень Чаадаева.
– Введем понятие исторического деятеля как проблему, позволяющую разъяснить почему Ленин – человек без биографии. С Ленина смыто все личное – это возмездие или законная расплата? Или он сам намеренно загонял личное внутрь, до неузнаваемости и невидимости его? А последующее смыло личность, напрочь и навсегда.
Чтобы восстановить невидимое, надо работать с понятиями «история» и «исторический деятель». Отклоняя то, что исторический деятель производен от истории, а история просто синоним всего, что с людьми бывало. «Ты впущен на прием к случайности, – писал Пастернак в “Спекторском”, – ты будущим подавлен…» Главное тут слово подавлен, понимаешь?
– Полагаю, тебе скажут иначе – Ульянов просто человек, который случаем и стечением обстоятельств попал в центр событий и своей маниакальной сосредоточенностью на власти сумел повлиять на все.
– Дело в том, что Ленин сам обстоятельство. Громадное, сильное и очень стойкое обстоятельство русской истории. Творя обстоятельства, он сам стал обстоятельством, которое надо объяснить. Вот загадка Ленина.
Было нечто, что прошло с ним сквозь всю его жизнь. Назовешь это нечто партией – сегодня прозвучит как ругательство. Назовешь, следуя его выражению, архимедов рычаг – прозвучит напыщенно.
Человек положил себя, свою мысль и свою жизнь на то, чтобы восполнить нечто, чего, как он верил, недостает русской истории, чтобы ей стать универсальной историей и войти в общий ход дел человеческих. В XIX веке про таких говорили: исступленные имманентщики!
Собственно, Владимир Ленин из ряда, который начинается человеком, писавшим лишь по-французски, – Петром Яковлевичем Чаадаевым. Он в ряду людей, которые искали восполнения органического порока русского исторического процесса. Который делал существование России бытием вне истории, а им надо было сделать Россию исторической.
Сквозная мысль, сквозная идея всего русского XIX века. Ленин мог и не знать, от кого он изначально идет, – я не верю, что он толком не знал Чаадаева. Хотя, затвердив и любя Чернышевского, Ленин не мог пройти мимо его статьи «Апология сумасшедшего», где Чаадаев очень подробно изложен.
6. Поступок-событие-бифуркация. Зачем царь Александр пошел навстречу Гриневицкому?
– Нас с тобой занимают люди и то, как поступок, не выводимый из обстоятельств, преобразует не только последующее, но и все ему предшествующее. Вот мания человеческой жизни – она поступком образует свое собственное предшествующее. Зачем человеку так потребен поступок? Он же не только очищает путь к чему-то, что за поступком будет или мнится, что будет.
– Покойный Генрих (Батищев. – Г. П.) сказал бы: человек опредмечивает, овнешняет то, что этому предшествовало…
– Да, но предшествующее само тогда становится обстоятельством. Действуя индетерминистски, человек формирует ультрадетерминистские реальности. Детерминизм – это детище человека. Он его выдумывает, его лепит, его изобретает – и становится пленником того, что сотворил. С Андреем Дмитриевичем, кстати, я сколько ни говорил про это, всякий раз его последнее слово было бифуркация. Таков его взгляд: поступок-событие-бифуркация.
Но как пробиться с этим, когда нынешним либералам так дороги их мистификации?
– Любимейший либеральный миф, будто царя Александра убили в момент, когда он «даровал России Конституцию» и вышел погулять.
– А ведь никакой Конституции там не было. Был граф Лорис-Меликов, который только под давлением народовольцев на Зимний дал гласность печати и приостановил казни. Когда началась лорис-меликовская «диктатура сердца», был перерыв в терроре, объявленный народовольцами. Трудно сказать, сколько бы он еще продлился, потому что у «Народной воли» была своя идея – революция ради конституции. Но тут Лорис-Меликов проявил слабохарактерность. Испугавшись, что в глазах правых выглядит слабым, он опять разрешил казнь народовольца. И этим сам приговорил Александра Второго.
Рысаков кинул бомбу наугад и не глядя – не попал, убил кучера. Царь вышел из кареты. Изображают это в сентиментальных красках: мол, беспокоился о жизни раненых. Ничего подобного, ошеломленный Александр вывалился из коляски и бессмысленно кружил. Полицмейстеры уговаривали ехать во дворец. Схваченный Рысаков бормотал дурацкую фразу вроде «Не вышло, вот и кончилась жизнь». Гриневицкий со второй бомбой стоял у парапета, но сбежались люди, и он не мог ее бросить: толпа народу, царь в толпе. Как вдруг Александр сомнамбулически пошел прямо к нему, сквозь толпу.
Царь подошел к Гриневицкому – зачем? Тот стоял, расслабленно облокотившись о парапет, как Онегин. Масса людей, бросать бомбу уже нельзя. Но когда царь сам подошел к нему абсолютно вплотную, глядя в глаза, он покорился случаю – и уронил бомбу под ноги им обоим. Потрясающе!
Мы не знаем, что далее воспоследует, но мы обязаны сделать то, что продиктовала натура, наш внутренний голос. Тем самым мы создаем одну из возможностей последующего, а прочие закрываем. Мы рабы заданности, творимой нашими спонтанными действиями.
Вернусь к тому, о чем говорил вначале: судьба-жизнь. Судьба, до конца включенная в мыслящее движение. Запертый внутренний мир, внутри которого продолжалась борьба Ленина с самим собой. Когда я все это разглядел, оказалось, что передо мной один из самых великих и страшных русских опытов начинался. Он прямо вводит в наш сегодняшний день. Если мы готовы войти в него сознательно, не рассчитывая на безгрешность и не надеясь остаться безответственными.
Часть 2. Крымский тупик мировой истории. «Красавец-кроманьонец» уходит от смерти
7. Марр и тупики истории. Ранний Мир был не примитивней, а сложней нашего
– Как я впервые ощутил прикосновение к истории? Почти детское воспоминание, крымское, очень сильное и странное. У нас в Симферополе тогда был один только книжный. Если идти от банка вниз по улице Горького, там был магазин «Книги», а в нем знакомая девушка, но не это важно. Я очень его любил. Магазин был затемненный, прохладный, и под стеклом лежали книги. Не полки, а закрытые прилавки со стеклянным верхом, под которым разложены книги. Однажды я увидел под стеклом брошюру в зеленой обложке, издательства «Известия»: Марр «В тупике ли история материальной культуры?» На меня это произвело ошеломляющее впечатление. Как? Разве в нашем советском мире что-то может быть в тупике?
– Ты верил, что тупиков в истории не бывает?
– Конечно! Сам вопрос казался абсурдным, отчего эпизод врезался в память со стереоскопической ясностью; я помню даже освещение места, где лежала книжка. С тех пор вопрос об исторических тупиках вставал передо мной не раз.
– Исторический материализм вообще тупиков с катастрофами не любит. Старый спор прогрессистов с катастрофистами.
– Плюс неистовый Марр, для которого вообще нет миграций – только автохтоны на разных фазах развития.
Марр был кавказовед. Вел знаменитые раскопки в Урарту, древнем армянском царстве. Занимался сравнительным языкознанием и вышел на сопоставление – вот языковые семьи, вот их перемещение – носители языка, перемещаясь, переносят язык с собой. Но однажды он обнаруживает структурное сходство древнегрузинского языка с баскским – и концепция рухнула: какая миграция из Испании в Грузию? Тут его осенило, а был он уже чуть с сумасшедшинкой, – что вообще никаких перемещений нет! А повсюду идет трансформация человеческой речи. Марр ввел все эти сходства в стадиальное развитие языка. Непостижимым образом придумал несколько первых слов – сал, йон, бекш, которые якобы есть во всех языках мира. И далее, конечно, уже повсюду их находил. Естественно, Марр первым горой стал за исторический материализм, «истмат». У него были ученики, школа, великая слава.
– Вождь всех советских языковедов и культурологов.
– Да, он и в партию вступил. Кого-то притеснял, но не со зла – время такое было: уверовавший в идею просто не понимал, что можно думать иначе. В ней есть нечто интересное, в его идее. К ней еще вернутся.
Но во времена моего студенчества внимание привлекал Крит с Микенами. Советская историография выстроила формации как ступени прошлого, отсчитывая их обратно от Октябрьской революции. Вот дошли они до крито-микенской культуры – а та в схему формаций не встраивается! Был такой Богаевский, крупный археолог, он посвятил уйму сил, доказывая, что цивилизация Крита – первобытное общество. Признать, что была цветущая цивилизация, а после санторинского цунами с дорийским нашествием Греция заново начала с примитива – такое в рамки истмата не влезало.
Тогда уже утвердился непререкаемый, «марксистский» якобы взгляд на движение истории от низшего к высшему. Как поверить, что в темные века одиночка Гомер сочинил две вечные поэмы человечества? Не могли поверить, пока не убедились.
На почве истмата, где всюду одни аборигены и автохтоны и повсюду стадиальность формаций, крито-минойскую цивилизацию надо было куда-то вставить и разъяснить. Сделав ее автохтонной, но ранней. И ради этого выдумали «военную демократию Крита» для культуры, у которой вообще ни одной фрески военной! Были огромные статьи Богаевского о том, что Крит – военная демократия, мы в студенческие годы ими зачитывались.
У нас и теперь снисходительное отношение к древности как к милому примитиву. Отсюда эти бесконечные гипотезы про инопланетян. Что-то кажется нам невозможным – это же предшественники наши, жили задолго до нас, и им следует быть «малоразвитыми». А чуть где не так – ищи «гостей из космоса»!
Ранний Мир нам видится простым, а он был, наоборот, крайне сложным. Человек шел от законченной и закоченевшей сложности к более простому, открытому и проблематичному. Вспомни сложность первобытного устройства семьи. В работах этнографов поражает и подавляет невероятная сложность родственных связей. Это было изощренно-сложное и в своей сложности остановившееся образование.
Экстраполяция незаконно распространяет современную точечность происшествий на промедления, длящиеся тысячелетиями, где нечто копится, переходя из одной предфазы в другую, которая также предфаза. Например, любопытно, какому сдвигу в существовании отвечало человеческое имя?
Мания именовать все была, но поперек ей шла табуизация, которая прямо запрещала назвать все. Разве поименование людей было изначально всеобщим? Было коллективным поголовным действием? Или у появления имен есть нечто общее с явлением пещерного художника? Тут схватка противоположных влечений, их накопление и взрыв. Сколько видит глаз, человек выступает уже поименованным существом. Поименование же не могло сбыться вне речи.
Я склонен к синхронистическому мышлению, которому культуры видятся равновременными. Тогда понятия низших и высших уходят, и возникает идея неповторимых событий, где все человеческое начинается сызнова. Никакой заданности этого движения в принципе нет.
– Что поделать, в европейской ментальности нет иного способа отнестись к этому, кроме идеи равенства культур. А та недостаточна и превращается в невротическое вытеснение инаких.
– Русская культура могла, не будь она так разрушена. В русских есть ресурс эмпатии.
– Могла бы – что? Русская культура в классический период, честно говоря, мало отзывчива. Она не восприимчива к инокультурному, хотя утверждает обратное и гордится «всечеловечностью».
– Да-да. Это от одержимости «вселенскостью». Нам трудно принять, что великая русская культура, ее сказочное развитие в XIX веке началось попросту с переводов! Пушкин, Жуковский на три четверти – переводы или оригинальные пересоздания чужих текстов.
И минойская культура в чем-то «пересоздательница» египетской, которая, даже застыв, была невероятно изысканной. Понятие великого локализовано в столь малом, что человек, летящий самолетом, уже не ищет всемирности в пространственно ничтожных пределах.
– Видел я пролив между о. Саламин и Афинами – лужа шириной с Лужники, и понял, как жители «подбадривали воинов криками». Они могли не только подбодрить, но и камнем с берега врагу запустить в глаз. И в этой потешной луже прошла битва, определившая ход европейской истории!
– Что показывает, какую роль со времен греков в человеческой истории играет воображение. При наших пространствах и бездорожьях, читая «Одиссею», трудно усвоить, что это за лоскуток моря. А ведь все в «Одиссее» видится гигантским. Колоссальное странствие с приключениями и столкновениями. Гомеровский мир – вещь непостижимая, как путешествие морем, прозрачным до самого дна: тоже момент моего крымского мироощущения.
И снова заблуждение – будто эллинская культура лежит в основе всей новой европейской цивилизации. Но она же была самодостаточной, жила в своих пределах и в них же себя полностью израсходовала. Вот и «тупик истории культуры». Эллинская культура уничтожила саму себя в Пелопоннесской войне. Лишь благодаря тому, что новоевропейская цивилизация стала развертываться в Мир, включенные в нее Возрождением античные предшествия стали восприниматься как всемирно исторические. Когда локальная цивилизация Европы двинулась завоевывать Мир, Античность попала в истоки всемирной истории, но сама Греция стала периферийной страной. Так что зря мы глядим на греков как на отцов европейского общества.
– Да и мы сами в том же примерно отношении к русской, пушкинской России.
– Конечно. Если не меньшем.
8. Осевых времен было много. Загадка человеческого разбегания по Земле. Человек переначинается.
– Дадим отчет в односторонности всего, что делаем. Выражаясь истрепанным языком, мы держимся европоцентристской картины истории. Мы исходим из данного глобализированного состояния Мира, где люди вовлечены в гигантские перемещения и информационные волны. Миграции, иммиграции, новости, смена вкусов и мод. Нельзя не считаться с фактом, что нынешний перепутанно-связный и запутанно-движимый Мир говорит, а стало быть, отчасти и думает по-английски. Во-первых, потому, что люди на нем договариваются друг с другом, а на это еще наложился компьютерный язык. Замечательно про компьютер мне Лена (Высочина. – Г. П.) сказала: «Машина, она же англичанка!»
Но, отправляясь во времени, мы отдаем себе отчет в двух вещах. Во-первых, все не задано и не извечно. Во-вторых, глобальная экспансия не свидетельствует о превосходстве обслуживающей ее цивилизации Запада.
Еще недавно Мир жил иначе, не зная передовых и отсталых. Мир был странным сожитием разных цивилизаций и насквозь аритмичен при этом. Он не группировался по признакам «отсталые», «развитые», «развивающиеся»… Сама эта терминология чуть глупа, как если бы развитый терял способность быть развивающимся. Тем не менее что-то здесь есть.
Говоря о том, что Мир не был таким, что люди в нем сосуществовали по-разному и в разной ритмике, мы помним и то, как однажды все переменилось. И раз так произошло, отправляясь в прошлое, надо себе в этом дать отчет. По одной причине хотя бы, ведь причина – Россия. Русская Евразия как пограничье глобального процесса. Русская часть картины соприсутствия-пограничья по отношению к процессу, в котором одна-единственная из цивилизаций – новоевропейская – сделала заявку на Мир. И ее реализовала, хотя не в полной мере.
С этой точки зрения возникает ряд логических и конкретных трудностей.
В отношении людей как таковых можно говорить об их общей первобытности. Когда-то мы говорили о «единой первобытности», теперь уже только о более или менее единой. По-прежнему дискутируемый вопрос: из одного ли африканского очага все пошло или развитие было разноочаговым? Как появился этот кроманьонец, Homo sapiens, имея в виду его разных предшественников – китайских, африканских, яванских, европейских? Неясен и неандертальский компонент.
Тем не менее условно мы еще можем говорить об общей первобытности. Но где-то она начала глубоко расщепляться и дифференцироваться. Она вступила на путь закрытых моделей самовоспроизводства. Возникли объединения родов, громады династий, изнашивались, уходя в небытие, и вновь собирались из тех же элементарных кирпичей. Но как-то раз процесс пошел по-другому.
Помню, на конгрессе антропологов у меня зашел разговор с Лесли Уайтом, известным американским антропологом. И он говорит в процессе спора: «Вы марксист. Энгельс написал работу “Происхождение семьи, частной собственности и государства”, работа очень интересная. Но во времена Энгельса уже был востоковедческий материал. Почему у него все построено на первобытности по Моргану, который исследовал только американских индейцев?»
Я ему тогда сказал: «Вы не думаете, что Энгельс полагал, что частная собственность и государство возникают только единожды и в одном месте? И то, что мы распределяем этот генезис на все земли планеты, некорректно? Искусственная операция, с помощью которой мы категории наблюдения и выводы, извлеченные из опыта доминирующей цивилизации, экстраполируем на всех».
Мы обдумываем историю культуры на перемычке двух образов. Один образ таков: мы имеем дело с чем-то универсальным, что именуем Миром. Надо распознать, где это нечто возникло. Правомерно говорить о средиземноморском мире – но можно ли говорить о центрально-азиатском мире или о тихоокеанском мире? О китайском мире, с его многообразными разветвлениями и приложениями? Или все-таки мир в строгом смысле слова появляется где-то единожды и впервые самое себя распознает и понятое называет Миром? Мир средиземноморский, который и получил первое имя мира Pax Romana – Римский Мир.
Восток не притязал на глобальность. Он мыслил себя космически, оставаясь в своих пределах. Строители средиземноморского мира выломились из зашедших в тупик цивилизаций Востока. Они выстроили Мир, развернувшийся в заявку на всю планету, обоснованную идеей апостола Павла – идеей внеродового родства.
Конечно, человек уже был. Была человеческая речь, разбегание людей друг от друга по земному шару. Все эти вещи вышли за рамки понятия рода и связаны с наличием сознания. Но совсем другое дело – осознание человечества как универсальной программы.
– Это по Ясперсу?
– По Ясперсу? Едва ли. Осевого времени как единоразовой эпохи нет. В феномен «осевого времени» Ясперс переименовал христианское начало, чтоб избежать европоцентризма немецкой школы. Европоцентризма я не боюсь, он не знак качества. Что поделаешь, если история, где участвуют евреи, неевреи и антисемиты, получила вселенскую вертикаль? Не понимаю, почему это нельзя обсуждать.
Мы имеем дело с историей, а та не энциклопедия описаний всех экзотических культур и цивилизаций. Мы имеем дело с чем-то, что себя ограничивает и объединяет понятием Мира. Важный момент этого – всемирная история, и в связи с ней – мировая культура.
– Но тогда мировая культура – россыпь всех земных культур и субкультур. Или у нее нечто общее с мировой историей?
– Мы ступили на опасную территорию: есть два полярных взгляда на развитие человека. Один – тот, что с момента, когда человек стал человеком, он как существо уже не претерпевал сколько-то принципиальных изменений. Он поднимается со ступени на ступень, но в качестве субъекта подъема, того, кем он себя видит, человек не меняется.
Для меня это не так. Я настаиваю на том, что по пути человек переиначивается, и более того – он переначинается как человек.






