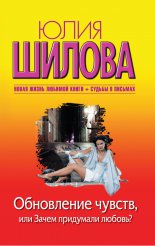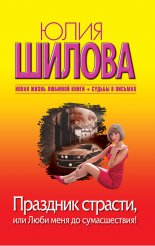Хроники минувших дней. Рассказы и пьеса Ковалев Леонгард
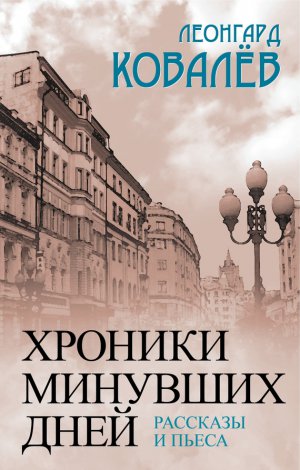
Леса были такие, что, отойдя на пару сотен метров от мест, где я набирал топливо, начинались настоящие дебри, глушь, куда никто не заходил. Там, на крутой холмистости, ель росла так плотно и так густо, что сквозь частые переплетения ветвей, мертвых и сухих снизу, чуть проглядывали солнце и небо. Там стояла недобрая тишина, создававшая вместе с валежником и буреломом, покрытыми мохом, картину бездвижную, мрачную, вызывавшую чувство, что жизнь умерла.
Это не было еще последней чертой, переступить которую означало бы покинуть дарованный человеку мир. Дальше открывался глубокий провал. Крутой склон, покрытый высохшими деревцами, не сумевшими обрести полноты предназначенного им роста, уходил далеко вниз. Мхи покрывали упавшие друг на друга стволы, высасывая из них то, что еще было остатками жизни и неминуемо должно было исчезнуть, рассыпаться прахом. Земля скрывалась под толстым слоем мертвой хвои, не позволявшей взойти никакому живому ростку. Сумрак, молчание, ни малейшего дуновения, ни звука, вечная, без какой-либо надежды, безысходность.
Только заглядывая туда, лишь коснувшись этих небытия и мрака, я уходил в места, где душу и глаз радовали простые трава и цветы, где старые ели и молоденькие деревца задумчивым колыханием ласковой зелени, тихим шепотом, скользящим вершинами леса, возвращали к свету и жизни. Над ними сияло мирное небо. Редкие облака таяли и вновь возникали в нем, утверждая, что так будет всегда.
В другое время я ходил по малину, забирался в малинник, необозримо покрывавший пологий склон широкого оврага. На шее у меня висел длинный, небольшого диаметра туесок, я клал туда ягоду за ягодой. Необыкновенно сладкой и душистой была лесная малина. Малинник перемежался зарослями жгучей крапивы. Там и сям среди них возвышался муравейник. С безоблачного неба палило солнце, стояло обычное безветрие, а значит, ничем не нарушаемая, однако живая, добрая тишина…
Неожиданно мне захотелось испробовать колхозных работ. Рано утром мать передала меня бригадирше, молодой женщине, которая отвела меня в поле, где я должен был дергать лен. Она обозначила мою делянку, показала, как дергать, как делать вязку, снопики, составлять из них копенки. И я узнал, что такое крестьянский труд.
Очень скоро спина моя начала разламываться и трещать. Когда становилось невмоготу, я делал на земле валик из снопиков, ложился на него поперек, пытаясь разогнуть спину, лежал так несколько минут, глядя в небо, и снова принимался работать.
Лен сильно пророс сорняками, из которых самым противным был колючий пустырник. Руки мои стали бурыми, исколотыми мелкими колючками.
Лето было на исходе, но день все еще был солнечный, жаркий. Я работал один, возле меня не было никого. В полдень обедал куском хлеба с картошками в мундирах и проработал до самого вечера. Домой приплелся весь изломанный, разбитый и на следующий день малодушно дезертировал. Однако моя работа была учтена: мне зачли полтрудодня, за которые я что-то и получил, кажется, молока. Пол-литра? Литр? Не помню.
Зимой, уже сорок четвертого года, по деревне разнеслась весть: приехало кино! Вечером в правление колхоза сбежались мальчишки. Показывали английский фильм «Повесть об одном корабле». Комната, где мы собрались, была битком набита – все только мальчишки. Сидели на полу, я – перед самым экраном. Размер его был, наверное, метр. Звука, конечно, не было, но было и так все понятно. Моряк с потопленного фашистами корабля оказался в море один. Чтобы фильм шел нормально, нужно было крутить и ленту, и динамо, подававшее электричество. Охотников на это было достаточно. Фильм шел частями, между которыми был перерыв для смены кассет. Впечатлений было море.
Вскоре после этого в сельсовете выступали артисты. Снова это вызвало возбуждение среди мальчишеской массы. Сельсовет находился километрах в семи. Собрались мальчишки из окрестных деревень. Шли гуськом через заснеженное поле. Был небольшой морозец при обычном безветрии, светила луна. На снежном покрове было светло, как днем.
В сельсовете комната была побольше и тоже полна народом. Передние зрители, среди которых был и я, тоже сидели на полу. Артистов было двое – мужчина и женщина. Разыгрывались сценки по чеховским рассказам. Часть комнаты была отделена от «зала» тряпичной ширмой, за которую артисты уходили в перерывах между сценками. В памяти осталось, что это было интересно, талантливо, здорово. Незабываемое впечатление тех дней!
В деревне жил разный народ. Дедушка Микрюков – весь белый, седой, с белой бородой, ласковый и добрый, с палочкой – часто сидел на лавочке возле своих ворот, улыбался, смотрел зоркими глазками, что-то говорил, когда, бывало, проходишь мимо. Другой старик, покрепче, Крюков, все лето изо дня в день, ловил на удочку лещей. Говорили, налавливал по пятьдесят штук за день и всегда сидел на одном и том же месте. Мальчишки усаживались вблизи от него, но никому не удавалось даже приблизиться к такой удаче. Был еще Вася Семенов – сильный здоровый мужик лет до пятидесяти, хромой. В первую мировую войну пуля попала ему в колено, отчего нога престала сгибаться. Вася был мужик-жила, из тех, которые не упустят и копейку. Был хитрый, себе на уме, все видел, все понимал, советскую власть, конечно, презирал и всегда готов был где-то что-то урвать, прихватить. Он был рыбак другого рода, чем старик Крюков. Пруд был колхозный, рыба в нем тоже была колхозная. Удочкой ловить можно было каждому. Вася же делал то, что было настоящим разбоем. Ночью выезжал на лодке на середину пруда, ставил сети и боталом загонял в них рыбу. Говорили, налавливал два-три мешка. Все это знали, но никто не связывался с ним. Колхозная работа Васи состояла в том, что он где-то что-то сторожил.
Как-то из города опять приехал Юра. Он предложил сходить по малину. Мы взяли котелки и отправились в лес. Наш путь проходил мимо поля, засеянного горохом, который к этому времени созрел. Мы решили немного полакомиться им, а заодно тут же справить некоторую нужду. Так мы сидели на гороховом поле, мирно беседуя, делая сразу три дела. Вдруг как из-под земли: «Стой, стрелять буду!». Неведомо как перед нами возник Вася, направив на нас ружье. Юра мгновенно дал стрекача в сторону дома. Я же под дулом направленного на меня ружья оцепенел на месте, поддерживая рукой штаны. Вася отобрал мой котелок, меня же отпустил.
Оставшись один, от обиды и досады, от чувства вины – как отчитаться перед хозяйкой за котелок, который, по-видимому, пропал – я до вечера бродил по лесу, переживая случившееся. Когда же пришел домой, первое, что увидел на столе – свой котелок. Юра за это время отбыл в город. Надо мной слегка посмеялись. Видимо, Вася красочно живописал происшедшее. Был он наблюдательный, сметливый и не без яда.
В колхозе работы начинались рано. Бригадирша стучала в окно чуть свет. В поле выгоняли коров и овец, шли к тем работам, которые приспели. Пахали, сеяли, косили, жали, молотили, свозили в хранилища, в скирды, в стога. Работали на конюшне, на свиноферме, с кроликами. Работали и на своих усадьбах. Разные были семьи, по-разному работали, и достатки были разные, но, кажется, в деревне никто не голодал.
Наступало время жатвы, и у нас под окнами, за околицей, собирались жнецы. Событие было такого же значения, как и то, когда выезжали пахать. Это было как праздник. Мужчины управляли конными жнейками, женщины собирали сжатые колосья в снопы, ловко и быстро скручивали свясла, делали вязку, ставили копны. Работа шла споро, весело.
Потом снопы свозили на колхозный двор, а некоторую часть складывали тут же, на поле, в скирду.
В нижней слободе жила Манька – так ее звали, – беженка из Белоруссии еще времен первой мировой войны. Говорили об ее нерадивости и лени. Я ее не знал, хотя, наверное, и видел как-нибудь. Была ли у нее семья? Какая? Сколько ей было лет? Просто меня это не интересовало. Слышал только, что на огороде у нее росли одни подсолнухи. В четырнадцатом году она бежала из своих краев, да так и осталась здесь навсегда. За бесхозяйственность в деревне ее осуждали. Но, может, была этому какая-то причина.
С некоторыми ребятами я немного дружил, бывал у них дома. Ванька Пасынков – этакий деревенский мечтатель, – добродушный, круглолицый, песельник, знал множество частушек, из которых пел с особенным задором:
- Моя новая котомочка
- На лавочке лежит.
- Неохота, да придется
- В Красной Армии служить.
Стяжкин Витька – боевой, смелый, любитель подраться. Прокудин Ленька – вроде бы покладистый, не злой, на самом деле готовый обмануть, поживиться за чужой счет. У Прокудиных все время пропадал Игорь, когда я не брал его с собой. Были еще Демидовы, Пойловы, а ближе всех оставался Колька Бельтиков – коварный и недобрый, с зелеными в хитром прищуре глазами, с кривящейся улыбкой, все как будто соображавший в уме, что бы сделать этакое такое. Он жил с матерью и бабкой. Все они были немного с придурью, любили пошуметь, покричать. Утром, зимой, в любой мороз, на крыльцо в одной рубахе выскакивал Колька и прямо с порога пускал струю. После Кольки появлялась мать, тоже в одной рубахе и тоже пускала струю, задравши подол, изогнувшись передом. Наконец выползала бабка за тем же самым и опять в одной рубахе, только уже выставляла обнаженный зад. За зиму у крыльца вырастала желто-зеленая ледяная гора.
На деревне эту семью не любили, а мальчишки не любили и Кольку. Его как будто даже били, и, наверное, потому он никогда не бывал ни в каких компаниях. Однажды зимой он выскочил на улицу с ружьем. Он часто им хвастался, но стрелять не умел. В этот раз ему вдруг захотелось пострелять снегирей, стайкой слетевших на дорогу. Зарядив ружье, прицелился, щелк – осечка, щелк – осечка. Начал возиться с патроном, все щелкал, и все была осечка. Недолго думая, бросился домой, схватил молоток. Вернувшись на дорогу, отодвинул затвор и трахнул молотком по патрону. Раздался выстрел, вылетевший патрон удалил в затвор, затвор вылетел прямо в лоб Кольке. Удивительно, но как-то ему это обошлось. Может, вышибло последние мозги, но остался жив, долго потом отлеживался дома. А там, где произошла трагедия, большая глыба снега напиталась Колькиной кровью.
Среди ничем не примечательных деревенских будней из города докатилась весть неожиданная и жуткая. В город из деревни приехал колхозник продать своего крестьянского товару. Там у колхозника была родня – начальник районной милиции, в доме у которого он остановился, а распродав свой товар, заночевал. После удачного торга у колхозника оказалась некоторая сумма, которую он там же, в доме родственника, не таясь, пересчитал. Утром он выехал домой, а на дороге, сразу за городом, подвергся нападению разбойников. В него стреляли из револьвера, ранили, однако погнав лошадь, он избежал смертельной опасности. Подобное на Руси случалось и раньше. Взволновавшая особенность происшествия состояла в том, что разбойниками были сынки начальника милиции, секретаря райкома партии, председателя райисполкома и кто-то еще из той же элиты. Все мальчики были учениками то ли девятого, то ли десятого класса, все друзья-приятели. Организатором был сын начальника милиции, видевший, как деревенский родственник пересчитывал свои деньги.
Занятия в школе велись по часам, которых, однако, не было в наличии. Часы имелись в соседней избе, и учительница каждый раз посылала меня узнать, который час. Изба эта была уже немножко дом. Стены в горнице были оклеены обоями. Был комод с какими-то на нем украшениями, хороший стол, венские стулья. Стену украшали какие-то картинки, а также часы в футляре, с большим маятником. О хозяйке нельзя было сказать «старуха», но старая женщина. Она была высокая, степенная, одетая по-крестьянски, немножко и на городской манер. Иногда хозяйки не было в доме, и я сам определял время. Но однажды здесь появились новые люди: женщина, старушка и двое детей – девочка и мальчик.
Женщина была как будто больна, все время лежала на кровати, старушка чаще всего отсутствовала, дети находились возле матери. Девочка была примерно моего возраста, мальчик – лет шести. У девочки были голубые глаза, она была красивая, но имела странно большой живот и одутловатое лицо. Мальчик тоже был с большим животом. Эти родственники хозяйки дома были ленинградские блокадники, вырвавшиеся оттуда каким-то чудом. Были они странно тихие, серьезные, постоянно молчаливые. Что такое Ленинградская блокада, я узнал потом.
И женщина, и дети не выходили на улицу. Старушка же стала показываться на деревне и неожиданно появилась в нашей избе. Еще более неожиданным оказалось, что она пришла именно ко мне. В руках у нее была стопка небольших, нарезанных в одном формате листочков плотной бумаги. Она узнала где-то, что я художник, – таков был слух обо мне, – и попросила нарисовать ей карты. Художник я был кое-какой, но взялся выполнить этот заказ. Я нарисовал все значки, но фигур не стал рисовать, поленился, а просто написал: валет, дама, король. Старушка была крайне огорчена моим упрощенным исполнением, и мне было стыдно и жалко ее, кроткую, худенькую, в темных одеждах, с большими, печальными, бесконечно добрыми глазами. Можно было почувствовать, как она была красива в молодости. У нее был тихий голос и какая-то очень красивая, правильная речь. Она собиралась гадать о судьбе сына – моряка, капитана, отца тех девочки и мальчика. На самом деле было известно, что он погиб, но старушка рассказывала всем, что он скоро вернется и какой он красивый и замечательный сын. И, кажется, она ни о чем больше не думала и ни о чем другом не говорила.
В пруду кто-то выловил больших окуней и прямо на берегу выпотрошил их. Среди внутренностей оказались проглоченные окунями небольшие рыбки. Такую рыбу есть нельзя, хотя на вид она кажется вполне пригодной. Старушка, познавшая голод блокады, подобрала этих рыбок, в каком-то виде поела их и чуть не умерла.
Пока в школе шли занятия, я каждый день приходил в этот дом узнавать время. Там, на столе, я увидел большую, с картинками, книжку «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Я попросил почитать, и девочка дала мне ее. Книжка мне очень понравилась. Когда я читал ее, я думал и о девочке – молчаливой, красивой, с печальными голубыми глазами.
Летом они с братом стали приходить к пруду, но не спускались к воде, где рыбачили мальчишки, а оставались на горе, среди высоких, тенистых лип. Здесь, в траве, было много цветов, росли деревца волчьих ягод. Сестра и брат сидели отрешенные, странно серьезные, пришельцы из мира, о котором мы не знали ничего. Отыскав в траве несколько веточек с ягодками земляники, нарвав каких-то цветочков, я поднимался к ним с этим приношением. Принимая его, она благодарила слабым своим голоском, чуть заметно улыбалась. Я рассказывал, какая рыба водится в пруду, какие здесь леса, какие в них живут звери, какие растут грибы и ягоды. В глазах, которые она изредка поднимала ко мне, я встречал тепло и чувствовал, что ей хочется, чтобы я приходил еще.
Однажды в деревне появился гадатель. В блюдечко с водой он сыпал золу и опускал кольцо, в которое нужно было долго и пристально смотреть. К гадателю сбежалась вся деревня. Мать тоже пошла погадать. На дедушку вышли голова и лицо, занявшие все колечко. Глаза у дедушки были закрыты, он был неподвижен. На бабушку получилась картинка: маленькая движущаяся женская фигурка возле шалаша. Предсказание оказалось верным. Потом мы узнали, что дедушка был мертв, бабушка была жива, но дом сгорел, о чем намекал шалашик.
Наступил день нашего отъезда. Был март сорок четвертого года. Накануне хозяйка позвала меня пилить те бревна, которые она берегла как неприкосновенный запас. Теперь она хотела как можно больше заготовить дров на будущее, используя в моем лице работника, которого лишалась.
Мы пилили целый день – не на козлах, а на лежачей колоде, все время находясь в склоненном положении. У меня ломило спину, темнело в глазах, но хозяйка подтаскивала все новые и новые бревна. Лес был крепкий, ядреный. Я уже терял последние силы, в глазах стоял туман, а женщина, которой было за шестьдесят, не знала устали. Волей-неволей мне пришлось выполнить и этот урок.
Наконец настал этот день! Как долго я ждал его! Как долго думал о нем! Хозяйка говорила матери: «Оставайся, Васильевна, будем жить вместе». Но душа рвалась: «Скорей! Скорей!».
Последний раз я пришел в школу и последний раз зашел в дом, где узнавал время. Хозяйки не было, старушки, которую я так обидел, тоже не было. Женщина по-прежнему лежала за ситцевой занавеской и молчала. Мальчик был возле нее. Девочка встретила меня. Мы подошли к столу. Я сказал, что завтра мы уезжаем. Она наклонилась к книжке, которая лежала перед ней, будто что-то смотрела, водила пальцем, долго молчала. Потом подняла свои прекрасные глаза. В них стояли слезы.
– До свидания, – чуть слышно прошептала она…
Стояла оттепель, первая за все эти годы, в то время когда еще должен быть мороз.
Подъехала лошадка, запряженная в сани. Возчик руководил погрузкой. В сани положено сено. Мы одеваемся в дорогу, складываем свои пожитки. Среди них самое главное наше богатство – сколько-то пудов прекрасной пшеничной муки, полученные матерью на трудодни – заслуга и преступление Демидова. Все готово. Хозяйка роняет скупую слезу. Кажется, и Вера тоже.
Сани тронулись, лошадка пошла вниз, мимо Колькиной избы, мимо школы, мимо дома, где осталась грустная ленинградская девочка. Я смотрел на окна, ждал, но она не показалась.
Сани пошли к скотному двору и конюшне, через мосток, по нижней слободе – впереди поле, холмы, леса и бесконечные снега под небом, непривычно затянутым неподвижными, отсыревшими тучами…
Покидая суровый тот край, я не мог сдержать воображение – оно бежало вперед. Долгие дни я вспоминал любимый город, думал о покинутом доме, о тех, кого оставил там. Я видел их в снах. А то, что было моей жизнью здесь, оно было чуждое и чужое. Я думал, что забуду его навсегда. Но нет, оно остается. Воспоминания делаются ярче. Приходят чувства, которых вроде бы не должно быть. Вспоминается все, что дарило крупицы счастья, которого тогда я не осознавал. Даже тот эпизод крестьянского труда, показавший, насколько это за пределами детских забав, даже в нем вспоминаю теперь не ноющую спину, не исколотые руки. Вспоминается материнский запах земли и то, когда, давая отдых натруженным членам, лежал я, распластавшись под ласковым небом, утопая взглядом в голубизне, пронизанной золотыми лучами… О, как славно это было! Эти небо, полевые просторы и земля – добрый, любовный дух ее …
Вспоминаются вечерние часы возле раскаленной печурки, для которой днем по морозу притаскивал я жарко горевшие в ней смолистые сучья, разговоры матери, хозяйки, Веры, притихший братишка, и за окном сказочная ночь… Вечер заканчивается, мы забираемся на полати. В натопленной избе так славно расслабиться даже на этой тощей постели. И перед сном мать рассказывает потихоньку разные истории из прошлой жизни, из той, которая была еще задолго до нас, содержание прочитанных ею книг, кинофильмов, которые она смотрела…
Втроем, только что обретя новое пристанище, бродили мы вечерами среди порубки, собирая ягоды и грибы. А еще то, как строптивая Дочка выбросила меня из тарантаса на дорогу. И опять же раньше всего другого вспоминаются запахи, которые шли от поля, от старого тарантаса, от лошади, и открывавшиеся просторы этой земли, среди которых так редко увидишь живую душу, и дорожный шум под колесами трав, полевых цветов, сопровождающий в долгом пути…
Мрачные леса, подступавшие к деревне с разных сторон, сдержанно машут из дебрей своими мохнатыми лапами, и странна, таинственна живая тишина, которую оберегают они…
Два человечка пробираются со своей телегой, нагруженной выше высоких бортов бревнами и бревнышками, мимо пней и навалов валежника, среди трав, зарослей малинника и крапивы. Первый из всех сил, с трудом толкает тележку. Второй плетется сзади, подбирает что-то в траве, срывает попадающиеся цветы. На дороге оба они скрываются среди высокой ржи, останавливаются, чтобы передохнуть, слушают тишину, шепот колосьев… Вспоминается и девочка… те неожиданные слезы… и внезапное, никогда еще не испытанное, особенное чувство расставания, первое в жизни…
А мать? Было бы все это, как оно было, и вообще – было бы, если бы не она? Энергичная, стойкая, не терявшаяся в обстоятельствах, которые многих сломили.
В тот день, когда мы покинули свой дом и наш город, прибежав с работы, она объявила о нашем отъезде. Бабушка помогала собраться. Вещей взяли только для Игоря – небольшой чемоданчик, выезжали ведь на три дня. На перроне не протолкнуться, паника, куда-то бросающиеся люди, сцены прощанья, слезы, чьи-то вскрики. Бабушка оставалась совсем одна…
Сколько мы ехали! На больших станциях, где оказывалось одновременно несколько эшелонов, собирались тысячные толпы. Все сразу бросались в поисках пропитания при постоянном страхе, что поезд может отправиться в любую минуту. Мы тревожились за нашу мать. И она возвращалась и что-нибудь приносила. Миновав территории, подвергавшиеся налетам и бомбежкам, поезд все шел и шел. Иногда он двигался так медленно, что, кажется, это была скорость обычного пешехода. Мимо раскрытой пульмановской двери проходили просторы России. Распластавшись на полу в сумраке мерно подрагивавшего вагона, беженцы молчали. Спали? Думали невеселую думу? В сиреневых сумерках над горизонтом поднималась луна – огромная, красная, молчаливая, будто чье-то око, знающее все и про всех. Как завороженные, мы следили за ней…
Это только благодаря матери мы еще не познали той крайности, в которой оказались многие и многие в те годы. В деревне ее признали, к ней отнеслись уважительно…
Вот мы катимся в тарантасе среди полевых просторов, вот собираем ягоды, грибы, вот едим гороховый суп, в то время как в столовой гам и шум, и очередные едоки ждут, когда мы освободим место. Вот мать читает Псалтирь, вот уезжает на целый месяц. Мы с нетерпением ждем, когда она вернется. Или мы вскапываем тот клочок земли, на котором вырастим первый наш урожай.
В день рождения она дарит мне альбом, который втайне готовила долгие дни. Это канцелярская книжка, для которой она смастерила картонную обложку. Страницы украсила аппликациями, вырезанными откуда-то картинками, написала стихи ровным, бегущим почерком, сделала пожелания. Не помню, чтобы она была в унынии, но всегда готовая встретить любое испытание. Никакой растерянности, паники, только активное отношение – действовать, искать выход, это при ее сочувственном, отзывчивом характере…
Но все имеет предел. При последнем нашем свидании это была старая женщина, седая, с лицом пепельно-землистым, отразившим страдания многих месяцев жестокой болезни, с блеском железных зубов из-за усохшей кожи, с черными провалами исстрадавшихся, когда-то голубых глаз. Исчезло очарование молодой женственности. Я держал сделавшуюся маленькой и бессильной старушечью ручку. В другой был комочек платка, которым она время от времени утирала глаза, уголки рта. Куда смотрела она? Что видела перед собой?..
Долгое молчание покрывало всю прошедшую жизнь. Продолжая смотреть в неведомое для меня, она вдруг сказала:
– А помнишь, какая была луна?..
Так подходила к своему завершению простая человеческая жизнь…
В солнечной тишине
На холме, среди колеблющихся под ветром трав, мы оставались одни… О чем мы говорили и о чем молчали?..
Нила была, как и все мы – мальчишки и девчонки… Нет, другая – лучше. Карие глаза, скользящие в улыбке книзу, прятали такое, что заставляло постоянно думать о них. Черные волосы, челка и взгляд… Она так смотрела и так улыбалась, что невольно это связывалось с теми словами из репродуктора.
Михель все что-то искал, спускался к реке, кричал оттуда. Я не думал, что и день этот, и все его очарование пройдут и многое другое тоже пройдет. Только в душе неотвязно повторялось – грустью или счастьем или тем и другим вместе? – то, что по вечерам доносилось от станции:
- Пусть дни бегут, пусть идет за годом год…
С вершины холма открывались виды заречных просторов. На другом берегу под радостным ветром волновались березовые рощи, все мельче лепетали листочки плакучих ив, зеленели луга. Зыбкие горизонты за ними тонули в сияющем далеко.
От подножья холма река поворачивала вправо. Холмистость в той стороне понижалась. Вдоль берега тянулись заросли верболозов. В отдалении, уже не скрытые ими, виднелись насыпь и мост, по которым проходил воинский эшелон – платформы с танками и орудиями, теплушки, в проеме которых, перекрытом широкой доской, теснились солдаты.
Но странно: солнце и тишина, а рядом военная гроза – они существовали в одном и том же пространстве, в одни и те же дни цветущего июня. Две стихии, никак не соединимые в одно, все-таки составляли единую повседневность. Но когда той, устрашающей, не было вблизи, начинало казаться, что нет уже войны, что солнце и тишина наконец восстали над миром…
Солнце и тишина… Они сопровождали нас на лесной дороге, когда мать и я шли с тяпками в руках и она рассказывала о прошлом, о гражданской войне, о том, как один из братьев, больших озорников, натаскавший домой военных припасов, все что-то проделывал с ними и едва не застрелил ее – пуля прошла совсем рядом…
К полудню солнце начинает палить отвесными лучами. В воздухе распространяется смолистый запах сосны. Дорогу горбатят корни старых деревьев. Вдоль нее, уходя в лесные глубины, землю покрывают папоротники, мхи, вереск, кустики черники… Такой чудесный день, небо над нами, эта дорога… Так много интересного в прошлом, об этом хочется слушать и слушать. Хочется знать про то, что было когда-то.
За лесом открывается поле. Большое, оно простирается далеко в разные стороны. Поделенное на участки по десять соток оно засажено картофелем, который уже порядочно вырос. На своем участке мы окучиваем его, дергаем сурепку, осот. Большинство дольщиков уже обработало свои грядки, и на всем поле, кроме нас, никого. Мы совсем одни, с нами только солнце, жаворонок и тишина. Удивительная, неожиданная – тишина тех дней, вспоминая которую, только сейчас постигаешь ее…
Конечно, работать тяпкой, пригнувшись к земле, не очень приятно. Куда как лучше было бы купаться с товарищами в сажалке, валяться на траве, играть в ножичек или чижика. Здесь все-таки скучно, солнце нещадно палит и ноет спина…
И вот через столько лет вспоминаются тот холм и солнечные дали, то, как откуда-то снизу звенел мальчишеский голос Михеля, и она – красивая девочка Нила; мы только вдвоем… Вспоминается лесная дорога, рассказы матери… Теперь никто не доскажет и не у кого спросить о том, что было недоговорено… Возникает видение бескрайнего поля под мирным небом, откуда вместе с горячими лучами льется бесхитростная песенка крохотной птахи… Солнечная и жаворонковая тишина, странная среди военных тревог, думая о которой, погружаешься в океан мучительного счастья… Или печали о том золотом, прекрасном?.. О том, что прошло?..
Странный человек был Иван Иванович. Мы поселились у него в конце марта по возвращении из эвакуации. Стояла промозглая, слякотная погода. Раскисший снег превратился в водянистый кисель, дул сырой порывистый ветер. Показав комнату, где мы должны были располагаться, Иван Иванович тут же исчез.
В доме было холодно. Мать приготовилась затопить печку. Дрова в наличии имелись. Нужно было открыть вьюшку, но ее не было нигде. Обшарили всю печь – нигде ничего. Комнаты и кухня были оштукатурены, побелены. Печь тоже была побелена, лишь в той части, где проходил дымоход, побелки не было, а было это место аккуратно замазано глиной. Вьюшки так и не нашли. Решив, что печь устроена как-то по-особенному, стали растапливать прямо так. Дым сразу повалил наружу. Топку пришлось остановить. Так мы и сидели – в холоде и в дыму – и не знали, что делать. Ивана Ивановича простыл и след.
Явившись после долгого отсутствия, он быстро ввел нас в курс дела. Вьюшка, оказывается, находилась в той части, которая была замазана глиной. Для топки каждый раз Иван Иванович отбивал ее молотком, а протопив и закрыв вьюшку, размачивал ту же самую глину в воде, снова замазывал дымоход, и так каждый раз.
Странности Ивана Ивановича на этом не заканчивались. Дом имел две половины, на одной из которых жила его мать, неслышная, словно тень, кроткая старушка, с которой он как-то странно общался, то есть почти не общался, и постоянно куда-то надолго исчезал.
Был он, конечно, не вполне нормального рассудка. Лет ему было сорок или пятьдесят. С виду крупный и крепкий мужчина с громовым голосом почему-то пребывал в неугасимом возбуждении, все время двигался, готовый к какому-то, может быть даже страшному, поступку. И все ораторствовал, скандировал, обращаясь к кому-то, к каким-то людям, которым доказывал, что он не боится, презирает их, потрясая при этом левой рукой, на которой четко по диагонали были отрублены четыре пальца:
– Вот что я сделал! Я им доказал! Я не боюсь их!
В этом возгласе слышалось что-то трагическое, страшное, как будто задавленные рыдания о загубленной жизни.
Внутренне он был постоянно в схватке со своими врагами. И все время исчезал куда-то надолго, часто не ночуя дома. Однажды он попросил мою шапку, чтобы куда-то сходить в ней. Вид ее и, главное, цвет имели какое-то символическое значение для него:
– Я докажу им! Пусть знают! – громыхал он, резко вышагивая по комнате, жестикулируя, сжимая кулаки.
Шапка имела самый жалкий вид: вата в подкладке свалялась комьями, одно ухо настойчиво торчало вверх, другое висело с изломом. Мех был скорее желтый, но с коричневым оттенком, и, кажется, именно в нем для Ивана Ивановича заключался какой-то ненавистный смысл. Надев ее, он куда-то надолго исчез.
Разумеется, ни жены, ни детей у него не было, а у меня осталось знание, что был он в заключении, в лагере, и там, чтобы показать, насколько он презирает своих мучителей, на глазах у них отрубил себе пальцы.
Постоянно отсутствуя, Иван Иванович нас не беспокоил. К тому же к нам, особенно к матери, относился вполне дружелюбно, не стесняя никакими хозяйскими правилами или требованиями. Их у него не было вообще.
Мать стала работать бухгалтером в железнодорожной организации, как она работала перед войной. Жизнь приобретала возможную в тех условиях устойчивость.
Я пошел в школу: в том году я заканчивал четвертый класс. Жанну мать отводила к нашим знакомым, землякам, с которыми мы вместе покидали наш город и вместе возвращались из эвакуации. Они тоже квартировали в частном доме, недалеко от нас. Старушка из этой семьи присматривала за своими внуками и, пока я был в школе, соглашалась доглядеть и Жанну.
Школа находилась недалеко от железной дороги, на другой стороне станции, ходить надо было по переходному мосту. Она была кирпичная, давней постройки, одноэтажная. Ее окружали старые тополя, был большой двор с устройствами для спортивных занятий. Во дворе перед началом уроков все классы выстраивались на зарядку.
В классе ученики отнеслись ко мне с доброжелательным интересом: кто я? откуда приехал?
Одним из предметов был украинский язык. И хотя я не знал его, учительница – сухонькая старушка, строгим квохтаньем своим похожая на курицу-наседку – заставила меня учить и литературу, и язык. И я учил: «Осэл убачив соловья…». Самым знаменательным примером моих успехов стал диктант, которым я развеселил весь класс. В нем я сделал примерно полтораста ошибок. Старушка получила редкое удовольствие, исчеркав его красным карандашом.
С некоторыми учениками я подружился. Нищенко, отличник, серьезный и положительный, позвал меня домой, показал большую, в аккуратных альбомах, коллекцию марок, среди которых были немецкие, в том числе с портретом Гитлера. Дом был интеллигентный, несколько комнат, уютно обустроенный. Нищенко спросил, пионер ли я, а узнав, что не пионер, был удивлен. Все ученики в классе были пионеры, хотя и побывали в оккупации. Он не мог понять, почему я, который жил на советской территории, не был пионером. Я и сам не знал почему.
Другой товарищ, дома у которого я побывал, показал коллекцию птичьих яиц, назвал птиц, чьи они были, объяснил и рассказал, как он отыскивает их в гнездах, как отсасывает содержимое и сохраняет хрупкие скорлупки. Яички были все маленькие, но разной величины и разного вида, с крапинками, различной расцветки, были аккуратно размещены в специальных коробочках. И дом, и товарищ этот тоже понравились мне.
Снег сошел, наступило тепло, все вокруг зазеленело. Мальчишки, пережившие оккупацию, щеголяли солдатскими пилотками и галифе, которые они как-то ухитрялись носить, хотя размер их намного превышал габариты такого героя. Эти ребята, близко повидавшие войну, держались независимо, солидно, однако без бравады, просто и серьезно, как настоящие мужчины. У них не было отцов, у иных не было и матери. Один из таких самостоятельных хлопцев, в галифе, сидел за своей партой возле раскрытого окна и периодически, когда старушка копошилась в журнале, кое-как управляясь с покалеченными очками, выпрыгивал наружу и уходил по своим делам. Оторвавшись от журнала, учительница спрашивала тревожно:
– А где Хоменко?
Хоменко, который только что был здесь, отсутствовал. Позже, может быть уже во время другого урока, Хоменко тем же способом возвращался на свое место. Старушка поднимала очки, и – чудо! Отсутствовавший Хоменко преспокойно сидел там, где его только что не было. Изумленно глядя на него, она, возможно, начинала сомневаться в своем рассудке.
Война шла совсем близко. То и дело появлялись немецкие самолеты. Со станции паровозными гудками подавался сигнал воздушной тревоги. Самолет летел высоко. Зенитки поднимали поспешную стрельбу. Стреляли в основном мимо.
Жили мы недалеко от базарной площади. Рядом, в довольно большом двухэтажном здании, размещался госпиталь. С наступившим теплом проходившие там лечение раненые начали прогуливаться во дворе и по улице, заходили на базар – на костылях, перебинтованные, в солдатском белье.
В мае проездом на фронт из госпиталя к нам заехал отец – все тот же, как и раньше, сильный и веселый. Он был артиллерист, капитан, командир батареи, в отличной новенькой форме. Из вещевого мешка извлек хлеб, консервы, сахар, печенье, водку. С ним был товарищ – лейтенант медицинской службы, фельдшер – довольно уже немолодой, кряжистый, с красным лицом и мясистым носом, напоминающим некий овощ.
Вечером получился маленький праздник, все были веселы, смеялись, много говорили, шутили. Отец потискал, потрепал нас с Жанной, спросил, слушаемся ли мы мать.
Пришла наша землячка поговорить, спросить, как там, на фронте: она беспокоилась о брате. Потом сидели за столом, выпивали, пели любимые песни. Иван Иванович был в отсутствии.
Среди разговоров и шуток, между песен возникали минуты задумчивости за все пережитое и переживаемое, которое было у каждого, за то, что еще впереди. Жанна сидела у отца на коленях, прислонилась к нему, и он обнимал ее сильной рукой, прижимал к себе.
Окна были плотно занавешены. Керосиновая коптилка кидала по стенам колеблющиеся тени.
Я вышел на крыльцо. Теплый вечер опустился на город. В воздухе носился острый запах только что раскрывшихся тополей. Небо над головой было уже темно, но запад еще сиял золотом заката. Неожиданно, прочерчивая черный след на светлом фоне зари, возник самолет. Он шел, полого снижаясь, оставляя за собой шлейф черного дыма, из-под крыла выбивалось пламя. Над городом и в городе стояла непривычная тишина. Не было слышно ни выстрелов, ни взрывов, ни каких-либо других звуков. Самолет пролетел и скрылся, словно призрак, а из комнат звучало: «Прощай любимый город…».
И образы всего пережитого, того, что уже прошло и что еще будет, наполняли душу смутным предчувствием, вызывая тревогу и грусть.
Утром все были уже серьезны. Отец и лейтенант быстро собирались. На прощанье отец обнял всех нас. Мать плакала. Кузьмич, как звал отец фельдшера, ждал в сторонке. Это была последняя наша встреча с отцом, последнее свидание – в конце августа он погиб.
Вскоре мы перебрались жить в казенный дом, находившийся ближе и к городской окраине, и к станции. Дом был одноэтажный, но с большими комнатами, их было три или четыре. Были большие окна и высокие потолки. В одной из комнат нам был предоставлен угол. Другие углы занимали такие же беженцы и один из них – наши земляки. У дома был еще и широкий двор с огородом.
Началась какая-то уже немножко другая жизнь. Занятия в школе закончились. Появились новые друзья.
В отдаленном углу двора, за картофельным огородом, был вырыт окопчик такой глубины, что в нем мог сидеть взрослый человек. Сверху он имел перекрытие, слегка присыпанное землей, в длину был метра три. Это был как бы наш штаб. Здесь мы собирались, обсуждали свои дела, о чем-то говорили и здесь соорудили настоящую печку – плиту. Притащили от каких-то развалин кирпичей, нашли чугунную покрышку с двумя конфорками, колосники, дверку. Лидером нашим был Коривка – не по замашкам заводилы и главаря, а по действительному авторитету, как больше знающий, бывалый, к тому же рассудительный, справедливый, смелый, всегда готовый прийти на выручку. У него не было ни отца, ни матери, он жил с дедом и, конечно, носил галифе и пилотку. Он же и построил нашу печку, которая получилась со всеми необходимыми свойствами, имела хорошую тягу, и мы постоянно ее топили, конечно, не для того, чтобы греться или что-то готовить, просто это была наша игра.
Рядом с окопчиком проходила граница нашего двора. По другую сторону невысокого забора, перекинувшись к нам ветками, росли вишни, которые уже созрели и очень соблазняли нас. Мы беспокоили хозяйку усадьбы и вишен, потому что не могли не лакомиться ими. Бедная старуха не знала, как с нами справиться, гоняя нас с ругательствами, кидаясь камнями, комьями земли. Сад у нее был устроен так, что вишни росли вдоль забора и с двух сторон дома. Потому, когда она караулила нас в одном конце, мы делали набег с другой стороны. Часто она прибегала к хитрости: ложилась в картофельной борозде, предварительно приготовив запас камней, терпеливо ждала, когда мы начнем разбойничать, готовая атаковать нас. Бедняга не догадывалась, что мы прекрасно видим выглядывавший из ботвы толстый зад в цветастом платье, и спокойно отправляемся грабить ее в другой конец сада.
Однажды кто-то предложил испечь на нашей плите пирог с вишнями. Генка, самый зажиточный в нашем обществе, принес, то есть украл у матери, пшеничной муки. Кто-то притащил сковороду, кто-то кастрюлю, каких-то жиров. Не помню, что принес я, может быть соли, другого я ничего не имел. Вишни были под боком, задачи не было, чтобы добыть их в нужном количестве. Замесили тесто, слепили блин размером в сковороду, сделали в нем углубление, положив туда наворованные вишни, и так его испекли на нашей плите. Мы предвкушали отведать настоящего лакомства, однако тесто, приготовленное неумело, без употребления дрожжей, выпеклось твердым, невкусным. Но все равно мы ели свой пирог с немалым удовольствием.
От станции то и дело раздавались гудки воздушной тревоги, однако пролетавшие самолеты не бомбили. Самолет кружил, видимо совершая разведку, зенитки поднимали яростную стрельбу, но всегда это было мимо. Зенитчики были исключительно молодые девушки.
Иногда тревога оказывалась ложной. А однажды она прозвучала в полдень. Город и станция мгновенно опустели. Взявшись за руки, мы с Жанной понеслись к матери на работу. Кругом уже не было ни души. Мы мчались по переходному мосту туда, где в случае бомбежки было бы самое опасное место, и думали только о том, чтобы в страшную минуту быть с матерью. Кто может защитить нас при крайних обстоятельствах? Мать – только она.
Контора находилась в самом центре станции, в нескольких шагах от путей, на которых стояли воинские эшелоны. Здесь все оставались на своих местах, спокойно работали. Нас с Жанной уже знали, нам улыбались, говорили что-то доброе. Мы еще не могли отдышаться. Мать журила нас за неразумный поступок.
В другой раз тревога прозвучала, когда я мылся в бане, которая также находилась возле путей, но и тогда обошлось без бомбежки, и помывщики не торопились спокойно помыться, одеться… А было еще: тревога зазвучала, тоже среди дня, в то время когда над городом пролетал на большой высоте самолет. Тревога, однако, была не воздушная, а пожарная, в чем мало кто разбирался. Загорелась мельница – большое деревянное сараеобразное сооружение старой постройки, горела страшно и яростно. Столпившийся народ уже не обращал внимания на пролетавший самолет.
Но вот однажды ночью я услышал над собой встревоженный голос матери:
– Вставай, скорей одевайся! – трясла она меня за плечо.
От станции неслись лихорадочно-тревожные гудки. В небе, видимо высоко, слышался ворчливо злой рокот самолетов. Через окно, глядевшее в сторону станции, было видно, как над ней медленно опускались осветительные бомбы. Они горели малиновым, ослепительным до белизны светом.
В комнате все торопились одеться. Мать одевала сонную Жанну. В семье наших земляков в эту ночь ночевал ее глава, железнодорожник.
– Вешает фонари – значит, будет бомбить, – как бы смакуя этот факт, выразительно, с расстановкой прокомментировал он происходившее за окном.
Внезапно все вокруг загрохотало, затряслась земля: бешеную стрельбу открыли зенитки. Гудки на станции сразу умолкли.
Выскочив из дома, мы бросились к нашему окопчику: искать другое убежище было поздно. Я оказался первым, после меня втиснулась женщина с ребенком, потом мать с Жанной, потом еще человека три. Через широкую щель в перекрытии окопа я видел, как медленно опускались зловещие фонари, освещая город и станцию кроваво-призрачным светом. Зенитки продолжали стрелять, снаряды рвались высоко. Оттуда шел монотонный рокот моторов.
После первой же бомбы, которые начали падать одна за другой, зенитки умолкли. Между разрывами возникала секундная тишина. Тогда казалось, что там, высоко, кто-то жестокий и страшный железной рукой раз за разом открывал некий люк, из которого с нарастающим воем к земле летела сама смерть. Ощущение было, что каждая бомба нацелена прямо на нас. Станция запылала сразу и вся, так сильно, будто горело само небо. После стало известно, что первым вспыхнул эшелон с прессованным сеном для лошадей.
В окопчике кто-то изредка ронял слово, а какой-то мужчина, хотя места в укрытии было достаточно, сидя снаружи, спокойным тоном, будто речь шла о чем-то обыденном, передавал свои наблюдения происходящего. Женщина возле меня успокаивала ребенка, который все всхлипывал: «Мамочка, мамочка…». Под меня потекла теплая жидкость…
Новый день начался тяжелым рассветом. Не было солнца, небо заволокло неподвижными тучами. Две или три бомбы упали у самого нашего дома. Взрывом вырвало вместе с болтами ставни, которыми были закрыты глядевшие на улицу окна, выбило стекла. В комнату залетели осколки, пропали какие-то вещи, с ними и моя путевка в лагерь. Мать запретила мне уходить со двора, но я не мог, я должен был увидеть, что произошло.
Улицы были пусты. Вид их под хмурым, насупившимся небом вызывал гнетущее чувство. Там и сям зияли огромные воронки. Возле одной из них, рядом с домом, который разворотила бомба, на чем-то вроде топчана лежало неподвижное тело, накрытое черным покрывалом, рядом не было никого.
Более всего пострадала станция. Сгорел вокзал. Взрывами сбросило и закрутило рельсы. От эшелонов остались остовы сгоревших вагонов. Бомба попала в вагон с хамсой, и ее разбросало по путям. Сгорела и школа, рухнул забор, окружавший ее, обгорели прекрасные тополя.
К полудню из города потянулась вереница людей, покидавших его: старики, женщины, дети с узлами, чемоданами на тележках или велосипедах, или которые несли на себе. Друг за другом, нескончаемой чередой, вызывая гнетущее чувство, шли они весь день.
После бомбежки ходили рассказы про разные случаи: о попадании в убежище, где было двадцать или тридцать человек, о чьем-то чудесном спасении. Погибло будто бы несколько сотен мирных граждан. Говорили, что один самолет все-таки сбили. У себя во дворе и возле нашего окопа мы нашли много осколков, колючих и острых.
Налеты стали повторяться еженощно. Мы спали, не раздеваясь. Как только звучала тревога, теперь уже вместе со всеми бежали к лесу, до которого было не больше километра. Мать и я держали Жанну за руки. Самолет летел над самой головой, пулемет чеканил смертельное та-та-та-та…, и было отчетливо слышно, как совсем рядом, у самого уха свистят хищные крылья.
Через лес вслед за другими мы заходили на край пшеничного поля и оттуда смотрели в сторону станции и города. Здесь, среди колосьев, было спокойно и тихо. Ночи были теплые. Сидя на земле под звездным небом люди тихонько переговаривались. Самолеты кружили, вешали фонари, стреляли из пулеметов, но не бомбили.
Хотя путевка моя пропала, меня приняли в лагерь.
В каком-то доме с высоким крыльцом все прошли упрощенный врачебный осмотр. Потом все ограничилось тем, что нас просто кормили, иногда водили на прогулку, в лес. Каких-либо занятий с нами не помню, для этого не было ни помещений, ни условий.
После бомбежки у нас завелась забава. Почему-то обширный луг рядом с сажалкой оказался усеян зажигалками, многие из которых, вонзившись в землю, остались совершенно целы, некоторые обгорели частично.
В сажалке я нашел целую осветительную бомбу. Упакованная в плотную оберточную бумагу от удара о грунт, снизу она примялась, но часовой механизм с воспламенителем был цел и сиял новенькой латунью. Тоже в сажалке ребята нашли еще пару частично сгоревших фонарей с обугленным часовым механизмом.
Все это богатство мы притащили к нашему окопу и стали устраивать потеху. Кусок зажигалки или осветительной бомбы помещали в нашу плиту на лопате, там они начинали разжижаться и гореть. После этого расплав подбрасывали лопатой, потом ударяли ею, и он разлетался ослепительными брызгами, белыми или малиновыми, создавая зрелищный фейерверк. Однажды горящая капля упала на голову Михелю, после чего на этом месте у него образовалось пятно величиной с пятнадцать копеек, на котором уже не росли волосы. Я хотел вынуть из своего красивого часового механизма воспламенитель, но не сумел и кому-то потом отдал.
Время для мальчишек было веселое. В народе уже не было панического возбуждения сорок первого года. А вскоре началось большое наступление нашей армии, после чего налеты прекратились. Война покатилась на запад. Жизнь, конечно, была еще скудна, но дни постоянной тревоги отступили.
Вместе с взрослыми мы ходили на разборку развалин, оставшихся после бомбежек. Работали киркой. Мелкие осколки кирпичей собирали в кучи, цельные кирпичи и крупные их куски складывали отдельно.
Но лучшее время проводили у сажалки: купались, валялись под солнцем на траве, играли. Сажалка была небольшое озерцо, поросшее по берегам осокой и камышами. Глубина была, наверное, метр, вода чистая, дно песчаное. Отсюда начинался и тот большой луг, который почему-то оказался усеян зажигалками. Мы говорили о войне, обсуждали последний фильм, рассказывали что-нибудь из того, что интересно мальчишкам. Любимым развлечением была игра в ножичек. Проигравшему забивали в землю колышек, который он должен был вытащить зубами.