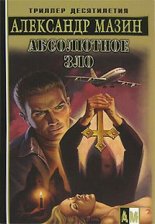Сокол против кречета Елманов Валерий
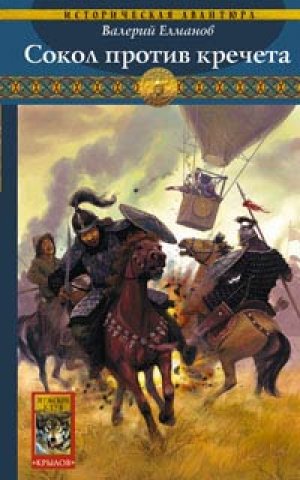
Читать бесплатно другие книги:
Ритуальные убийства и наркотики, деньги и власть, власть губить тела и отнимать души… Это не мистика...
У него есть женщина, которая его по-настоящему любит и оберегает, есть сэнсэй-наставник, есть сильны...
Он – выше понятий и выше закона. Он сам вершит закон, отвечая ударом – на удар, пулей – на пулю, сил...
Его подставили. Вернее, он, Андрей Ласковин, подставился сам, чтобы защитить друга.Его использовали ...
Алексей Шелехов – наследник изрядного состояния, учится в Англии, пока его опекун управляет промышле...
Говорят, кошки – умные существа. Они тихо крадутся на мягких лапках и за милю обходят любую опасност...