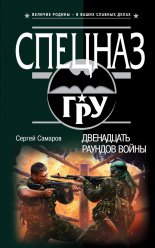Немцы Велембовская Ирина
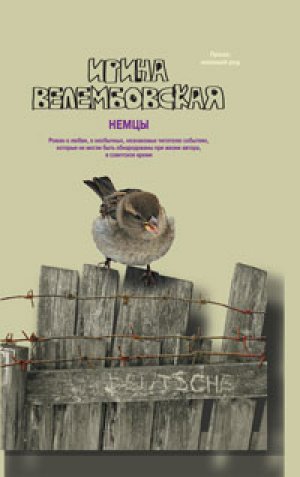
– Ровней пили, не дергай! – строго сказала Тамара. – Гут надо зеген. Ферштеен?
– Гут, – буркнул немец и снова согнулся.
Мерзлое дерево сопротивлялось, пила звенела и гнулась. Тамара вынула из-за пояса топор и стала подрубать. Вновь поднялся снежный вихрь, и закружилась серебристая пыль. Тамара подозвала Штребля.
– Умеете пилить? – спросила она его по-немецки и немного покраснела за свое произношение.
– Яволь, фрейлейн. Я столяр.
Снова зазвенела пила. Пилили очень долго. Слабый скрип внутри дерева означал, что ель уже сдается и скоро рухнет вниз. Скрип этот усиливался и перешел в стон, а затем ель начала медленно крениться, задевая ветками соседние деревья и снова поднимая снежную метель.
– Ахтунг! – крикнул Штребль.
Раздался сильный треск, свист рассекаемого воздуха, и ель с печальным гулом упала на землю, поломав своей тяжестью молодые елочки и пихты. Обнажился пень, светло-розовый, просторный, как обеденный стол, накрытый скатертью.
Штребль старался унять дрожь в коленях и с трудом разогнул затекшую спину.
– С непривычки-то тяжело, – улыбнулась Тамара. – Гут арбайтен, камарад!
Она достала спички. Вскоре запылал огромный костер. Гигантские ветки с воем корчились на огне. От каждой подброшенной в костер еловой лапы взвивался целый фейерверк искр. Скоро огромный, очищенный от ветвей ствол угрюмо лежал в снегу, а вся былая краса дерева превратилась в груду пепла и тлеющих углей, над которыми немцы грели озябшие руки.
– Ну что, поняли, как работать? – спросила Тамара.
– Я, юнге фрейлейн, – ответило несколько голосов.
– Ну, глядите дальше.
Вместе с плечистым Раннером она отпилила первую чурку. Поставив чурку на попа, она тяжелым колуном разбила ее на плахи. Мерзлое дерево разлеталось, как стекло.
– Вот и все. Расходитесь подальше друг от друга и начинайте.
Тамара развела всех по лесу. Застучали топоры. Раздвигая ветки, на поляну вышла Татьяна Герасимовна.
– Ну, как дела? Двигаетесь помаленьку? А прогадала ты, Томка, что взяла этих франтов: вон у Власа да у Колесника те немцы, что в узких штанах, им рта разинуть не дали, взяли топоры и давай жарить, как заправские лесорубы. Их и учить нечего. И бабы в красных юбках пилят так, что любо! Один долговязый мне и говорит: в Румынии дома тоже в лесу работал.
– И этих обучим, – не совсем уверенно сказала Тамара.
Но вечером из лесосеки она возвращалась ечальная. Понуро брели за ней и усталые немцы. Первый день не обещал ничего хорошего: только очень немногие – плотники и столяры – умели держать в руках пилу и топор. Остальные чувствовали себя совершенно беспомощно. Люди эти никогда даже не видели, как рубится лес, не умели разжигать костры, метались, суетились, вязли в снегу, мешали друг другу, рискуя быть задавленными деревом. «Можно подумать, вчера только на свет родились, – сердито думала Тамара. – Как они норму-то будут выполнять?» Но все же ее отчасти утешало то, что большинство немцев обнаружили явное желание работать. Поэтому, когда у лагеря их встретили комбат и Лаптев, на вопрос: «Как дела? Небось, весь лес вырубили?» – Тамара, тряхнув головой, ответила весело: «Не вырубили, но вырубим!»
5
Поздно вечером Тамара сидела за немецким словарем. Подперев усталую голову кулаком, борясь с дремотой, она твердила:
– Дрова… дас хольц, сучья… ди эсте… ди эсте.
– Томка, будет тебе язык-то ломать! – прикрикнул Василий Петрович. – Ложись, квартиранта разбудишь!
– Сейчас… Сжигать… фербреннен. И что я, дура, в школе не учила! Как бы годилось! Топор… ди акст…
Вообще-то в школе она училась хорошо, и немецкий ей давался легко, поэтому она себя им не очень-то и утруждала. Стоило ей день-другой позаниматься перед экзаменом, и немецкие слова сами собой начинали крутиться на языке.
Утром Тамара поднялась с трудом. Забрала хлеб и пошла.
– Томочка, ты бы не оставалась одна с солдатами-то, – шепнула ей вслед бабка, все еще никак не понявшая, что эти немцы вовсе не солдаты.
Девушка только весело махнула рукой и убежала.
– Сегодня мы не должны лицом в грязь ударить, – объясняла она, как умела, идущим за нею немцам. – Сам комбат с офицерами в лес приедет. Вы поменьше суетитесь и не орите без толку. Работать попробуйте по трое. Легче будет. Цвей ман и ейне фрау. Понятно?
Штребль и Вер взяли к себе в бригаду рослую немку Розу Боден. Штребль видел, как она вчера первой из женщин сбросила пальто и работала в одном свитере.
Лес был настолько строен и красив, что рубить его было жалко. Когда Тамара отдала распоряжение о сплошной рубке, послышался удивленный шепот.
– Такие прелестные елочки! – с чувством сказал Бер на ухо Штреблю. – Из них выросли бы роскошные деревья.
Тем не менее немцы взялись за дело. То тут, то там раздавались возгласы «Ахтунг!», потом стук упавшего дерева. Когда часа через два Тамара стала обходить делянки, то увидела, что у большинства уже навалено много леса и пылают яркие костры.
Штребль выбрал удачное место – на опушке. Деревья падали на чистую снежную поляну. Бер, пыхтя и сопя, пилил вместе с краснощекой Розой Боден, засучившей рукава по локоть. Штребль тоже работал без куртки.
Тамара подошла ближе и улыбнулась: этот голубоглазый вихрастый парень так тщательно очищал ствол ели от сучьев, как будто готовил его не на дрова, а собирался дом строить. Она хотела взять у него топор, но отпрянула, увидев, что все топорище заляпано кровью.
– Что это? – испуганно спросила она.
Штребль протянул ей руку. От указательного пальца до запястья розовел кровоточащий шрам.
– Благодаря этой небольшой ране меня демобилизовали из армии, – по-немецки произнес он. – Мне не больно, фрейлейн. Рубец совсем старый.
Тамара вытащила из сумки кусок бинта.
– Завяжите, – сказала она строго. – Как вас зовут?
– Рудольф Штребль, прекрасная фрейлейн. Номер сто двадцать восемь.
– Шёне юнге фрейлейн! – подбежала к ним запыхавшаяся Роза Боден. – Вы так добры к нам! Мы не ожидали, что русские так к нам отнесутся.
– Не понимаю я, – ответила Тамара, явно недовольная появлением немки, что не ускользнуло от внимательных глаз Штребля.
Потом Тамара побывала еще в нескольких бригадах. В большинстве случаев дело тормозили женщины: они поминутно отдыхали, переговаривались, предавались воспоминаниям, некоторые плакали. Мужчины же не решались их подгонять.
– Это что же у вас за заседание? – строго спросила Тамара, увидев, как три немки сидят на поваленном дереве и беседуют, а двое мужчин изо всех сил пилят толстую березу.
– Фрау на Романия нет работать, фрейлейн, – с трудом переводя дух, сказал длинный тощий немец.
– Это я уже слыхала! – разозлилась Тамара. – А мы, русские, значит, можем? Норму кто за них будет выполнять? Кто норма махен?
Немцы пытались ей что-то объяснить, потом стали ссориться между собой. Тамаре надоела их перебранка.
– Давайте работайте! – скомандовала она и пошла дальше.
Немцы же продолжали ссориться.
– Надо убрать женщин к черту! – кричал Раннер. – В конце концов, я не желаю из-за них в карцере сидеть! Я не лошадь, чтобы работать за всех!
– Раннер, ты что, взбесился? – визжала Магда.
– Что там взбесился! Раз от вас нет никакого толку, убирайтесь! Пускай хауптман посадит вас себе на шею. А мы будем работать вдвоем.
– Но не могу же я бросить жену? – жалобно произнес Шереш, преданными глазами глядя на свою Юлию. – Вы какой-то безжалостный, Раннер…
– Он просто идиот, – вставила Магда.
– Неужели вам не стыдно, Раннер? – кокетливо повела плечом маленькая Мэди.
– Пилите же, Шереш, черт вас побери! – зарычал Раннер, хватаясь за ручку пилы. – Посмотрим, что вы вечером запоете!
Последняя бригада – отставной обер-лейтенант Отто Бернард, кондуктор спальных вагонов Фридрих Клосс и рыжий музыкант Антон Штемлер – привела Тамару в полное отчаяние. Единственная сваленная ими за весь день тонкая береза с изгрызенным комлем лежала глубоко в снегу. По обе стороны топтались отставной обер-лейтенант и кондуктор спальных вагонов. Первый – небольшого роста, тонкий в талии, как оса, сухой старикашка с рачьими выпуклыми глазами и в пенсне на остром синем носу; второй – длинный, элегантно одетый, с глупейшей улыбкой на бледном вытянутом лице. Они не пилили, а царапали пилой по дереву. Один отпиленный ими за все время березовый кругляш рыжий музыкант пытался расколоть на две части. Он ставил его стоймя, но как только взмахивал топором, кругляш падал в снег, и немец начинал его выгребать из снега длинными покрасневшими пальцами.
Тамара посмотрела и плюнула. Вырвав из рук музыканта топор, она положила кругляш боком и одним ударом по торцу расколола его на два полена. Потом принялась распекать Бернарда и Клосса. Бернард выпятил грудь колесом и скрестил по-наполеоновски руки. Его оскорбляло, что русская девчонка вздумала его учить. Зато кондуктор спальных вагонов заулыбался еще глупее и стал твердить:
– Битте, битте… энтшульдигунг…
– Битте, битте, а сами ни с места! – обозлилась Тамара. – Берите пилу, фрицы проклятые! Им говоришь, а они в глаза смеются!
Когда Тамарой овладевало волнение или гнев, все немецкие слова вылетали у нее из головы. Она путала русские слова с немецкими и чаще всего заканчивала тем, что ругала немцев по-русски. Те быстро усвоили: раз фрейлейн говорит по-русски, значит, она сердится.
Отчаявшись что-либо объяснить немцам, Тамара оттолкнула Бернарда и принялась показывать Клоссу, как надо пилить. В это время, как назло, из леса появились Хромов, Лаптев и Петухов.
– Ну, как дела? – спросил Хромов.
– Сами видите, – хмуро ответила Тамара, кивнув на единственные два полена.
Комбат сделал зверское лицо и пошел прямо на обер-лейтенанта:
– Ты что, работать не желаешь? Нихт арбайтен? Да знаешь ли ты, пугало огородное, что я тебя наизнанку выверну! В лепешку расшибу!
Отто Бернарду повезло, что он не понимал по-русски, иначе он перепугался бы до смерти. Он и так попятился, споткнулся и сел в снег, задрав кверху тоненькие ножки в огромных валенках. Лаптев и Петухов не удержались от смеха. А комбат принялся за Клосса. Тот, едва дыша от страха и широко открыв рот, застыл с пилой в руках. Комбат тоже схватился за пилу:
– Пили, так твою… и не так! Пили, говорю!
У Клосса так дрожали ноги, что он едва стоял. Бледные губы шептали:
– Битте, битте…
Вырвав у него пилу, комбат швырнул ее в снег. Клосс бросился поднимать. Комбат хотел швырнуть снова, но вдруг заметил, как рыжий музыкант кинулся бежать и спрятался за большой сухой пень. Это показалось Хромову так смешно, что он громко расхохотался.
– Задал я им страху! Ничего, на пользу пойдет. А ты, – обратился он к Тамаре, – им спуску не давай. Если не выполнят норму, держи всю ночь в лесу.
– А я что, тоже должна сидеть с ними в лесу? – резко спросила она. – Мое дело их работать научить, а уж экзекуцией сами занимайтесь!
Хромов сердито посмотрел на нее и, ничего не ответив, отправился на другую делянку.
Здесь работала бригада Эрхарда. Не замечая приближения офицеров, Эрхард колол дрова, не выпуская изо рта папиросы. Комбату видна была его спина в теплой кожаной жилетке.
– Тут, я вижу, дело идет по-другому, – громко по-немецки сказал Лаптев.
Эрхард не спеша повернулся.
– Работа в лесу и свежий уральский воздух сильно возбуждают аппетит, господин офицер, – сказал он, воткнув топор в ствол дерева. – Если бы нас получше кормили, мы могли бы и работать еще лучше.
Лаптев перевел Хромову его слова. Тот рассердился:
– Какого же им еще черта нужно? Три раза в день они получают горячую пищу, восемьсот граммов хлеба. Не пирожными же их кормить?
– Кстати, обед им еще до сих пор не привезли, – заметил Лаптев, – а уже второй час.
А Хромов уже пошел дальше.
– Вот видишь, – через плечо сказал он Лаптеву, – они могут работать, если захотят. Значит, нужно на них жать. А всякие ихние недовольства нечего выслушивать. Они, видно, забыли, что они в плену.
– Иногда выслушивать не мешает, а то мы вряд ли добьемся от них хорошей работы.
– Рассусоливать с ними я не намерен, – резко оборвал комбат. – Можешь сам этим заниматься, это больше по твоей части. А у меня свои меры… Петухов, подашь мне сегодня рапорт о выполнении нормы по твоей роте.
– Есть, – ответил не совсем довольным тоном Петухов.
Обойдя всех немцев из первой роты, комбат понял, что норму они вряд ли выполнят. Появление офицеров в лесу переполошило и без того суматошных немцев, женщины плакали, боясь предстоящего наказания.
– Паршиво у тебя идет дело, – сказал Хромов Тамаре. – Чем ты можешь это объяснить?
– За один день не обучишь людей работать, – угрюмо ответила она.
– Подумаешь, какое искусство – дрова рубить, – недовольно отозвался комбат, – что это, на гитаре играть, что ли?
– Да на гитаре-то им легче научиться, чем лес валить. Что же вы хотите, если они в первый раз в жизни взяли пилу и топор в руки? Нужно их учить, а не застращивать, – глядя прямо Хромову в глаза, выпалила Тамара.
Комбат шагнул к ней и грубо взял за плечо.
– Ты это что же, меня учишь? Меня, командира Красной армии! Ты еще сопля! Поняла?
– Рукам воли не давай, товарищ Хромов, – раздался позади голос Татьяны Герасимовны. – Тут тебе не жены и не ухажерки, – она отстранила Хромова от Тамары и загородила ее своим большим телом. – Уж ты давай, командуй у себя в лагере, а в лесу мы начальники.
Тамара отвернулась и, чтобы скрыть слезы, бросилась в сторожку, где Влас Петрович точил топоры и пилы.
– Ты чего, Тамара Васильевна, заревана? – спросил старик. – Уж не немцы ли тебя обидели?
– Нет, свои, – тихо ответила она, села в угол и стала жевать печеную картошку, которую Влас Петрович приготовил ей на обед.
Комбат с Петуховым уехали, а Лаптев, завидев Татьяну Герасимовну, решил задержаться.
Наконец привезли обед на двух подводах, и Тамара побежала звать своих немцев. Услыхав про обед, все побросали работу и помчались к сторожке. Девчонка, привезшая обед, испугалась не на шутку, когда из леса вылетела целая ватага здоровенных мужиков и плотно окружила сани. Взмахнув черпаком, девчонка закричала:
– Что вы, с цепи сорвались, что ли? Отойдите сейчас же от термосов! Прольете – сами не жравши останетесь!
Лаптев и Татьяна Герасимовна поспешили на выручку.
– Станьте в очередь! – приказал Лаптев. – Чем больше будет порядка, тем быстрее получите.
Мисок для первого и второго в отдельности не хватало. Штребль махнул рукой:
– Лейте все в одну!
Его примеру последовали и другие. Только самые привередливые, вроде Чундерлинка и Ландхарта, предпочли встать в очередь во второй раз. Штребль, который чертовски проголодался, изо всех сил стараясь выполнить норму, с жадностью ел щи и гороховую кашу, и ему казалось, что он мог бы есть бесконечно. Женщины ели не спеша, и некоторые даже не осилили свою порцию. Хлеб они подсушивали над костром, насадив его на прутик.
Со второй ротой оказалось значительно труднее: крестьяне не признавали порядка, и, сколько Лаптев ни кричал, все получалась не очередь, а толпа. Стоило девчонке зазеваться, как из корзины исчезло несколько кусков хлеба. Недостача обнаружилась только тогда, когда не хватило хлеба последним. Девчонка пришла в ужас, а немцы, оставшиеся без хлеба, принялись причитать и браниться.
– Кто из вас взял лишнюю порцию хлеба? – строго спросил Лаптев. – Лучше сознавайтесь сами, хуже будет, если на вас укажут другие.
Немцы молчали, продолжая чавкать.
– Вашим четырем товарищам не хватило хлеба! Как вам не стыдно! – попытался увещевать их Лаптев, но заметив, что немцы не обращают на него никакого внимания, заорал: – Встать! Если не признаетесь, завтра все будете без хлеба сидеть!
Бледный, худой подросток, поставив миску на пень, дрожащим голосом сказал:
– Одну порцию взял я… Я ее уже съел. А Георг Ирлевек взял еще три порции.
Ирлевек волком поглядел на мальчишку-предателя.
– Дайте сюда хлеб! – приказал Лаптев.
Ирлевек неохотно стал извлекать куски из-за пазухи. Мятый хлеб крошился и выглядел совсем неаппетитно, но бёмы съели его с жадностью.
Лаптев велел девчонке налить им остатки супа. Презрительно посмотрев на Ирлевека, Лаптев повернулся и пошел в сторожку.
Татьяна Герасимовна и Тамара сидели у жарко натопленной печки. Влас Петрович точил топор.
– Вот окаянные-то! – ворчал старик. – Все лезвие изгрызено у топора, ровно камень рубили… твою мать! У пил зубья суки ломают, у топоров обуха раскалывают, топорищ не наберешься, – и старик для выразительности все прибавлял и прибавлял ругательства, не особенно стесняясь женщин.
– Уж ты больно, Влас Петрович, матом садишь, – недовольно заметила Татьяна Герасимовна. – Ни к чему это, особенно при немцах. А у тебя что ни слово, то матюг. Я слышала, и немцы у тебя переняли. Они, видно, думают, что это поговорка такая. А если они начальство матом обложат? Куда тогда деваться?
– Ладно уж… – буркнул Влас Петрович и почесал в затылке.
Лаптев и Татьяна Герасимовна стали собираться.
– Ну, прощай покуда, Тома. Объяви немцам: кто по два метра напилит, дадим еще двести граммов хлеба и талон на горячее питание. Но только смотри: по доброте сердечной поблажки никому не делай. А на комбата ты внимания не обращай. Мы его обломаем по уральскому обычаю, шелковый будет наш комбат, правда, товарищ Лаптев?
Надвигался вечер. Догорали костры, от них вился тоненький сизый дымок. Похолодало, и снег стал тверже. Тамара в последний раз пошла обходить бригады.
6
Штребль настолько устал, что, войдя в комнату и опустившись на нары, уже не мог стянуть с ног тяжелые, набухшие сыростью валенки. Только отдохнув несколько минут, он кое-как разделся и, несмотря на усталость, решил пойти умыться. А Бер как завалился на нары прямо в верхней одежде, так и лежал, жалобно постанывая.
– Я пальцем шевельнуть не могу, – сказал он Штреблю. – Провались все дрова, все нормы и все талоны! Может быть, вы будете настолько добры, Рудольф, что принесете мне ужин сюда? Честное слово, встать не могу.
Штребль взял большую банку из-под консервов и отправился в столовую. За столами его соотечественники усердно скребли ложками по глиняным мискам. Немки в белых передниках разносили на подносах дымящийся суп. У Штребля нестерпимо засосало под ложечкой. Он нашел свободное место и, проглотив слюну, спросил соседа по столу:
– Что сегодня на ужин?
– Как всегда, щи и горох. Тем, кто имеет дополнительный талон, кукурузная каша и белый хлеб.
Штребль крепко сжал в кулаке маленький розовый талончик, который он получил сегодня от Тамары. Когда перед ним поставили сразу три миски: одну со щами, другую с горохом, а третью с кашей и белой булочкой, он дрожащей рукой взял ложку и быстро принялся есть, обжигаясь и почти не чувствуя вкуса пищи.
– Хотите, сударь, я подам вам чаю? Только без сахара, – спросила немка, убиравшая посуду.
– Благодарю, давайте и без сахара, – с готовностью ответил Штребль.
Он ел и чувствовал на себе завистливые взгляды соседей.
– Каша, кажется, с маслом? – осведомился один из них, когда Штребль оторвался от миски.
– Довольно порядочная порция, – заметил другой.
А чей-то злобный голос прошипел:
– За эту кашу некоторые собираются продать себя русским со всеми потрохами.
Штребль не успел ответить на это замечание, как раздался голос Грауера:
– Штейгервальд, не устраивайте здесь пропаганды!
Штребль оглянулся: Грауер стоял в дверях, сгорбившись и, как всегда, спрятав руки в карманы. Его крупные хрящеватые уши обладали поразительной способностью все улавливать даже в шуме голосов.
– Я и не думаю заниматься пропагандой, геноссе лагер-комендант, – проговорил, смутившись и поднимаясь со своего места, лысый Штейгервальд. – Просто мне кажется неразумным так много работать за миску кукурузы. Но это мое личное мнение, и я его никому не навязываю.
– Вы уже съели свой ужин?
– Да.
– Покиньте столовую. Я еще поговорю с вами.
Все недоуменно переглянулись. Тон Грауера немцам не понравился. Только недавно этот сорокапятилетний, ничем не примечательный Грауер ехал вместе с ними в одном поезде, а теперь ведет себя как большой начальник. Грауер тем временем уселся возле Штребля.
– Я слышал, камарад, что вы хорошо проявили себя сегодня в лесу, – сказал он покровительственным тоном. – Это похвально. Я буду вас ставить в пример другим.
– Никому я не собирался подавать пример. Просто хотел заработать лишнюю порцию к ужину и не попасть в карцер.
– Хауптман не так жесток: пока карцер пустует. Но от нас самих зависит, чтобы он и впредь пустовал. Если подобные разговоры, – он пальцем указал на дверь, в которую только что вышел Штейгервальд, – будут иметь место, не рассчитывайте найти во мне защитника.
Грауер наконец ушел, а Штребль мысленно послал его к черту и снова принялся за еду. Но аппетит уже был испорчен. Он получил ужин для Бера и отправился в свой корпус. На дворе сгущались сумерки, темные фигуры немцев вяло брели по двору. Вид у всех был усталый и печальный. Невольно это передалось и Штреблю. Правда, наевшись, он опять почувствовал прилив сил, но вечерний сумрак и грустная шопеновская мелодия, доносившаяся из красного уголка, навевали на него тоску. Он подумал о том, что на родине уже зацветают розы, а здесь лежит глубокий снег и до тепла еще, видимо, далеко.
– Ешьте, Бер, – сказал он, поставив еду на тумбочку. – Вы спите, что ли?
Бер спал, согнувшись калачиком. Он сильно похудел за последние дни. Штребль разбудил его. Бер поел и снова уснул.
Забравшись к себе на верхние нары, Штребль в рассуждении чем бы заняться оглядел комнату: рядом и внизу спали люди, хотя было лишь около семи часов вечера. Кое-кто разделся, большинство же спали прямо в верхней одежде, ничком, уткнувшись в подушку.
Со свистом храпел Франц Раннер. Он, бедняга, работал изо всех сил, но талона не заработал: подвели женщины. Справа от него тихо лежал Ландхарт. Вверху над ним – Шереш. Длинные ноги в пестрых носках торчали наружу. Он тоже еле до лагеря дотащился и почти на себе донес свою супругу. Во сне он всхлипывал. Напротив него – Эрхард. Этот спал на спине, вытянув по бокам огромные ручищи. Широкая грудь в коричневом жилете вздымалась ровно. Отто Бернард скорчился, утратив во сне наполеоновскую осанку и превратившись в жалкого старикашку, напоминающего побитую собачонку.
Поболтать было не с кем, и Штребль прилег, но тут дверь приоткрылась и появилась большая кудрявая голова старосты роты Вебера.
– Хауптман обходит роту, встаньте и приведите в порядок постели!
Штребль недовольно поднялся:
– Вот еще, черт побери! Нельзя и отдохнуть. Бер, вставайте!
Немцы с кряхтеньем и бранью поднимались со своих мест и поправляли смятые постели. Только один Ландхарт продолжал лежать, повернувшись лицом к стене.
– Вы что, Генрих, оглохли, что ли? – спросил его Шереш сверху.
– Идите к дьяволу! – глухо ответил Ландхарт.
– Полно, не дурите, Генрих, с хауптманом шутки плохи.
Хромов широко распахнул дверь. За ним появились одноглазый Петухов и Вебер. Комбат быстрым взглядом окинул комнату. Он сразу же заметил лежащего на нарах Ландхарта, но промолчал. После нескольких секунд полной тишины Хромов громко обратился к Веберу:
– Староста! Почему все люди сосредоточены по комнатам? Для кого организована библиотека, музыкальный уголок, танцкомната? Почему не посещают политбеседу? Что это за дрыхотня такая в неурочный час?
Вебер опустил глаза:
– Люди устал, господин лагеркомендант.
– Устали! Тут что, все лесорубы? Ага, ага, узнаю, – комбат покосился на Бернарда и Клосса. – Ну, я понимаю, тот устал, кто хорошо работал. А те, кто лодыря корчил? – он подошел к нарам, где лежал Ландхарт. – Староста, в роте имеются больные?
– Нет, господин лагеркомендант.
– Так почему же этот гад лежит? – все больше распаляясь, почти закричал Хромов.
– Ландхарт, штеен зи ауф, – зашептал Вебер.
Ландхарт приподнялся и повернулся к комбату. Его давно не бритое опухшее лицо было мокро от слез. Губы дрожали.
– Скажите ему, Вебер, – еле выговорил он, – что никакая сила не заставит меня снова идти в этот проклятый лес. Я им не работник.
Все испуганно замерли.
– Что он сказал? – спросил Хромов.
Вебер медлил с ответом.
– Он просить господин официр дать другой работа, – сказал он наконец. – Ландхарт есть автомеханик. Работа на лес нехорош.
– Ах нехорош! – иронически произнес комбат. – А мне вот нехорош командовать вашей свинячьей командой, а приходится. Еще каждый паразит будет мне свои требования выставлять! Вебер, скажи ему, этому болвану, пусть себя сначала в лесу хорошо проявит, тогда переведу в механическую мастерскую.
Хромов вышел, хлопнув дверью. Петухов немного задержался, подошел к Ландхарту и, тронув его за плечо, сказал:
– Не реви, не баба. Я поговорю с комбатом. А теперь, ребята, держите ухо востро! Кто и завтра норму не выполнит, комбат приказал в карцер садить без разговоров. Переведи-ка им, Вебер!
После ухода офицеров сон был забыт. Немцы принялись обсуждать случившееся и дошли до крика.
– Надо требовать, чтобы от нас убрали женщин! – громче всех кричал Раннер. – С ними мы никогда не выполним норму!
– И без женщин не выполним: слишком высокая норма!
– Однако же есть и такие, которые выполняют. Вот из-за них мы и будем страдать, – заявил Чундерлинк и покосился на Штребля и Бера.
– Вы бы лучше помолчали, Чундерлинк, – спокойно ответил Штребль. – Думаете, вас везли так далеко, чтобы вы здесь целый день в носу ковыряли? Скажите спасибо, что с нами как с людьми обращаются. Мы другого ждали.
До сих пор молчавший Ландхарт вскочил:
– И это вы называете человеческим обращением? Оторвали от семьи, завезли черт знает куда, загнали по колено в снег и заставляют выполнять невыполнимое! Чего же еще можно желать? Все прекрасно! Завтра вам не дадут жрать, если вы не выполните их проклятую норму, а если выполните, наградят миской вонючего пойла. Будьте довольны! Это, видно, идеалы коммунистов?
– Ну, вам не постигнуть идеалов коммунистов вашими профашистскими мозгами, – ответил все так же спокойно Штребль.
Сам он относился к коммунистам с некоторой симпатией, поскольку, как человек небогатый, считал, что мир устроен не совсем справедливо. Штребль с восьми лет был сиротой и после смерти матери жил сначала в доме деда-венгра, а потом у старшей сестры. Последние годы перед войной он неплохо зарабатывал на мебельной фабрике, и денег ему в общем-то хватало, чтобы прилично одеться, попить пива в воскресенье и в случае чего расплатиться с женщиной за доставленное ею удовольствие. Такая жизнь его вполне устраивала. Но если он задумывался о будущем, хотя это редко с ним случалось, то выходило, что ждать ему от судьбы подарков не приходится. Тогда он с завистью посматривал на богатые дома соседей, на их машины, а главное – на их красивых, ухоженных жен, и приходил к выводу, что коммунисты правы, когда говорят, что все должны быть равны. Но вступить в их партию ему бы никогда и в голову не пришло – у него были в жизни совсем другие интересы. Однако сейчас из чувства протеста он мог наговорить что угодно.
– А еще хотят, чтобы мы пели и танцевали, – не унимался Ландхарт, – это уж прямое издевательство! Вряд ли у кого-нибудь появится желание после этой адской работы петь и танцевать.
– Да, на голодный желудок много не натанцуешь, – поддержал его Чундерлинк. – Пусть уж танцуют те, кто талон заработал.