Смута Бахревский Владислав
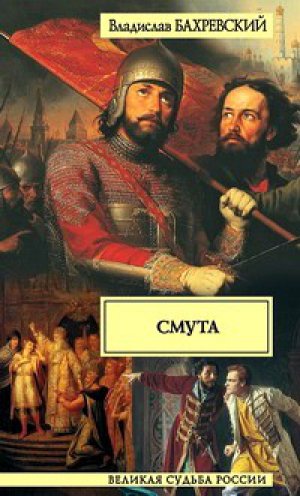
– Так ли? Еще надо ли?
– Ступай! – крикнула Марина Юрьевна. – Ступай прочь с глаз моих!
– Не прогневайся, царица! – сказала тихо русская. – Мы ведь все дуры неученые. Не прогневайся.
Топоры все тюкали, тюкали. Марина Юрьевна вышла поглядеть, скоро ли конец работе. В сенцах вокруг то ли ларя, то ли лохани копошилось не менее двадцати человек. Лица у всех озабоченные, но отрешенные. Увидели царицу, прекратили работу, почтительно потупились.
– Как же вы это вынесете во двор? – спросила Марина Юрьевна. – Или стену будете разбирать?
Все воззрились на государыню, на дело рук своих, ума своего. Хохот грянул так дружно, так весело, что, кажется, крыша над домом подскочила.
Работа была прекращена, корабль разобран и отправлен в печи.
Марина Юрьевна все еще веселилась, когда к ней пришли ее бернардинцы.
– Ваше величество, только что скончался святой отец Бенедикт Ансерын.
– Уж не наш ли смех его убил?! – ужаснулась Марина Юрьевна.
– О нет, ваше величество! Его убили тоска и Россия.
Вечером резко спала вода. Люди вышли во двор.
В ясном апрельском небе луна наливалась северным ледяным светом и вдруг у всех на глазах… растаяла.
Искали облака и не находили, но и луны не было!
– В небесах чудо за чудом, а жизнь наша никак не меняется, – сказала раздраженно Марина Юрьевна и удалилась в свои покои.
Она устроилась у печи и пожелала остаться в комнате одна, без свечей.
Язычки огня бежали по поленьям, и это было похоже на скачущих всадников, на герцы.
Вдруг Марина Юрьевна почувствовала, что ее взяли за левую руку и пощекотали ей ладонь. Она обмерла. Ведь никого рядом не было.
Домовой?
Русский домовой?
«Стало быть, я русская? Как же не русская, если русский домовой признал?»
Радостно встрепенулась, ударила в ладоши, позвонила в колокольчик, созывая фрейлин. Света, улыбок, польского умного, блестящего общества!
О домовом же – никому!
В конце мая до Ярославля дошел слух: в Москве дважды за один день сотрясалась земля.
Соглядатаи Мнишка приметили: в ярославских церквах народу прибыло. Русская земля – земля прочная, попусту трястись не станет, а коли она, твердыня Господня, поколебалась, младенцу понятно – грядет Страшный суд.
Через малое время известие не менее невероятное пристав Иоаким шепнул:
– Царь Шуйский приказал: сандомирского воеводу, и дочь его, и сына, и брата, и сына брата, и всех родственников, всех высокородных, почтенных людей везти на границу, пусть идут по своим домам.
– Ай да земли трясение! – радовался старый Мнишек. – Вот чудо так чудо! А мы все на небо глядим, на луну!
Однако на дворе все тот же Ярославль, и на другой день, и на третий…
Вдруг в полдень литавры, трубы, народ побежал к Спасскому монастырю, с горы глядеть, кто приехал.
А приехали польские послы Гонсевский и Олесницкий, задержанные в Москве еще со времени убиения царя Дмитрия Иоанновича, ныне же отпущенные в Польшу. От короля Сигизмунда на смену старому посольству говорить о мире приехали посланники пан Витовский и князь Друцкой-Соколинский. Слух пристава Иоакима оказался чистой правдой.
Горе и радость обуяли польский дом. С Мнишком уезжало сто десять человек. Москали не были так широки, чтоб отпустить всех. Двести человек оставались в заложниках, а с ними надежда, что им тоже выйдет воля, не от Шуйского, так от царя Дмитрия. Царь Дмитрий побил воевод Шуйского под Волховом, взял обоз, пушки, знамена… Поставил телеги в шестнадцать рядов и как пошел, так недружное московское войско и рассыпалось, будто мешок гороха.
То говорилось всем, а избранным на ушко иное: не крепки москали совестью, изменой добыта победа. Перебежчик Ванька Лихарев показал дорогу, по которой увозили пушки… Но для русских хуже перебежчиков их собственные воеводы. В первый день москали устояли, побили Рудского, Велигловского, а на другой день царев брат Дмитрий Шуйский решил пушки спасать. Пушки увезли с поля, увезли и отвагу. Слава победы досталась Рожинскому. Да и впрямь молодец, коли нагнал страха на царедворцев Шуйского.
Послы не без восторга рассказывали и о царе Дмитрии. К их величеству после боя шляхта явилась деньги требовать. А их величество засмеялся и обе руки войску подал:
– Я не могу царствовать в России без вас, достойных быть подножием престола Царя Небесного. Если Бог посадит меня на престол Москвы, я никогда не разлучусь с вами, поляки. Вот мое крепкое царское слово перед Богом и перед вами: в одном городе будет у меня поляк, в другом – русский. Верните мне мой престол. Хочу, чтобы все золото и все серебро, какое есть в России, было ваше, я удовольствуюсь одною славой.
Тронулись. Плакали оставшиеся. Хмурились, не умея иначе скрыть радости, получившие свободу.
«Серое деревянное русское кружево русского города! Как же оно наскучило! Может, через годы и вспомнится, еще и милым покажется, но теперь огня бы на все это!» Марина Юрьевна покосилась на Барбару Казановскую, та ехала зажмурив глаза.
– Что с тобой? – спросила царица.
– Боюсь проснуться в постели на соломе.
– Тогда не открывай глаз. Русские могут передумать…
И сама закрыла глаза. Бог с ними, с Волгой, с Которослью, с пригожими стрельцами.
Перед глазами явился иной поезд.
В ее карете у ног сидел глазастый арапчонок, играл с обезьянкой. Она восседала на серебряном золоченом троне, а напротив нее – не пышнозадая громадная Казановская, но княгиня Сохачевская, у которой кровь, кажется, и в самом деле была голубая.
Карета тоже была не из скрипучего дерева, но золоченая, горящая, как солнце, обитая изнутри красным ярким бархатом, с парчовыми подушками в жемчужных узорах.
Впереди кареты триста гайдуков, играющих на флейтах. Перед гайдуками – тысяча первейших в государстве людей. Хоть зубы себе сотрите в бессильной ярости, но ведь шествовали! Прошлого не закопать, не утопить, не сжечь. Шествовали, гордясь, что удостоены чести. У отца был гусарский конвой, родственники ехали на конях в роскошной сбруе: удила золотые, стремена серебряные, седла на ковровых чепраках или на шкурах рысей и барсов.
Отец скакал у дверей кареты на аргамаке, в багряном парчовом кафтане на соболях, шпоры и стремена из литого золота, с бирюзовыми каменьями.
Лакеев на запятках кареты – шестеро, все в изумрудных бархатных кафтанах, в алых суконных плащах, за каретою двести алебардщиков-немцев в изумительно благородных вишнево-фиолетовых кафтанах…
– Мост! – сказала Казановская.
Колеса загремели по деревянному настилу. Доски были белые, свежие. Мост, видимо, навели совсем недавно, река бурлила.
– Последняя вода нашей ссылки под нами, – сказала Марина Юрьевна.
– Я только вчера узнала, – встрепенулась Барбара, – Ярославль, оказывается, отстроен полькой.
– Полькой?!
– Ну да! Город сгорел дотла девятого июля пятьсот тридцать шестого года. Отстроить его повелела государыня Елена Глинская.
Помолчали.
– Вернусь на престол, выстрою Ярославль из камня.
Жесткий кошачий взгляд уперся в Барбару, Барбара не посмела ни улыбнуться, ни дыхания перевести.
– А почему Дмитрий, когда встречал меня тайно, в толпе, чтоб видеть торжество мое, чтоб насладиться этим торжеством, почему он взял с собой одного Шуйского? Почему?
Барбара снова не нашлась, что ответить, но Марина Юрьевна смотрела перед собой, в никуда.
У Шуйского мелко тряслась голова, но глазки свои он вдруг открыл. Смотрел так, что все перед ним опускали головы. Одна царица Марья Петровна, кроткая горлица, встречала взгляд мужа ласково, радостно, и царь принимался плакать.
Войска Вора, помыкавшись вокруг Москвы, стали в Тушине.
Рожинский сначала избрал иной план, занял Тайнинское, отрезал Шуйского от спасительного Севера, но скоро понял, что сам он остался без тылов. Московские воеводы, Скопин-Шуйский, Иван Романов, Лыков, Куракин, заняли южные дороги, перехватывая обозы и рассеивая шайки и отряды, спешившие под Москву, на большую поживу.
Вор привык хлеб-соль отведывать. В Козельске его почтили, в Калуге, в Борисове. Можайск только день воевал против «истинного царя». А в Тайнинском иное встретил. В ночь на 24 июня пушкари залили орудия свинцом, позабивали затравки гвоздями и бежали к своим, в Москву. Бежали, да не убежали. Пытали бедных, казнили. Кого на кол, кого саблями посекли.
Нет имен у тех пушкарей, не поминают их в церквах, не тратят на них слов историки… Простые пушкари, не пожелавшие смерти Руси. Из-за этих пушкарей чрезмерная близость к Москве показалась и Вору и Рожинскому опасной. Умолкшие пушки сорвали план обстрелов и приступов.
Обманным маневром – свернули знамена, вспять пошли – хитрые поляки очутились вдруг перед неготовыми к бою царскими воеводами и заняли Тушино.
Село Тушино названо по имени хозяина своего. Боярин Тушин получил сельцо в 1536 году, в княжение Василия III. Помирая, завещал дочери, княгине Телятевской. Место было красное, обжитое с давних пор. Еще в 1382 году московский князь Иван Данилович одарил этим селом боярина Родиона Несторовича Квашню за спасение жизни в жестокой сече. Гора, речка Всходня, луговое приволье – приглянулось этакое раменье монахам, которые построили здесь Спасо-Преображенский монастырь.
Заботясь о вечной жизни отца и матушки, детей, родичей, о себе грешной, княгиня Телятевская подарила Тушино монастырю.
О вечность! Люди все прикладываются к косяку каменной двери, прямо поглядеть никак не получается, а что видно искоса? Один свет слепящий, от которого темно.
Вечность у Бога. Бог же за посягательство на тайну свою наказует. Коли света хочется, учителю внемли. Учитель за спиной. Он – наше вчера. Помнить бы всем русским людям хотя бы одно Тушино. Много стыдного пережили предки, а Тушино все же особняком стоит. Тушино – позорный крест России. Крест надо нести, беречь как зеницу ока, дабы не повторилось… Где там! Дедушки наши на валы тушинских окопов как на реликвию глядели. Сама история! И гора была им не гора Квашни, не Тушинская, не монастырская, но Царькова.
Тушино покрыли шатры, будто слетелись птицы с железными когтями, чтобы ранить Русскую землю, чтобы русских людей склевать железными клювами, чтобы размести, развеять пепел русских городов серыми крыльями, что ни взмах – столбы гари да вихри огня.
Снова пришел царь Василий Иванович к провидице Алене. Алена уж совсем усохла, стала махонькая, темная, как кринка, в которой молоко оттапливают.
Увидев царя на пороге землянки своей, всплеснула Алена ручками, тонкими, как ивовые прутики, припала головой к животу его – выше уж не доставала – и заплакала. По нему ли, царю, по России ли, по народу ли нашему пропащему. Не решился Василий Иванович спрашивать, утер старушке слезы, умыл мокрой рукою свое лицо. И вот уж и чудо – перестала голова дрожать, глазки снова стали махонькими, поросячьими. И походка переменилась. Стал бочком ходить, видя впереди и позади. Так неслышно наступал на землю, что стража и та вздрагивала, когда являлся он вдруг будто из-под полу, из-под каменных плит.
Величаво, но с ласковым дружелюбием принял Василий Иванович на очередной встрече польских послов. В те дни это были самые милые, самые нужные люди русскому царю. Не Вор был страшен, но польское войско. Лжецари и лжецаревичи уж на двух руках не умещались: Петр, Август, Лаврентий, Федор, Василий, Симеон, Клемент, Савелий, Гаврилка, Мартынка, Ерошка… Были и совсем уж «быстрые» царьки. «Объявится» да, напустя в штаны, и сбежит той же ночью от подданных своих.
Озорников на Руси всегда было много, но баловать царским именем – Сатане угодить.
За три года русские люди до того издурили друг друга, что полподлости уж принимали за полправды. Эту всенародную мерзость и низость брал в расчет царь Шуйский. Но простак потому и простак, что хитрее его нет никого. Сегодня мы дураки, разбойники, шкуры продажные, соглашались простаки, а завтра все – симеоны столпники, послезавтра – христолюбивые хозяева.
Если трон Шуйского, скособочась, на одной ножке держался, то и под Сигизмундом, королем польским, сиденье было тряское. Поднявший мятеж пан Зебржидовский извинился перед королем 6 июня 1608 года, но у конфедератов тотчас явились другие вожди: Людвиг Понятовский, Януш Радзивилл, Андрей Колуский.
Противники Сигизмунда, явные и тайные, московскую карту держали за козырную. Послы короля это очень хорошо понимали и, желая расположить Шуйского, посылали к гетману Рожинскому, когда тот еще был в Звенигороде, еще только примеривался, с какой стороны подступить к Москве, эмиссара Петра Божковского. Божковский именем короля требовал от подданных его величества покинуть Самозванца, выйти из пределов Московии.
Теперь, перед заключением перемирия сроком на три года и одиннадцать месяцев, к Рожинскому в Тушино для образумления шляхты ездили самые влиятельные из комиссаров посольства Петр Бужинский и Станислав Домарацкий.
Они привезли приглашение от московских властей участвовать в переговорах и быть на подписании перемирия. Пункты договора были деловые, ясные. Речи Посполитой и Московскому царству владеть, чем владеют. Царь и король отказывают в помощи противникам законной власти. Сандомирский воевода пан Юрий Мнишек с дочерью выпроваживаются из России. Нового Самозванца Юрию Мнишку зятем не называть, дочери за него замуж не выдавать, Марине царицею московской – не именоваться, не писаться. Князьям Рожинскому, Вишневецким и другим, без королевского согласия вступившим в службу к злодею, ко второму Лжедмитрию, оставить его и к иным бродягам, которые вздумают называть себя царевичами российскими, не приставать.
Переговоры шли легко.
Послы князь Друцкий-Соколинский и пан Витовский были довольны. Недовольными оказались свои. К Василию Ивановичу приехал племянник Михайла Васильевич Скопин-Шуйский, возмущенный наглостью поляков. Люди князя Рожинского, въезжая в Москву, всякий раз выбирают иную дорогу к Кремлю, высматривают, сколько войск собрано в городе, крепки ли стены…
Царь и воевода говорили с глазу на глаз. И царь обнял своего юного воителя.
– Знаю, Михайла Васильевич! Знаю и вижу все ухищрения послов, тушинцев, про тайные встречи поляков с нашими некрепкими людьми тоже знаю. Многие почитают себя умней царя. – Невесело улыбнулся. – Июль на исходе. Август перетерпим, осенью сброду Рожинского неуютно будет в чистом поле. А там зима. Сами собой разбредутся тепла искать.
Князь стоял опустив голову, полнощекий, как мальчишка, длинные ресницы обиженно дрожали.
– Ты что, Миша?! Уж не обидел ли я тебя ненароком? – совсем по-отцовски спросил царь.
Скопин поднял глаза, но тотчас опустил.
– Скажи-скажи! – стал просить его царь. – Я первый перед тобой извинюсь, коли виновен.
– Упаси тебя Боже, государь… А про обиду – так и впрямь обидно… Василий Иванович! Государь мой! На Ходынке, вдоль реки, – у нас семьдесят тысяч с Иваном Никитичем, да на Ваганькове, в твоих царских полках, тысяч с двадцать пять… В самой Москве, по башням, с пушкарями, с осадными дружинами еще столько же… Чего нам отсиживаться? Пойти и побить.
Вздохнул государь, положил руки на плечи Михайлы Васильевича, на лавку усадил.
– Поостынь, поутихни… – Бородку пощипывал, глазками помаргивал. – Я ведь тоже на поляков ходил. На того Вора, на прежнего. Нас было тысяч восемьдесят, а у них двадцать. Но побили, и жестоко, нас… Еще когда от Болотникова отсиживались, я велел перевести с латинского языка книгу «Устав ратных дел». Без смысла в голове воюем.
– Отчего же без смысла? У нас свой смысл, русский.
– Не хочу я, чтобы русский смысл иноземным был бит… Чем кичимся – дурной силой, медвежьей хитростью? Истинный русский смысл, завещанный праотцами, в ином – перенимай все лучшее, положи перенятое на душу свою, и пусть оно станет частью тебя. Пусть тот, от кого перенял, у тебя своему научится. Таков он – русский смысл. Ни в каком народе нет столько души, как в нас, потому что она ларец драгоценностей.
И заплакал.
– Михайла! Михайла! В том и беда, что русские люди все попортились. Где они, души белые? На всякой червоточина, ржавчина, а то и кровь… Я бы хоть нынче: венец – под одну лавку, державу – под другую… Бог не велит. Пропадет без царя Русь. Мне еще в приход Болотникова открылась горькая сия истина. Неужто, кроме меня, про то не догадываются? Всяк меня готов обидеть. Все горазды! Даже Гермоген злословит… А что без меня сделается – мне и подумать страшно… Ступай к войску, Михайла Васильевич, свет мой драгоценный, десница моя неувядшая! И помни, ради Бога! Нам с тобой надо не перевоевать, а перетерпеть. Будь зорок, умоляю! За чужими смотри и не забывай на своих оглядываться.
Знали, хорошо знали – враг на выдумки горазд. И проморгали. Враг даже самых осторожных приучил к себе… Толпа поляков каждый день вступала в Москву, царские люди ехали в Тушино. Тушинские ополченцы из крестьян перекликались с московскими стрельцами. И те и другие грелись на солнце, теряя боязнь. Разговоры шли пресоблазнительные.
Кто он там, главный тушинец, Вор ли, истинный ли царь Дмитрий Иоаннович, но простому народу от него одна только прибыль. Поместья господ, служивших Шуйскому, крестьянам раздал. Где прошел истинный государь – всем воля, всем земля.
…Рожинский поднял войско в последнем часу короткой июльской ночи, подкрались к городу, ударили, когда ни света нет, ни тьмы.
На правом крыле царского войска стояли татары. К ним подобралась конница донских казаков, которых вел атаман Заруцкий. Заруцкий изготовился для атаки, но тут запели молитву муэдзины, и атаман дал время татарам, чтоб, помолясь, успели заснуть сладким утренним сном.
Первым на московские таборы напал конный полк Валавского.
Спросонья, в полутьме, среди пальбы, воплей раненых, бьющихся в ужасе лошадей кинулись, себя не помня. Все огромное войско бежало, бросив обозы, пушки, походные церковки…
Рожинский, торопясь сокрушить московские полки, послал всю конницу, всю пехоту… Гоня бегущих, можно и в Москву войти. И взять.
Царица Марья Петровна разбудила Василия Ивановича в самую полночь.
– Ворохтается во мне, государюшко! Уж так ворохтается!
Василий Иванович перепугался.
Побежал к лампадке, запалил от огонька свечу.
– Дохторов покликать? За Вазмером разве послать?
– Ой, не надо бы, Василий Иванович. Ты прости меня! С непривычки страх напал. Знак дите наше подает.
– Знак? – Василий Иванович погладил Марью Петровну. – Сына мне роди! Царь без наследника – царь не надолго. Значит, и служить ему можно вполдела, вполсилы. Завтра иному придется поклоны отвешивать.
Нежно прикоснулся к подрастающему животу царицы.
– Драгоценна твоя тяжесть! Всему Московскому царству она во спасение.
– Ох ты как! – тихонечко засмеялась Марья Петровна. – Ножками толкается… Может, и не ножками, а как ножками. Ой, шалун! Ой!
И вдруг заснула. Так вот сразу и заснула, радостно улыбаясь.
Василий Иванович набрал воздуха задуть свечу и не посмел. Хорошо ли свечу гасить, когда о ребеночке говорили? Тревожно сделалось. Какой дитя знак подает?
Василий Иванович прочитал молитву, вышел в соседнюю комнату, к спальникам.
– Одеваться! Поедем на Ваганьково. Поглядим, как стережется войско от неприятеля.
Василий Иванович выезжал через Никольские ворота, когда на Ходынке пошла пальба.
Ваганьковское поле, где стояли дворцовые полки, было обведено рвом, и по всему рву стояли пушки.
Пока бегущие, гонимые скатывались в ров, пушкари изготовились. Словно огромный, до небес, огненный бык боднул ужасным лбом польскую да казацкую конницу. Было поле зелено – стало красным. Еще скакали лошади с оторванными головами, еще кричали усатые человечьи головы, кубарем катясь по скользкой от росы мураве, но ужас уже бил крыльями за спинами наступавших.
Гонимые полки строились, а царские давно уже стояли наготове, и теперь пошли и пошли злые за испытанный позор бежавшие полки. Пошли по Ваганькову, по Ходынке, через реку и дальше, до самых Химок.
Здесь уже Рожинский собрал в кулак войско, повернул на москалей их пушки, лучшие в мире пушки.
И снова перекрутился вихрь, помчал, кровавя землю, в обратную сторону, до Ходынки, где и опал, обессилев.
В тот день вечерней зари не было, солнце село в серую мглу. Ему, равнодушному светилу, сделалось нехорошо от вида кровавой земли, от множества трупов людей, лошадей, от ужасной тучи ворон, сетью покрывших небо.
Хоронили убитых. Тушинское войско до того поредело, что «истинный» царь решил спать одетым, и возле шатра днем и ночью стояли наготове оседланные кони.
На похороны воинов Лжедмитрий явился с паном Меховецким, своим ближайшим, наитайнейшим советником. Князь Рожинский только глянул на соперника, и ни слова, ни жеста. Бой за Ходынку он объявил победой. Русский обоз и пушки остались за тушинцами. А то, что дорого заплатили, так ведь москалей больше побито.
Никто, правда, не считал, сколько и кого, но все поляки и все казаки «и так знали», что они воюют лучше москалей.
Тризна по убитым нежданно перешла в пиршество встречи. В лагерь явились славные рыцари с гусарами и казаками. Пан Марк Выламовский привел тысячу, Александр Зборовский – тысячу, Андрей Млоцкий две хоругви: роту гусар и роту казаков.
– Мне это нравится, – сказал Лжедмитрий Рожинскому. – Тысяча убыла, две прибыло.
Гетман поглядел на ухмыльнувшегося царя бешеными зелеными глазами и не нашелся что сказать.
Испив чашу за победу, вновь прибывшие командиры, улуча мгновение, попросили его царское величество дать им, не откладывая, аудиенцию в узком кругу. Государь вышел подышать воздухом, пригласив с собою Зборовского, Млоцкого, Выламовского.
– Беседа в лучах вечерней зари, – улыбнулся государь. – Говорите, господа, здесь нас слушает один только Бог. Секретничать под небесами было непривычно, но Зборовский собрался с духом и передал на словах предложение конфедератов заключить союз против короля Сигизмунда.
– Я друг свободы и шляхты! – Вор состроил лицо важное и суровое. – Быть нашему союзу или не быть – от вас же и зависит, господа. Если завтра утром вы добудете мне московский престол, то уже в полдень я отправлю лучшие московские полки на короля.
– Виват! – вскричал Зборовский, и его пылающее лицо понравилось государю.
Когда пир кончился, Марк Выламовский, изображая опьянение, засиделся за столом и, оставшись на минуту наедине с Лжедмитрием, предупредил его:
– Мне известно, конфедераты Понятовский и Высоцкий посылали своих людей к Шуйскому. Они просят его отправить под Смоленск сорок тысяч войска. Сигизмунд намеревается скоро объявиться в этом городе, но войск у него будет вдесятеро меньше… Если Шуйский опередит оказать помощь раньше вашего величества…
– То что будет? – ухмыльнулся Лжедмитрий.
– Я не знаю, что будет, но я знаю, с кем тогда будет шляхта.
Лжедмитрий засмеялся, махнул рукой.
– Откуда у Васьки лишние сорок тысяч! И что они – сорок тысяч москалей – перед четырьмя тысячами шляхты!
– Государь, вам забыли сообщить еще одну замечательную новость, – уже с порога воротился Марк Выламовский. – Староста усвятский Ян Сапега уже в пределах вашей империи.
Лицо «государя» стало вдруг печальным.
– Мне бы радоваться, ибо воинские доблести усвятского старосты хорошо известны, а я в тревоге. То, что хорошо мне, желающему возвратить престол, нехорошо моему народу. Приход каждой хоругви – это новые грабежи и, значит, обнищание моего народа и царства.
Выламовский удивился словам государя: не так-то прост царек!
– Я убежден, ваше величество, – нашелся он с ответом, – Сапега не допустит бессмысленного истребления богатств Московии. У его рода есть личная заинтересованность в скорейшем завершении войны. Прадед Яна Сапеги ясновельможный пан Богдан владел в Смоленской земле Ельней и Опаковом.
– Благодарю тебя, Марк. – У государя потеплел голос. – Я так мало знаю о людях, которые идут ко мне, окружают меня… Яну Сапеге я обязательно напишу.
Взял со стола попавшийся под руку серебряный кубок.
– Дарю!
Выходило – за сообщение о семейных притязаниях Сапеги. Выламовский порозовел, но не стал осложнять себе жизнь, принял подарок.
За письмо к Сапеге Лжедмитрий сел тотчас, завернув на краю стола скатерть.
«Весьма благодарим Вас и, снисходя к Вашему доброжелательству, всегда одинаково неизменному, объявляем Вам свое благоволение и хорошо будем помнить, когда с Божьей помощью воссядем на престоле своих предков, что обязаны щедрой рукой нашей царской Вас наградить. А теперь желаем от Вас, чтобы Вы с отрядом воинов польского народа как можно скорее прибыли в наш лагерь».
Далее государь просил не грабить мирных жителей, не убавлять достояния царства и пускался в обычные для себя обещания. «Как придете к нашему царскому величеству и наши пресветлые царские очи увидите, то мы пожалуем Вас своим царским жалованием, да таким, чего у Вас и на разуме нет».
Утром государь узнал, что у него есть канцлер. Гетман Рожинский не потерпел секретов, которые завелись у Лжедмитрия с новыми командирами, и возвел в канцлеры Валавского. Первое, что сделал Валавский, – напомнил государю, что он государь православный. Лжедмитрий спохватился и поехал в Спасо-Преображенский монастырь на обедню. В тот день поминали преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Лжедмитрий хоть и позавтракал, но кто же знал об этом, кроме своих. Захотелось удивить русский люд смиренностью. Последним встал в очередь приобщающихся Святых Тайн. У священника рука дрожала, когда подносил к государевым губам ложку с вином – кровью Господа.
Вышел из храма – на паперти канцлер ждет.
– Ваша супруга, великий государь, покинула Ярославль и следует к границе.
Лицо Лжедмитрия сделалось белым, капли пота повисли с надбровий.
– Мне понятна радость вашего величества! – поспешил сказать Валавский.
Лжедмитрий поднял на него глаза: белые, как у сваренной рыбы. Взгляд убийцы, выдавшего себя неосторожным словом.
– Я в радости, – сказал наконец Лжедмитрий, надсаживая севший голос, – но это так осложняет дело… Я желал положить к ногам царицы покоренную Москву, а мы в чистом поле.
Помчались сломя голову в лагерь. Были написаны десятки писем, отданы самые спешные приказания. Гонцы отправились во все пограничные города, присягнувшие на имя царя Дмитрия Иоанновича.
«Литовских послов Гонсевского и Олесницкого, всех литовских людей, едущих из московских земель, перенимать и в Литву не пускать. А где их поймают, тут для них поставить тюрьмы».
За царицей был отправлен сам Валавский с полком гусар. Вечером, ради своей государевой радости, Лжедмитрий устроил пир и был так весел, так ласков со всеми, так мечтательно задумывался, что даже Меховецкий, учивший походить на Дмитрия Иоанновича, занервничал: наваждение, да и только! Перед ним в ином теле витийствовал дух истинного Дмитрия Иоанновича.
Но вот и ночь. Лжедмитрий впервые за весь ужасный день остался один. Огни в шатре погасили, и государь подземным тайным лазом перешел в обычную солдатскую палатку, храня себя от злоумышленников.
Через открытый полог глядел на полную луну, с детства любя ее белый лик больше солнца.
То была редкая для Москвы ночь – без облаков, без сырого воздуха с рек и болот – теплая, сухая, как в степи.
Кузнечики друг перед другом косили траву. Трава не падала под их звенящими косами, а только сверкала. И пахло, пахло мятой.
Вдруг луну перечеркнуло что-то быстрое, черное. Лжедмитрий напряг зрение. В небе пусто, лик светила безмятежен. Он сморгнул, когда снова луну оскорбили молниеносным черным зигзагом.
– Да ведь это птица! – догадался Лжедмитрий. Он и не знал, что какие-то птицы летают по ночам.
Его птичка тоже вот явилась из ярославского небытия. Он никогда не вспоминал о Марине. Он даже не знал, какое у нее лицо, портрет не удалось добыть.
Меховецкий, рассказывая о царице, припоминал малости, чтоб государь мог удивить неверующих. Вспоминал, как Марина ударила по щеке истопника – тот наступил на ногу арапчонку. О верховой прогулке, когда Марине на плечо села черная бабочка… И о том, как мило она перепутала ель с лиственницей и как обрадовалась нежной хвое, когда Дмитрий Иоаннович пощекотал ей ручку веткой.
– Глупее нет – погибнуть из-за женщины! – Лжедмитрий понимал, что именно привело русских в ярость. Не то, что поляки – поляки, а то, что польские женщины ровня мужчинам. Осудил Дмитрия: – Слово держал, дурак. Чтоб у царя – да слово!
Лжедмитрий ухмыльнулся, да так, что сам почувствовал мерзость и подлость своей ухмылки. И загрустил.
Неужто красота так сильна, что умный, а стало быть, вполне бессовестный предшественник не одолел сладких пут… Может, все-таки не красота пленила – побоялся остаться с русскими один на один. Или что-то иное? О невероятной гордости Марины всяк спешит помянуть. Гордости Лжедмитрий никак себе вообразить не мог. Гордость – вторая глупость.
Пока что, в тушинские дни, он не знал женщин, было не до услад. Теперь же раздумался, распаляя в себе похоть.
Он желал, и не кого-то – Марину. Гордячку. Эту ясновельможность в царицыной короне набекрень. И сокрушенно качал мудрой головой. Баба, погубившая предшественника, и его могла убить одним капризным словом. Одним отрицающим жестом. Разве не разумнее сплавить эту напасть подальше от Москвы?
– Так ведь неразумно! – чуть не с ненавистью возразил он сам себе.
Презрение князька Рожинского можно и перетерпеть, но о том, что их величество – Вор, не таясь рассказывают каждому, кто появляется в тушинском лагере.
– Марина! Ты должна, рыдая, кинуться в объятия супруга на глазах всей Москвы и всего Тушина.
Померещилось: он смотрит, как змея. Ему не хотелось улыбаться, Но он заставил себя растянуть губы в самой гадкой ухмылке. Он, сидящий по шею в блевотине вранья, не испытывал ни отвращения, ни даже неудобства.
Завораживала всеобщая тяга в эту его блевотину.
Ясновельможный пан и князь Рожинский уж такой располяк, а к ручке «царской» подходил, прикладывался, слизывал выблеванное. Все эти Тышкевичи, Зборовские, Валавские с черпаками поспешают хлебнуть. Пан Сапега и тот не утерпел.
Попытался представить Марину, осу золотую, чтоб и ее окунуть с головой в свою мерзость.
Нарисовалось нечто паскудное, широкозадое. Зад почему-то красный, ошпаренный, талия – двумя пальцами обхватишь, а грудки как морковки…
Он хохотал до изнеможения, до икоты.
– Ваше величество! – Из подземного тайника торчала голова Рукина. – Ваше величество! Из Москвы князь до вашего величества прибежал.
– Какой князь?
– Не говорит. Но наши узнали – Дмитрий Тимофеевич Трубецкой.
– Трубецкой?! – Лжедмитрий свистнул. – Трубецкому мое царское величество изволит явить пресветлые очи! Гыгыкнув, полез в нору вслед за Рукиным.
Поменял в тайном закутке шатра солдатское платье на царское, вышел к Трубецкому ласковый, величавый. Стал возле трона, опершись на его высокую спинку локтем и подперев голову ладонью. Уж очень это выглядело умно.
– Сегодня полная луна, князь. Света так много, что, надеюсь, вы узнали меня.
– Государь! – пал на колени Трубецкой. – Бог тебя спас ради России.
Принялся кланяться, проворно вскакивая на ноги, падая, бухая лбом в ковер.
Лжедмитрий подошел к князю, поднял его, повел за стол, на который Рукин поставил два кубка, и, наполнив вином, отведал из обоих.
– Я не спрашиваю, почему ты здесь, князь. К государям приезжают служить. Быть тебе, Дмитрий Тимофеевич, по праву рода твоего и по уму твоему – первым боярином в царстве.
Дмитрий Тимофеевич тотчас повалился государю в ноги, и государь на этот раз не помешал, принял всю дюжину поклонов, которые истово отбил первый боярин тушинского государства.
Марина Юрьевна уже миновала Углич и Тверь. Таяли версты, душа обмирала от ожиданий и надежд. На первой же ночевке после Твери царица вдруг выказала полное непослушание начальнику конвоя князю Долгорукому.
У князя было всего полтысячи драгун, он желал поскорее исполнить царский наказ – выпроводить семейство Мнишков за пределы государства. Опасаться было чего. Под Тверью дозор лоб в лоб съехался с разведкой пана Валавского.
– Вы люди Долгорукого? – спросил дозорных ротмистр Сушинский.
Дозорные помалкивали, но ротмистр рассмеялся.
– Мы вам не помеха, панове! Езжайте на все четыре стороны. У нас одна забота – как бы ненароком не повстречаться с поездом царицы Марины.
Валавский, узнав, как близок он от цели, немедленно пошел в обратный путь. Воинство, бывшее с Самозванцем под Орлом и Волховом, боялось своенравной Марины. Она хоть и соломенная вдова, но царица, венчанная царица, миром помазанная. Захочет ли поддержать обман? А коли не захочет – всему предприятию конец. Князь Долгорукий не знал о сомнениях тушинцев, он боялся нападения, он торопил нарочито медлящий поезд. А поляки то возьмутся колеса у царицыной кареты менять, то у пана Мнишка лошадь на вожжу наступила, порвала. И снова остановка: у Марины Юрьевны от сметаны живот разболелся. Объявила, что не может бегать на виду у целой тысячи народу по кустам, по лесам.
Село, в котором остановились, было большое. Оно принадлежало двум братьям. Один ряд домов Ждану, другой – Втору.
Марина Юрьевна выбрала дом с резьбой, дом младшего брата, Втора. Старший, Ждан, обиделся и выказал себя ужасным противником поляков, выпустил из псарни две сотни свирепых собак. Сразу же появились покусанные, свои и чужие. Пришлось по избам сидеть, а на одну избу с трубой три избы топятся по-черному. Кругом сажа, от детей теснота, от скотины вонь, мухи на стенах слоями. Поляки возроптали, но от царицы последовало строгое указание – терпеть и противиться движению.






