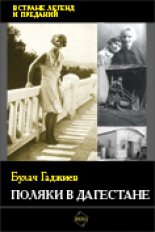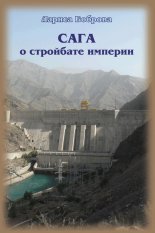За всё, за всё тебя благодарю я. Лучшие стихи Золотого века о любви Лермонтов Михаил

© Нина Щербак, сост., вступит. ст., 2011
© ООО «Издательство Астрель», 2011
© ООО «Астрель-СПб», оригинал-макет, 2011
* * *
«Ах, обмануть меня нетрудно… Я сам обманываться рад!»
Поэтов «пушкинской плеяды» объединяют не только стихи о любви и России, поиски нового слога, рифмы, письма, встречи, литературные общества… Их объединяет благородство помыслов, романтичность, мужская дружба, в чем-то бесшабашность, а главное, – преданность идеалам. Большинство поэтов того времени принадлежали к дворянскому сословию, получили прекраснейшее образование, участвовали в войнах, которые вела Россия в первой половине XIX века… Их отношение друг к другу, к жизни, к женам и возлюбленным заслуживает восхищения, а иногда удивления… Так бывает!
Петр Андреевич Вяземский родился в 1792 году в Москве. Отпрыск княжеского рода, он принадлежал к старинной феодальной знати. В 1805 году отец поместил сына в петербургский иезуитский пансион, затем Петр вернулся в Москву, где пополнял свое образование, беря частные уроки у профессоров Московского университета. После смерти отца ему, шестнадцатилетнему юноше, осталось довольно крупное состояние. Молодой князь Вяземский вел в эти годы весьма рассеянную жизнь, азартно играл в карты; но вместе с тем именно в этот период у него сложились прочные литературные связи, надолго определившие его творческий путь.
Сам Вяземский так рассказывал о своих юных годах: «С водворением Карамзина в наше семейство письменные наклонности мои долго не пользовались поощрением его. Я был между двух огней: отец хотел видеть во мне математика, Карамзин боялся увидеть во мне плохого стихотворца. Он часто пугал меня этой участью. Берегись, говаривал он: нет ничего жальче и смешнее худого писачки и рифмоплета».
Затем грянул грозный Двенадцатый год. Вступив в ополчение, Вяземский в чине поручика участвовал в Бородинском сражении, где под ним убили две лошади. За спасение генерала Бахметева он был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом.
Вяземский рано стал взрослым человеком. Не достигнув и двадцати лет, он женился на княжне Вере Гагариной – девушке чрезвычайно образованной, милой и необыкновенно, до странности, доброй. Это было взаимное пылкое увлечение двух схожих натур: Вера Гагарина была остроумна, находчива в разговоре, снисходительна к слабостям других и читала книги, подчас весьма серьезные, не для молодых барышень. Князь Петр Андреевич прожил «с княгиней доброй и прелестной» (выражение Пушкина) без малого 67 лет, похоронил семерых детей – последнюю, Марию, совсем уж взрослой, тридцати с небольшим. Княгиня всегда была рядом: и в горе, и в радости. Прощала ему все мелкие слабости, неверные шаги, глупости, увлечения другими дамами (среди которых была и блистательная графиня Фикельмон)… Она только лукаво щурилась, грозила мужу веером, качала головой и удивлялась про себя: что они находят в этом непривлекательном лице с крупными чертами? Впрочем, тут же находила ответ: в ее муже дам привлекала непринужденность и острота мысли. Об отменно светских манерах князя ходили легенды. Графиня Фикельмон во впечатлении о первой встрече с Вяземским сразу отметила: «чрезвычайно любезен». Это было главное, что бросилось в глаза весьма наблюдательной женщине, воспринимавшей этикет как естественную часть жизни.
Свободолюбивые идеи Петра Андреевича тогда окончательно оформились. Он сблизился в Варшаве со многими из тех, кто потом принимал участие в декабристском мятеже и польском народно-освободительном движении 1830-х. Вяземский составлял записку об освобождении крестьян, проект которой предполагалось подать на рассмотрение императору Александру I. Агент III Отделения доносил своему шефу графу Бенкендорфу: «Образ мыслей Вяземского может быть по достоинству оценен по его пьесе (т. е. – стихам. – Примеч. сост.) «Негодование», ставшей катехизисом заговорщиков»:
- Свобода! О, младая дева!
- Посланница благих богов!
- Ты победишь упорство гнева
- Твоих неистовых врагов.
Кстати, Николай I не напрасно как-то заметил: «Князь Вяземский избежал участи арестанта только потому, что оказался умнее и осторожнее других».
Разгром движения декабристов был для Вяземского прежде всего огромной личной драмой. Он терял друзей и единомышленников. Атмосфера в обществе становилась все более тяжелой. Его опальное положение длилось долгих девять лет. В 1828 году оно осложнилось клеветническим доносом на якобы его непристойное поведение. От имени императора московскому генерал-губернатору Голицыну было приказано «внушить князю Вяземскому, что правительство оставляет собственно поведение его дотоле, доколе предосудительность оного не послужит к соблазну других молодых людей и не вовлечет их в пороки. В сем же последнем случае приняты будут необходимые меры строгости к укрощению его безнравственной жизни». Это «высочайшее оскорбление» было тем более обидно, что непосредственным поводом к нему послужил опять-таки донос о том, что Вяземский намерен издавать под чужим именем некую «Утреннюю газету». Он же не имел об этой газете никакого понятия.
От мысли эмигрировать Вяземскому пришлось отказаться из-за того, что семья росла и денег было не очень много. Дети часто болели, средства уходили на их лечение. Кроме того, хоть и убежденный враг реакции, но он, как дворянин, был все же монархистом – принадлежал, как тонко выражались тогда, «к оппозиции Его Величества». Князь выбрал свою дорогу, решив, что ради чести древнего имени и будущего детей, он должен примириться с правительством. В декабре 1828-го – январе 1829 года Вяземский пишет свою «Исповедь» – обширный документ, в котором с достоинством излагает свои взгляды и идеи, принося извинения императору за резкость, с которой он высказывал их. Исповедь князя была в феврале 1829 года отослана Жуковскому в Петербург, а через того передана графу Бенкендорфу, затем императору Николаю I. Тот потребовал от князя Петра Андреевича личных извинений перед собою и братом своим, великим князем Константином, наместником Варшавы. Была ли эта аудиенция или нет, неизвестно, но раскаявшийся «республиканец-монархист» уже в феврале 1830 года получил первое государственное назначение – он стал чиновником по особым поручениям при министре финансов графе Канкрине. Должность была более чем почетная.
Пушкин беззлобно подшучивал над Вяземским в письмах того времени: «Настоящая служба твоя – при графине Фикельмон. Она удержит тебя в Петербурге…» (дословная фраза из письма 1831 года) – намекая на его бурные успехи в светских салонах, на установившиеся теплые личные отношения «с посланницей богов, посланницей австрийской» (выражение самого Вяземского). Впрочем, отношения эти больше были похожи на «влюбленную дружбу».
Вяземский был удивительно жизнерадостный человек. Иронизировал, подтрунивал над собой, его язвительные остроты друзья записывали в альбомы, запоминали наизусть. Говаривали, что в его чувстве юмора есть что-то необычное, немного холодное, как бы ускользающее от понимания. А разгадка, возможно, заключалась в том, что в его жилах текла по материнской линии англоирландская кровь. Никто не видел его слез. Их почти не было и у могилы дочери Полины, в цветущем и равнодушном Риме. Княгиня плакала навзрыд, почти теряя сознание, но он словно окаменел… Вернувшись в Петербург (май 1835-го), запирался в кабинете, заполнял заметками записные книжки. Вечерами приезжали немногие гости, вели негромкие разговоры с княгиней Верой, пили чай. Частенько заглядывал и Пушкин. Его приезду Вяземский бывал особенно рад, уводил в кабинет, где они сидели, вспоминая, или молчали, думая каждый о своем. Встречались на светских раутах – Пушкин казался задумчивым и желчным одновременно. По гостиным в то время уже ползли слухи о предстоящем скандале, недопустимом поведении Жоржа Дантеса. Но Вяземский был так поглощен своим собственным горем и печальными размышлениями, что не придавал должного значения этой, как ему казалось, затянувшейся светской сплетне. Как же он казнил себя за то, что вернулся домой слишком поздно в вечер перед этой злосчастной дуэлью! На следующий день свершилось непоправимое… Февральские снежинки падали на воротник его шубы, но он не замечал ничего. Гроб с телом Пушкина стоял в церковном подвале. Пушкина не было.
Сохранилось огромное количество писем Пушкина к князю – семьдесят четыре. Чуть больше было только к жене. Пушкин с признательностью и благодарностью отвечал на все замечания Вяземского, а особенно – на его критические статьи по поводу его ранних поэм: «Цыганы», «Полтава», «Кавказский пленник». Он писал Вяземскому: «Пусть утешит тебя Бог за то, что ты меня утешил! Приятно выслушать мнение о себе умного человека!» А, вспоминая о Пушкине, Вяземский говорил: «Он судил о труде моем с живым сочувствием приятеля и авторитетом писателя и опытного критика, меткого, строгого и светлого. Вообще, хвалил он более, нежели критиковал… День, проведенный с Пушкиным был для меня праздничным днем. Скромный работник, получил я от мастера-хозяина одобрение, то есть лучшую награду за свой труд».
Просматривая огромное количество критических заметок, статей и воспоминаний, посвященных Вяземским Пушкину, нельзя порою отделаться от мысли, что Вяземский как бы пытается загладить невольную свою вину перед поэтом. Был самым близким другом, а не сумел спасти, помочь, уберечь! Вяземский не защищался от этих обвинений – косвенных и прямых. Он так и пронес тяжесть их до самого конца. Его письмо о последних днях жизни Пушкина, написанное по просьбе Жуковского, исполнено горячей любовью к другу. Там есть строки: «Разумеется, с большим благоразумием и меньшим жаром в крови и без страстей Пушкин повел бы это дело иначе… Но на беду, провидение дало нам в нем великого Поэта».
Рок как будто преследовал поэтов того времени. В 1931 году Пушкин глубоко переживал уход своего близкого друга Антона Антоновича Дельвига, которого еще недавно (и так бесконечно давно!) поздравлял с женитьбой: «Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига, – писал он под впечатлением понесённой потери. – Без него мы точно осиротели. Смерть Дельвига нагоняет на меня тоску. Помимо прекрасного таланта, то была отлично устроенная голова и душа незаурядного закала. Он был лучшим из нас».
Взаимные отношения Пушкина и Дельвига представляют собою редкий и умилительный пример: дружба их была на редкость тесная, основанная на взаимном понимании и уважении; с момента вступления в Лицей. В 1815 году Дельвиг писал:
- Пушкин! Он и в лесах не укроется:
- Лира выдаст его громким пением,
- И от смертных восхитит бессмертного
- Апполон на Олимп торжествующий.
Когда Дельвиг задумал жениться, Пушкин, узнав о предстоящей перемене в судьбе друга, принял весть с волнением. «Женится ли Дельвиг? Опиши мне всю церемонию. Как он хорош должен быть под венцом! Жаль, что я не буду его шафером», – писал он Плетневу в середине июля 1825 года из Михайловской ссылки, где незадолго до того посетил его Дельвиг, а вскоре писал самому Дельвигу: «Ты, слышал я, женишься в августе, – поздравляю, мой милый! будь счастлив, хоть это чертовски мудрено».