Смута Бахревский Владислав
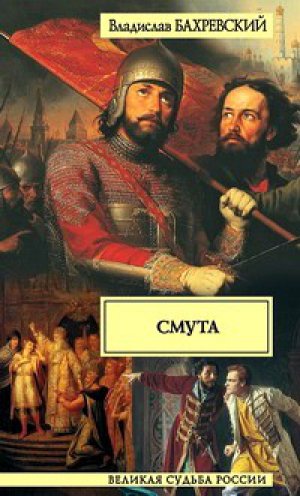
– Одеваться! – приказал Вор и, пока его одевали, непристойно сквернословил.
Уже в шляпе, при сабле, он, опираясь на плечо Рукина, вышел из шатра и вдруг замахал руками, спасая глаза от солнца, и, растолкав стремянных, кинулся в шатер и упал на постель, не позволяя даже сапог с себя снять.
– Королева моя! – взывал он истошно. – Я отлежусь и поеду к тебе! Полечу! Поползу! Марина! Марина!
Рукин так и не смог понять, ради кого и зачем разыгрывал Вор очередную комедию, но он поймал себя на том, что его снова разбирают сомнения. Знал, что Вор это Вор, и сомневался…
Утром 31 августа отряд Яна Сапеги встал лагерем за версту от Тушина. На последнем переходе сандомирский воевода не покидал кареты дочери. Ночью Марина Юрьевна плакала, а проснувшись, разорвала в клочья ночную рубашку.
– Марина, – умолял пан Юрий, – тебе надо перетерпеть несколько минут всего. Вообрази, что ты отсутствуешь. Марина Юрьевна зло смотрела в одну точку.
– Я устала от уговоров вашей милости. Я знаю, что надо делать, но боюсь, это выше моих сил. Я буду кричать. Я буду кричать, я буду колотить ногами и руками.
– Дочь моя! Если бы крики и вопли твои, слезы твои хрустальные могли вернуть Дмитрия Иоанновича… О Боже! Они только и могут, что ввергнуть вашего отца и вас в нищету.
– Я буду кричать! Я раздеру ногтями его поганое лицо.
– Но почему поганое? Вы его не видели ни разу.
– Он – вор! Он – вор!
– Да, он обманщик. Но без него вы только грустная вдова, женщина без будущего! С ним – вы царица.
– Господи! Что за отца ты дал мне?! Господи! Осталась ли на земле хоть единая росинка совести?
Карета остановилась. Марине Юрьевне и пану воеводе подвели оседланных лошадей.
Мнишек смотрел на дочь, и старческие глаза его, полные слез, умоляли. Прошептал, подсаживая в седло:
– Не погуби!
Марина Юрьевна ничего не ответила и ничего не решила… Ударила хлыстом по крупу лошади, поскакала. Отец тотчас догнал ее, вглядываясь во всадника, выехавшего к ним навстречу из кавалькады рыцарей.
– Это князь Рожинский! – Облегчение и озабоченность отразились на лице Юрия Мнишка. – Где же государь? Князь Рожинский приветствовал Марину Юрьевну краткой речью и сообщил о недомогании Дмитрия Иоанновича.
Легкие пушки Сапеги в честь «великой государевой радости» троекратно тявкнули, пороховые облака улетели к Москве. На том встреча и закончилась. Все принялись за дела житейские: рыть землянки, ставить шатры, насыпать оборонительный вал. К Мнишкам приехал из тушинского лагеря Павел Тарло, двоюродный брат Марины Юрьевны. Сообщил, что государь ради родства и великой радости подарил ему двадцать тысяч злотых. Не пообещал, а подарил!
– Не плата ли это за немоту вашей чести? – спросила Марина Юрьевна, но Тарло ответил беззаботно:
– Если плата, то не скупая. Государь никому еще ни злотого ни за какие услуги не заплатил.
Марина Юрьевна задрожала от неистового, нутряного гнева.
– Пан Павел, если в Тушине польская честь в продаже, то, должно быть, здесь и Богом торгуют!
– Богом не торгуют, – с нарочитой простотой ответил Тарло. – Для государя всякий Бог в строку: Магомет, Иегова, Христос.
– Вы многое постигли, пан Тарло, у своих новых владык. Но если в вас осталась хоть капля родственного тепла, если вы – рыцарь, скажите мне не отводя глаз: это Он?
Тарло покосился на князя Масальского и ответил, расплываясь в улыбке:
– Я узнал государя.
– Но что тогда с ним? Почему он не пожелал меня видеть? – Государь приболел. Ему не хотелось огорчить ваше величество своим нездоровьем.
– Князь Василий! – Марина Юрьевна подошла к Масальскому и взяла его за руку. – Вы были другом государя. Отвечайте, это – Он?
– Ваше царское величество, узнав о спасении Дмитрия Иоанновича, я тотчас вступил в его службу, но я еще не видел государя.
– Вы – русский человек, князь. Вам нет корысти обманывать меня. Поезжайте в Тушино. Я хочу знать правду.
– Государыня, клянусь: что увижу, то и передам вашему величеству.
Верста туда, верста – обратно. За час на хорошем коне четыре раза можно бы обернуться. Но князь Масальский не являлся.
Марина Юрьевна вознегодовала, и тут к ней тихо пришел брат Станислав.
– Не сердись на меня за неутешительное известие, ваше величество.
– Величество! Величество! Говори, ради бога! Самое дурное, непотребное! Только лжи не надо. Перекормлена враньем.
– Князь Масальский бежал в Москву.
– Он был у государя? – быстро спросила Марина Юрьевна.
– Был.
Марина Юрьевна сложила руки у груди, и лицо у нее стало маленькое, и ничего на нем не осталось, кроме глаз. Как в отрочестве, когда матушка лишала ее за упрямство бала, верховой прогулки или просто сладкого.
Поздно вечером из Тушина приехал пан Меховецкий – проводить пана воеводу и ближайших родственников царицы на ужин для своих.
Стол Лжедмитрия был поставлен отдельно на помосте. Тридцать свечей гнали все тени и полутени с лица его величества.
В голубой шелковой ферязи со сверкающими голубыми запонами, в голубых перстнях на всех пальцах, он сидел как бы в глубокой задумчивости, не отвечая на приветствия гостей.
Пан Мнишек, собиравшийся произнести речь, вспыхнул было, но Меховецкий усадил его за стол у помоста, напротив государя, и сел с ним рядом. Рукин и другие ближние люди государя провели на их места Константина Вишневецкого, Олесницкого, Тарло, братьев Юрия Мнишка, их сыновей. Сын Мнишка, брат царицы Станислав, получил место слева от Меховецкого.
Все уже сидели, но молчание не прерывалось. Лжедмитрий позволял рассмотреть себя подробнейше и как можно пристальнее.
Пану воеводе показалось – не кукла ли это? Но государь движением пальцев прогнал муху с края своего кубка и улыбнулся.
– Родственников ли я вижу перед собой?! – спросил он негромко, но внятно.
Все взоры устремились на пана Юрия.
– Здоровья государю императору! – Мнишек осушил кубок. – Виват!
Он очень гордился потом своим «тонким» ходом. И от вопроса напрямую ушел, и ни одного мостика ненароком не сжег. Признать государем того, кого все называют государем, – это все-таки не признание в Лжедмитрии Дмитрия. Но государь тоже был непрост. Выпил ответную чашу за отца жены и, сказавшись больным, тотчас всех и отпустил: ни пира, ни беседы.
В великой досаде воротился воевода в лагерь Сапеги.
Марина Юрьевна молилась со своими иезуитами. Их оставили с глазу на глаз.
– Пока это Вор, – сказал пан Юрий, пронзая дочь честным взором.
– Пока?
– Он станет родным, когда выплатит мне триста тысяч и обеспечит будущее нашего рода признанием за нами Северского княжества.
– А в моем узнавании уж никто, видимо, не нуждается? – спросила отца Марина Юрьевна, глаза у нее заледенели. – Знайте, отец. Ради спокойствия моей совести я отвергну любой сговор.
– Но что вы желаете взамен?! – рассвирепел пан воевода.
– Царства! Я – помазанница. И мне на моем царстве ни лжец, ни лжецы не надобны.
– Господи! Какое непозволительное прямодушие! Но знайте, ваше величество, воинство, пришедшее под стены Москвы, не позволит одурачить себя!
Марина Юрьевна рассмеялась удивительно весело и легко.
– О Дева Мария! Люди вокруг меня и во всем этом царстве изолгались до такой степени, что солнце называют луной, а луну солнцем. При них нельзя именовать день днем, а ночь ночью. Господи! Дева Мария! Пробуди меня скорее. Мой сон страшен! Я боюсь, что мне уж не дано проснуться!
Следующие два дня были тяжелыми для всех. Марина Юрьевна никого не допускала до себя. Но и Лжедмитрий затаился. В войсках пошли разговоры: «Не сторгуются никак. Пан Мнишек полцарства просит».
Вдруг новость как молния. Из Москвы перебежало сразу пятеро бояр. Измена Масальского не навредила Вору. Вор тотчас и выздоровел. Пригласил московских людей пред свои царские очи. То были князь Алексей Юрьевич Сицкий, князь Михаил Матвеевич Бутурлин, два брата, два князя Засекины Иван да Федор Васильевичи и князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский.
– Государь, – сказал за всех князь Сицкий, – к тебе скоро вся Москва на поклон придет. Мы как узнали, что государыня к тебе пришла, так и не стали больше медлить. От Шуйского одни убытки да несчастья. Прими нас, сирых, на свою царскую службу. Хотим видеть твои пресветлые очи, служить, куда ни пошлешь.
– Служба будет, – обрадовал князей государь. – А пока выбирайте себе место, ройте землянки – скоро дожди пойдут… Я бы мог одолеть московские стены силой – не хочу людей губить, не хочу устроить пепелища из моего ненаглядного стольного града.
И, отпуская от себя князей, спросил ненароком:
– Как там Вшивый базар? Волосья с него убрали?
– Нет, государь! Не убрали! – ответил Черкасский.
– А ведь я приказывал убрать.
Проводив русских, Вор стал приготовляться к обеду, на который был зван усвятский воевода Ян Сапега. Советы ему давал Меховецкий.
– Дружба с Сапегой, – говорил он, стоя за спиной государя и вдалбливая в темечко самое нужное и важное, – избавит ваше величество от опеки проклятого грубияна Рожинского.
– Я слышал, Сапега такой же самодур, как и наш гетман. – Так ведь и нет надобности менять одного на другого. Надо обоих держать возле себя и уничтожать их властность их же противостоянием. Вы понимаете, государь? Их властность их же противостоянием.
– Они не курицы, чтобы собирать зерна за петухом.
– Было бы хуже, если бы их претензии были малы или посредственны. Они, имея по две-три тысячи солдат, желают приобрести для себя десятки городов и многие тысячи бесплатных работников… Упаси вас господи избрать одного из них! Пусть они служат делу вашего величества, пока русская сила не перетечет на вашу сторону. Тогда и Рожинский и Сапега станут так малы, что о них можно будет… забыть.
С Сапегой государь обедал за одним столом.
– Я представлял вас человеком с сединами! – удивился государь молодости усвятского воеводы.
– Мне тридцать два года, – назвал свой возраст Сапега. – Но я столько воевал, что мне все шестьдесят.
– А сколько тогда мне лет? Меня дважды убивали… Я на долгие годы исчезал из жизни. – Государь вдруг рассмеялся. – Предлагаю вашей милости быть мне ровесником! – Наше время от Бога! И слава и бесславие!
– Да пропади он пропадом, такой Бог, когда к ребенку подсылают то с ядом, то с ножом! – Безобразное лицо государя вспыхнуло, и он даже красив стал. – Васька Шуйский сколько раз крест целовал и Богом клялся, и всякий раз истое слово его было вперекор прежней клятве. Богу, ваша милость, не до нас. Зачем ему в нашем дерьме копаться!
Глаза государя словно подернулись мутной пленкой, красные мясистые губы развалились, показывая острые рыбьи зубы и кривые клыки.
– Вот я встану сейчас и скажу Богу. – И встал, и, поводя головой по-змеиному, крикнул: – А пошел ты, Бог, вон из моего шатра!
Сапега побелел от изумления, а государь плюхнулся за стол, заходясь в смехе.
– Что же это Господь не прибил меня как муху? Или ему кощунство тоже по нраву, как и молитвы праведников? Вошли слуги с подносами и кубками, и государь, махнув рукою, приглашая гостя к трапезе, ухватил зажаренное чуть не до углей утиное крыло, захрустел перепаленными косточками не хуже собаки.
Вся еда была грубой, приготовленной скоро, без приправ, да и подана, кажется, самими поварами. На приборах не отмывшийся жир, тарели не начищены и даже скатерть в пятнах и подтеках.
– В Москве! В Москве! – сердито буркнул государь.
– Что в Москве? – не понял Сапега.
– В Москве будем кушать на золоте, под шафраном!
«Он мысли читает?» – насторожился Сапега.
– Невелика хитрость – мысли читать! – нелюбезно ворчал государь. – Невелики мысли.
– Мои мысли об одном, ваше величество, – поскорее вступить в Москву. Утром я атаковал неприятеля у Данилова монастыря. Москали стояли некрепко, отошли.
– Ваша милость предлагает беспрестанную войну?
– Ну а можно ли взять город, не тревожа его жителей и ни в чем их не ущемляя? Мои солдаты пришли не проживать последнее, а нажиться.
– Я желаю Москву, но я желаю Москву, полную, как чаша, не принося ее жителям страданий… Однако ж это дело воевод, как скоро они поднесут своему государю его же собственную столицу.
– Я звал Рожинского подготовить приступ и в неделю взять Москву. У вашего величества, я подсчитал, восемнадцать тысяч тяжелой польской кавалерии, донских и запорожских казаков – тридцать тысяч. Пехоты мало – тысячи две-три, но коли начали переходить к вашему величеству князья, значит, среди и простых защитников нет единства. Стоит нанести крепкий удар, и наше войско удвоится от одних только перебежчиков.
– А ваша милость приметила, сколько возов в каждой роте? – Я приметил, ваше величество, купеческий табор в полуверсте от моего лагеря. С полсотни шатров. Появились мухи, будет и падаль.
– Меня такие мухи радуют, но мне понятно беспокойство вашей милости – зачем воевать, когда можно торговать. Товары же берут даром. Продешевил – не беда, пошел еще взял. Такое у всех обольщение, будто этому конца не будет.
– А что ваше величество мне предложит – воевать или тоже, как все, награбленным промышлять?
– Москвы ни Рожинский без вашей милости не возьмет, не возьмет Москвы и ваша милость без Рожинского. А между тем русская зима близко. Я ночью вышел на звезды посмотреть – под ногами хруст. Лужицы льдом схватило.
Сапега брезгливо отодвинул жареную с луком рыбу. Запах был настолько невыносим для него, что он поднялся из-за стола.
– Государь, меня ждет война. Я назначил сразу после обеда, когда русские любят поспать, наступление сразу в трех местах. Враг не должен отдыхать ни днем, ни ночью. Ночью я посылал роту на Рязанскую дорогу. Мы захватили обоз с шубами и валенками. Не правда ли, забавно, ваше величество? Старик Шуйский уже осенью озяб.
– Видимо, он о зиме заботится?
– Будет на то воля вашего величества, зиму мы встретим на московских теплых печах.
Сапега помедлил, ожидая напоследок вопроса о Марине, но государь не спросил о супруге.
Не спросил государь, спросили государя. Гетман Рожинский ворвался в царский шатер, как бешеный. Рукина по рукам, Меховецкого испепелил взглядом, охрана онемела, окаменела.
– Вы не только себя, величество вы разэтакое, – вы всех нас на посмешище перед Москвой, перед Краковом и Римом выставили! – кричал Рожинский на Вора, колотя хлыстом по столу. – Супруг вы ее императорскому величеству или не супруг? А если не супруг, то как вы можете быть Дмитрием? Армия уже не шушукается, армия хохочет!
Вор поглядел на гетмана из-под косматых бровей, гыгыкнул:
– Марина оттого бесится, что я, забавляясь девами, слишком долго не вспоминал о ней.
Рожинский уронил хлыст.
– Иудейская бестия! – взвился он, бледный, трясущийся от негодования.
– Да что вы?! – поднял брови Вор. – Нет, вы ошибаетесь! Уж я-то знаю. Пани Марина истинная полька. Я буду признателен вам, князь, если вы утихомирите ее и привезете в мой лагерь.
– Она, может, и ваша, а лагерь мой! – отплатил грубостью Рожинский и выскочил из царского шатра с таким видом, будто вынырнул из ямы под нужником.
Чувства скоры, да дела долги. И князь-гетман ясновельможный пан Рожинский поехал-таки исполнить поручение Вора-государя. Князь уже знал, о чем беседовал Сапега с Вором, и встревожился: брать Москву с боя – все равно что с одним ножом сунуться к медведю в берлогу.
В свиту Рожинский набрал офицеров расторопных и глазастых: нужно было получить ясное представление, какова сила у Сапеги, кого он привел, войско или ватагу.
В лагере князь Рожинский узнал, что государыня Марина Юрьевна не принимает не только посыльных от Дмитрия Иоанновича, но даже отца и духовника.
– Передайте ее величеству: я хочу говорить с ее величеством как аристократ с аристократкой.
Марина Юрьевна не заставила князя ждать и пяти минут. Ему кинулось в глаза завешенное черным зеркало. Марина Юрьевна была в черном платье, с ниткой черного жемчуга на лебединой мраморной шее. Черное полотнище покрывало ее походную постель.
Князь подошел к руке, и она, приняв князя стоя, села теперь, указав глазами на стул. Князь сел, но тотчас вскочил, нервно разводя руками.
– Что это?! Что это?! Если об этом узнают солдаты?!
– Царь умер, царица в трауре. Что же вас удивляет?
Лицо у него разгладилось от морщин.
– Вы правы, государыня, царь умер. Его прахом пальнули в белый свет. И, может быть, частицы этого праха в этой палатке среди пылинок.
– Вы это собирались сообщить мне, назвавшись аристократом?
– Привилегия аристократа знать суть положения дел. – Не истины, а только дел?
– Именно дел, ваше величество. Истина всегда была красивым мыльным пузырем для глаз низкорожденных. А дела просты. В чужую, в огромную, в иноверческую страну пришло небольшое, состоящее из мерзавцев войско, во главе которого аристократы Сапега и Рожинский и вы, ваше величество. Вернув вам корону, мы получим эту страну, с ее просторами, с ее миллионами темных, но очень работящих людей.
– Сжальтесь надо мной! – Марина так и кинулась на колени перед Рожинским. – Он же иудей! Вы хотите, чтобы я, царица, полька, ясновельможная шляхтянка, легла в постель к безобразному, к бесчестному иудею?
– Вам необязательно исполнять супружеские обязанности.
– Быть царицей и не рожать наследников? Да меня бояре тотчас отволокут в монастырь! Вы желаете, чтобы на престоле России, а может быть, и объединенного Польского и Московского царства сидело иудейское племя?
– Экая страсть! Царь Давид не был поляком! И царь Соломон не русский. Слава же у них вечная.
– Вы не аристократ, князь Рожинский. – Марина вспрыгнула с колен. – Вы торговец, торгующий не своим товаром. Сколько вам за меня обещано Вором? Русские ведь именно так зовут этого человека.
Князь Рожинский отер лицо белоснежным платком.
– Я – солдат, искатель счастья в чужих сундуках. Но вы-то сюда прибыли не совсем не по своей воле.
– Вон! И знайте: уложите меня в постель к вашему негодяю, я зарежу его.
– А ну-ка тихо! – прикрикнул на царицу гетман. И, проходясь по шатру, сбрасывал черные покрывала. – Надобно будет применить силу – мы применим силу.
И вышел из шатра, светло-задумчивый, улыбаясь, словно провел восхитительные полчаса в беседе благородной, возвышенной.
Вместе с Рожинским в Тушино уехали отец государыни и ее дядя посол Олесницкий.
– Так вы узнали меня? – спросил Вор Юрия Мнишка, указывая на бумаги на столе. – Я приготовил договоры, на Белую для пана Олесницкого и на Северское княжество для пана Мнишка.
– А триста тысяч?! – воскликнул пан Мнишек.
– Есть договор и на денежное обещание. – Вор деловито наклонился над столом, близоруко разглядывая грамоту. – Вот! Прочитайте, так ли все здесь.
Пан Мнишек принял грамоту, приосанился.
– «Объявляем, что мы, в благодарность за дружбу ясновельможного пана Юрия Мнишка из Великих Кончиц, сандомирского воеводы, весьма любезного нам отца, каковой дружбы его к нам и любви…» – Пан Мнишек прервал чтение и поклонился Вору. – Воистину так! Воистину, ваше величество!.. «…любви подчас сильнее отцовской, имея вечный задаток…» Ах, ваше величество! Растрогали, слезы читать мешают… Ваша милость! Пан Олесницкий, прочитайте далее.
Посол Олесницкий принял грамоту из рук воеводы и, найдя место, продолжил:
– «…Решили мы, что подобает ответить ему той же горячей признательностью. Обещаем ему, что, когда Господь Бог соблаговолит посадить нас в столицу нашу, немедленно велим выдать триста тысяч рублей из нашей казны. Дан в лагере нашем 14 октября 1608 года. Дмитрий-царь».
– Когда дан?! – изумился воевода. – Четырнадцатого октября? Но сегодня только сентябрь. Пятнадцатого сентября!
– Но ведь и дочь вашей милости не в шатре моем. А как бы она порадовалась вашей и нашей радости.
– Марина чрезмерно горда, это верно, – поклонился пан Мнишек. – Она ожидает, что ваше величество посетит ее в изодранном военном шатре и за руку отведет в свой царский шатер.
– Что ж, вы правы. Мы завтра с их милостью паном Олесницким приедем к нашей нежной супруге.
– Я лечу на крыльях сообщить ее величеству о ее счастье! – воскликнул воевода, чувствуя жуткую пустоту в животе: уж лучше, кажется, дикую лошадь смирять, чем родную дочь: «В меня!»
И знал, что лжет. В мать, в мать уродилась – дикая королева. Но ведь королева!
Государь Василий Иванович в тот день хорошо сидел на троне. На лице строгость, покой, ибо если у царя глаза не бегают, не бегают они и у подданных.
– На завтра назначено съехаться нашим боярам с самыми сановитыми польскими людьми, – объявил Василий Иванович Думе. – Мы статьи договора с польскими послами исполнили, отпустили Марину, старых и молодых Мнишков и прочих вельмож. Поляки ни одного из многих обещаний не сдержали, и нашему посольству следует стыдить ясновельможных панов за их ложь и клятвоотступничество. Но не обидно стыдить. Со стороны поляков на съезде из четырех человек трое отпущенников: Адам да Константин Вишневецкие и Юрий Мнишек. Дела, однако, вершит в Тушине князь Роман Рожинский. Вот его-то и надо обласкать и умилостивить всячески.
Бояре, окольничие, думные, учуяв службу, которая будет занесена в разрядные книги, взбодрились и глядели на царя, как собаки на хозяина, и в то же время озирались, прикидывая, за кого поддакнуть, кого криками оттолкнуть, оттеснить. Но Шуйский, почуяв настроение, сказал непривычно твердо:
– Чтобы не было промеж нас долгих споров, я посылаю говорить с поляками людей молодых, потому что князю Рожинскому едва за тридцать. Седины к сединам, молодость к молодости. На переговоры выедут за город боярин князь Андрей Васильевич Голицын, стольник Василий Иванович Бутурлин да стольник Семен Васильевич Прозоровский.
Дьяки принялись составлять и читать посольский наказ, но тут, смешав дела, появился гонец из Пскова. Народ восстал против воеводы Петра Никитича Шереметева да дьяка Ивана Тарасьевича Грамотина, открыл ворота тушинцу Федьке Плещееву. Целовали крест Вору Самозванцу Ивангород, Орешек. Произошла смута в Великом Новгороде…
Шуйский слушал, обратя к гонцу ухо, покряхтывал… Смотрела на него Дума стоглазо, но ни испуга, ни большого смущения не высмотрела.
– Как отпали города в страхе перед разбойниками, так и припадут обратно. Намаются от разбоев, пожелают тишины и правды пуще прежнего. – Шуйский сказал это тихо, но с верой.
Покончили с худым делом, покончили с наказом посольству, обратились к делам душевным. Из Новоспасского монастыря два старца принесли список с древней Писидийской чудотворной иконы Божией Матери.
Богоматерь на иконе была в царском венце, держа на левой руке младенца Иисуса Христа и благословляя правой.
– Сия благословляющая рука Пренепорочной есть рука, источающая миро, – сказал старец, поднося икону государю.
Шуйский покинул трон, приложился к левой руке Богородицы.
– Расскажите нам, святые отцы, об иконе. Мы так редко поминаем Господа Иисуса Христа в сей Думе, что и Он забыл нас. – Государь взял из рук инока образ и сел на свое царское место, держа икону в руках.
Иноки переглянулись, и рассказ начал более молодой из них, стоявший поодаль:
– Икона сия прославилась чудесами во граде Созополе. Великий подвижник святой Феодор Сипеот в шестисотом году по дороге из Царьграда остановился в Созополе, чтобы поклониться чудотворному образу.
В палате сделался шум, и государь обратился к монаху:
– Подойди к нашему трону, отсюда всем будет слышно.
Инок, робея, прошел на указанное место и, перекрестясь, продолжил:
– Преподобный Феодор, придя в храм Пресвятой Богородицы, открыл свои руки наподобие креста и очи свои возвел на образ Благодатной. В тот же миг из руки Пренепорочной Девы исторгся елей и оросил очи угодника. О чуде поведал ученик Феодора Елевсий, удостоенный быть свидетелем чуда мироточения от Писидийской иконы Божией Матери.
– Грешен, – сказал государь, – ничего не знаю о жизни преподобного Феодора Сипеота. Поведайте нам, духовно незрячим, о святых, о лучших временах.
– Эко, государь! – возразил инок, что был уже совсем бел от старости. – Не в те ли самые годы, когда жил Феодор, случилось в Галатии ужасное происшествие. Во время крестного хода все деревянные кресты заколебались и разбились в щепу!
– Господи! – удивился царь. – Вот уж воистину немилосердное знамение.
– Ужас, государь! Ужас! Патриарх Фома призвал тогда святого Феодора и просил истолковать чудо. И Феодор, погоревав, предсказал: быть иконоборческой ереси. Был он в те годы стар, но Господь Бог возлюбил преподобного с младенческих лет. Десятилетним отроком Феодор заболел неизлечимой смертельной болезнью. Его принесли в храм Иоанна Крестителя и положили перед алтарем. И скатились на болящего только две капли росы с лика Спасителя, написанного на сводах храма. И отрок исцелился.
– Патриарх Евтихий, – сказал инок помоложе, – живя в изгнании в городе Амасии, избавил благочестивого мужа Андрогина от несчастья. Его жена рожала мертвых младенцев. Святитель помазал мужа и жену миром, истекающим от Писидийской иконы, и сказал краткую свою молитву: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа». И попросил назвать новорожденного Петром. И жив будет. «А если родится девочка?» – спросили Евтихия. А святитель свое: «Нет, пусть назовут Петром, и жив будет». И родился мальчик Петр, а потом и другой мальчик, Иоанн.
– Ах, и нам бы с Марьей Петровной Петра да Ивана! Отнесите икону, святые люди, в царицыну палату, расскажите государыне, чего нам рассказывали. Верю, не оставит нас Матерь Божия. Слуги оставляют – то огорчения, да не беда, беда, коли Господь Бог оставит. У меня давеча повернулся язык, и сказал я, что Господь оставил нас, и вот уж тоска и маета в душе: нелепое слово сказал. Прости меня, Спаситель, прости, Царица Небесная. Во имя Господа нашего Иисуса Христа будем бодры, и да не оставит нас надежда на лучшее.
Иноки с иконой за порог, а на порог новый гонец. И опять с вестью невеселой.
– Великий государь, не прогневайся! К проклятому Вору в Тушино убежал князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский.
Все снова воззрились на Шуйского, но тот поднял глаза на икону Спаса и сказал без тени испуга и сомнения:
– Как ржа на болоте поедает белый снег, так поедает Россию измена, но всю не съест. Мы с государыней Марьей Петровной не горюем об изменниках. Измена к измене, честь к чести. Я Катыреву одну измену отпустил и еще отпущу, ибо он ничтожен.
Думный дворянин Матвей Плещеев вернулся из Кремля суетливый, непоседливый, будто ему в Думе зад ошпарило. Присядет и опять скок-скок: то к шубам кинется, то к панцирям.
– Грозцы грозят, а жильцы живут, – твердил Матвей, отпирая впопыхах, дрожащими от нетерпения руками ларец с казной. Как распорядиться богатством? Закопать в горшке? С собой взять?
Выбрал золото, завернул в носовой платок. Пометался, ища, куда схоронить, и сунул в холодный сапог.
– Грозцы грозят, а жильцы живут! – сказал он жене, строгим окриком позвав ее в свою комнату.
Жена прибежала дрожащая, страшно было жить. В Москве царь московский, в тушинских шатрах – шатровый царь. У шатрового шатры, но вся небось Россия, у московского каменные палаты, да и нет ничего, кроме палат.
– Приглядывают за соседом али уж позабыли? – спросил Матвей.
– Смотрят, государь мой!
– А ночью-то смотрят?
– Смотрят, государь мой!
– И ничего?
– Ничего. Тихо у них.
– В дом посылали за всякой мелочью?
– Посылали, государь мой! Сама посылала Василисе Федоровне стерлядок свежих.
– И ничего?
– Ничего, государь мой! Василиса Федоровна отдарила морошкой да солеными груздочками из их лесов.
– Коли грузди солят, стало быть, зиму в Москве собираются зимовать, – решил Плещеев и наконец одарил, удостоил супругу взглядом. – Что скажешь, Дуклида Васильевна?
– А про что сказать, государь мой?
– Про что, про что! Умные люди давно в Тушине.
– На зиму в чисто поле?! – ужаснулась Дуклида Васильевна.
– В поле, да к истинному царю под бок.
– Какой же он истинный… Масальский прибежал от него – Вор, говорит.
– Истиный тот, с кем крепче. – Помрачнел. – Федор Кириллович Плещеев, сродственник, воеводой во Пскове сел. Шуйский пока никого не трогает, но ведь и в нем есть сердце. Рассердится – всем Плещеевым беда.
Дуклида Васильевна вдруг усмехнулась:
– Чего бояться собаки, государь мой, коли хозяин на привязи?






