Смута Бахревский Владислав
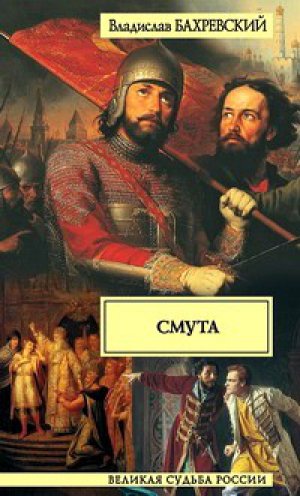
Книга первая
Русское поле
Беда людей в том, что краток их век. Внуки и правнуки жнут жниву, которой не сеяли. Бывает, вместо пшеницы да ржи дуром прет чертополох. Иные же семена по сто лет в земле сидят. Прорастают злаками ядовитыми, цветами смертоносными.
О чем это присловье? Да все о том же. Кто не знает жизни своих пращуров, сеятелей поля, тот живет мотыльком. Может, и хороша такая жизнь в неведении, да мы – люди! Нет-нет да и призадумаемся: откуда взялись, куда идем, чей воз на нашей взмокшей от пота спине? Какими семенами сеем поле? Чьи семена? Не подменил ли кто наше сетево с отборной пшеницей на чужое, с наговоренным на зло, на худо, на пустоцвет?
Широко поле русское! Ветры над ним веют со всех девяти сторон. Но чтоб рождало поле доброе да великое, одной работы мало. Ему еще любовь нужна. Наша любовь нашему полю.
Царевич Дмитрий
Проснулся румяный, глаза ясные, бровки черные, стрелочками.
– Встала зорюшка-ненаглядушка! Свет души нашей!
И впрямь будто солнце теперь только и взошло: полусонное, в шорохах да в шепотах царство угличского терема встрепенулось, задвигалось, с прискокочкой, с улыбочкой. Еще за миг до пробуждения царевича были все ленивы, упрямы, тупы – и разом сделались смышлены, охочи, ласковы.
Царевич повел глазами по опочивальне от пола до потолка. Усмешка играла на его розовых губах.
– Тут ли я спал всю ночь? – прищуря глаза, спросил Марью-постельницу.
– Как есть туточки! Туточки! – заворковала Марья.
– А теперь ты отвечай, готово, что ли? – крикнул он мамке Василисе.
Василиса, молча ожидавшая зова, поплыла к постели, расцветая как куст шиповника.
– А ведь готово, батюшка.
– Готово?! – ахнул изумленно царевич.
Он всю неделю, просыпаясь, спрашивал про «свой» дворец, и его всякий день гневали: не готово.
– Шубу!
– А Богу помолиться? А покушати?
– Шубу, распроклятые вы рохли! Шубу, тотчас! Чтобы вот, вот, вот! Чтоб была, и все! И чтоб я был… в шубе!
Уже бежали, несли и шубу, и валенки, и всю прочую одежду.
На стену царевич поднялся один. Зыркнул на Осипа Волохова, и тот, расставя руки, загородил дорогу наверх жильцам,[1] ровесникам и товарищам Дмитрия.
– Один хочет смотреть.
Ледяной дворец стоял посредине Волги.
Рождественское косматое красное солнце тянуло на себя облака, но облака были как птичий пух, и оттого с неба, потухая и вспыхивая, падали копья и мечи пронзительного, слепящего света.
Сначала царевич только и видел, что свет с неба, сияние с земли. Но вот почудилось ему: копья – перевернутые кресты. Кресты апостола Петра – символ Адама и грехопадения. Кресты-мечи были крестами Иисуса Христа. Лезвия уходили в снег, в холод, в воду, как в черную кровь, а рукояти-перекладины были в облаках и над облаками. Змейка ужаса, извиваясь, заползала в самое сердце. Дмитрий, чтобы не спугнуть гада, осторожно поднял руку и – за грудь, чтоб хоть за хвост ухватить. Юркнула-таки и теперь вся была в нем, и он знал, что с ним нынче неотвратимо приключится.
И стал покоен. И разглядел наконец хрустальный город. С башней, с луковками, с куполами, со стеной зубчатой. – Москва! – узнал царевич. – Это же моя Москва!
Повернувшись к жильцам, топнул ногою.
– Да что вы там все как овцы! Живо! Ко мне! И ты, Осип! Живо, говорю!
Жильцы, десятилетние все ребятки, Петрушка, Баженко, Ивашка, Гришка, взбежали на стену, и царевич, обнимая по очереди каждого левою рукой, правой показывал на дворец, приговаривал:
– Видишь? Вот и Кремль мой таковский.
И вдруг глаза его засверкали от злой, быстрой мысли.
– Оська! – позвал царевич Волохова. – Шли сторожей на Волгу. Пусть снежных баб катают. И чтоб каждая баба была точь-в-точь как бояре – враги мои. Самая толстая чтоб была как Бориска Годунов, а другая чтоб как дядька мой, бросивший меня, чтоб как Богдашка Бельский. И Шуйский чтоб был – Васька. И чтоб Васька Голицын и Федька Романов. А не получится похоже – буквами напишите. Ставь тотчас, мы на них воевать пойдем.
Осип Волохов испугался приказа, замешкался, не зная, как отговорить царевича. И, прочитав на лисьей роже Осипа все его сомнения, царевич завизжал от ярости, сдернул с руки стражника рукавицу и вцепился зубами в самые косточки. Осип терпел, не позволяя себе оттолкнуть отпрыска царя Ивана Грозного. И царевич остыл, поскучнел, потух глазами.
– Ступай, тебе говорят! – притопнул, прикрикнул, но уже без пыла, без гнева и без желания.
Их царские величества кушали завтрак особо, не сажая за свой стол меньших людей. В Угличе царских величеств было мать да сын: вдовая царица Мария Федоровна да царевич Дмитрий Иоаннович.
Одетая, будто ей быть пред очи Иоанна Васильевича, царица и сына приказывала одевать в царское платье. И сидели они друг перед другом в ризах, с жемчугами и каменьями, и кушали с золотых тарелей, и пили из золотых братинок.
– Хорош дворец-то? – спросила матушка.
Дмитрий улыбнулся, тонкое личико его на высокой тоненькой мальчишеской шее осветилось благодарной нежностью.
– Потому и не показывали тебе, пока строили. Чтоб полной красоте порадовался.
– И хорошо, что не показывали. Я смотрел, смотрел и Кремль узнал.
– Боженьке молись! Боженька дарует тебе и Кремль, и все царство наше.
– А царя все слушают?
– Такого, как батюшка твой, как Иоанн Васильевич, – все! – Мария Федоровна тоже головку подняла, подалась в прошлое, и на потолстевшем лице ее проступил лик юной красавицы. – Все, мой государь! Царь Иоанн – не Федор-дурак! То царь Грозный! Царь Великий!
В царевиче вскрутнулось все его нехорошее: дикая ревность окатила его кипятком ненависти. Вдруг спросил:
– А мухи царя слушают?
Матушка побледнела, огромные глаза ее заволокло слезами. Царевич сорвался со стула, кинулся матушке на грудь, целовал в щеки, в глаза.
– Прости! Прости! Прости! Буду Грозным! Буду Великим! Буду, буду, буду… твоим. Каким хочешь, таким и буду.
Они снова трапезничали, чинно, тихо.
– Головка у тебя не болит? – спросила матушка, запивая маковый пирожок вишневым медом.
– А что ты про головку спрашиваешь? – Словно через пух птенца пошли расти огромные иглы дикобраза. – Тебе Осип сказал? Говори! Осип?
Взобрался на стул с коленками, шарил руками по столу, схватил ложку.
– Предатель! Сказал, что я кусал его! Сказал?! Я его сейчас вот и зарежу. На куски, на куски, на мелкие кусочки!
– Государь! – крикнула на сына Мария Федоровна. – Опомнись! Я не видела нынче твоего Осипа.
– Не видела? – удивился Дмитрий и посмотрел на ложку в руке. – Ишь чем хотел зарезать.
И засмеялся. И матушка засмеялась. И они долго смеялись. Так долго, что царевич заплакал:
– Мама, я хочу быть добрым. Я добрый, но змея опять в грудь ко мне забралась. Уж такая черная.
Матушка подошла к сыну, отерла ему слезки своим платочком. Шелковым, голубым, пахнущим сеном.
– Поди на реку, к хрустальному дворцу, поиграй!
Ребята, малые и побольше, были уж все на реке, катали снежки.
– Делиться не будем! – сразу объявил царевич, указывая на слободских ребят, толпящихся на берегу. – Осип! Скажи им, чтоб шли защищать дворец. А мы им покажем, где раки зимуют!
И вот уж армии построены. Впереди слободских попович Огурец. По отцу прозван. Ему тоже весен девять – десять, но весь он круглый, плотный, на голову выше ребячьей мелкотни.
Впереди теремных – Дмитрий. Он идет пригибаясь, шаг у него кошачий. Окидывает быстрыми глазами «неприятелей», ищет, где слабее.
– Петрушка! – Петрушка подбегает к царевичу. – Возьми пятерых и обходи их сзади.
– Да они же видят!
– И хорошо, что видят. Будут оборачиваться. Ивашка!
Ивашка тут как тут.
– И ты бери пятерых. И тоже обходи дворец. Петрушка! Ты веди своих с правой руки, а ты, Ивашка, с левой.
Немудреный маневр и впрямь смутил слободских. Заоглядывались, отрядили чуть не половину тыл беречь.
А Дмитрий со своими бегом, чтоб наскоком напугать. Полетели снежки. Царевич остановился.
– Назад подайся! – приказал теремным. Сам выступил перед войском слободских. – Кидайте в меня! По очереди. Кто попадет, получит копейку!
Слободские рады стараться. Царевич – как совенок. Телом замер, а ноги мелко переступают. Прыжок. Уклон. На лед кинулся. Откатился. Весь в снегу, но ни один снежок не попал в него.
– А теперь выставляйте мне своего поединщика!
Слободские притихли.
– У тебя ножик!
– Баженко! Держи нож.
– А коли у тебя кровь будет, нас под кнут подведут.
– Осип! – И Осип вот он. – Если кто скажет, я тебе глаза выдеру.
От слободских, подталкиваемый товарищами, выдвинулся Огурец.
– Кто с ног слетит, тот и «покойник». И чтоб потом не драться.
– Без драки! – согласился царевич.
Он подступает к Огурцу замысловато, прыжками, и тот улыбается добродушно и мирно. Царевич обманно клонит тело влево, а правой рукой вдруг резко толкает Огурца в грудь, но ему – это мушиный наскок. Хватает царевича за плечи, тянет к себе. И царевич понимает, что не вырвется, что Огурец и Осипа, пожалуй, заломает. И, когда объятия силача смыкаются на пояснице, Дмитрий, поднявши руки, выныривает из шубы и шапки и, отскочив прочь, стоит пригнувшись, дрожащий, как пружинка.
– Простудишься! – кричит Осип.
Царевич вдруг взвизгивает, взвивается в воздух и, головой вперед, как ядро обрушивается на бедного Огурца. Огурец, обнимая мягенькую царевичеву шубу, лежит спиной на снегу, и на его лице огромное уважение.
– Ух зол! Как рысь! Никаким злом тебя не перезлеешь! Царевич подает Огурцу руку, помогает подняться. Надевает шапку, шубу. И кричит своим:
– Все! Битвы не будет. Мы в дружбе с Огурцом.
И целует побежденного.
– Я тебя в мою дружину беру.
Огромные бояре-бабы стоят над ребятней как великаны.
– Круши! – кричит царевич. – Но Годунова мне. Годунова я сам.
Пинает бабу так и сяк и, подхватив услужливо поданную Осипом длинную палку, тычет Годунову в глаза, в лицо, а потом, изловчась, со свистом сносит башку.
– С одного взмаха! – хвастает он Осипу, и на щеках его мороз, глаза смеются, но Осипу страшно. Попробуй поверь, что этот ребятенок ребятенок и есть. Попробуй только забудься, хоть на мгновение. Иоанново отродье, да еще и Нагих.
Ради пресветлых рождественских дней обедали всем семейством. Царица с царевичем сидели за Главным столом, за Большим, соблюдая старшинство, Нагие, игумены монастырей, священники. Еще за одним столом, за Косым, теснились царицыны золовки с детьми, мамки и вся высшая дворцовая челядь.
Лица у старших Нагих были желтые, глаза неспокойные, то желчь отравляла им кровь, то страх заставлял искать вокруг себя опасность.
Савватий, игумен Алексеевского монастыря, прочитал молитву, и трапеза началась.
Дмитрий жадно пил брусничный настой, медовую анисовую воду, но к еде только притрагивался. Не хотел кормить свою потаенную змейку. Пусть опьется и подохнет.
Думая о змее, царевич разглядывал игуменов. Они каждый день стоят перед святыми алтарями и все-то вместе уж могли бы изгнать из него черного гада. Давыд, игумен Покровского монастыря, чрезмерно тучен. У него даже руки как подушки, но пальцы почему-то не ожирели и будто взяты от другого человека. Этот не спасет. Савватий такой белый, белее Симеона Столпника на иконах. Он и теперь сидит улыбаясь, как блаженный. Но сторож Чуча говорил, что Савватий притворщик. Монахи на глаза ему боятся попадаться. Всякое дело он обязательно заставит переделать и всякому отдыхающему сыщет тяжелую работу.
Место воскресенского архимандрита пусто, он обещал быть и будет. Он любит явиться особо, чтоб все на него глядели и удивлялись его молодости. О Москве размечтался, но и промахнуться страшно, а потому, почитая себя самым умным и хитрым, угодничает и перед Борисом, и перед теремом.
Голова у царевича вдруг взмокла, по вискам за уши покатились капли пота. Вспомнил, что рассказывал ему об отце уксусник Якимко. Об отце Дмитрий, наверное, всякого в тереме спрашивал, и каждый что-нибудь да рассказал. А Якимко про семерых монахов, которые хотели извести государя. Этих монахов выводили по одному в деревянную клетку и в ту же клетку пускали, раздразнив, разъярив, медведя. Монаху давали крест, чтоб, коль праведен, крестом унял зверя. И давали копье, чтоб защитился. Шесть медведей разодрали шестерых монахов: кишки по всей закуте валялись. Медведей стрельцы тотчас били из пищалей, и все было красно от крови. Седьмой монах упер копье в землю, пронзил медведя, но огромный зверь дотянулся до бедного, заломал. Оба и легли замертво.
Такое вспомнить за рождественским столом! Царевича душили слезы. Икая, он пил брусничную воду, чтоб только не разрыдаться.
И, как само спасение, явился Феодорит со старцем Елимой – знаменитостью Воскресенского монастыря.
Елима – значит молчание, и старец молчал девять лет и заговорил в тот день, когда в Углич препроводили из Москвы царицу, царевича и Нагих.
Старец был похож на доску.
– Благослови, отче! – попросил Феодорит Елиму и сам поднял у старца руку-плеть.
Первым благословился царевич, потом царица, скороговоркою испрашивая у святого облегчения для себя:
– Кожа у меня что-то лупится. Волосы падают. Ночами совсем не сплю.
Старец крестил, светя глазами, и все старались поболе уловить этого света.
За стол Елима сесть не пожелал, а может, и не посмел, сел на пол, в угол, напротив икон. Тогда и Дмитрий, прихватя братину с брусничной водой, пошел и сел рядом со старцем. Все тихо радовались столь прекрасному единению детства и святости.
Феодорит, сотворив молитву, занял за столом свое место и, отведав царского кушанья, заговорил на темы высокие, богоугодные:
– Не могу нынче не вспомнить чудесных словес Дионисия Ареопагита, который ради того, чтобы лицезреть Богоматерь, совершил далекое и опасное путешествие из Афин в Иерусалим. Нам, грешным, Матерь Иисуса Христа и во сне не приснится, разве что таким подвижникам, как отец Елима. Ему трижды являлась Заступница наша.
– И мне являлась, – сказал вдруг Дмитрий.
– Свечка Божия! Овечка златорунная! – Старец Елима поднял невесомую руку свою и возложил на голову царевича.
Все замерли, не зная, как подумать об услышанном, но ловкий Феодорит, рокоча прекрасным голосом своим, заполнил палату до краев:
– Преславный и пресветлый царевич! Послушай же алмазы речи, дарованные нам святым Востоком и научающие нас умению изливать восторг к святости всего сонма праотцев и праматерей наших. Вот что изрек Дионисий о своем посещении Иерусалима и Богоматери. Помню слово в слово: «Свидетельствуюсь Богом, что, кроме самого Бога, нет ничего во Вселенной, в такой мере исполненного Божественной силы и благодати. Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я видел. Исповедую перед Богом: когда я Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце в небе, был приведен пред лицо Пресвятыя Девы, я пережил невыразимое чувство. Передо мною заблистало какое-то Божественное сияние. Оно озарило мой дух. Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений и начатков вечного блаженства и небесной славы…» Так писал Дионисий Ареопагит учителю своему апостолу Павлу. Помолимся же!
И все встали и помолились. Дети и женщины ушли, старец Елима заснул, но пир не иссяк, а только начался. Царевич не пожелал оставить Елиму, так и сидел с ним в уголке, слушая взрослых. Говорили о польских послах. Послы приехали с укорами, государь-де Федор Иоаннович нарушил перемирие, взял шведские города. Федор Иоаннович в прошлом году, хоть и нездоров всегда, ходил на войну и отвоевал свою, государеву, отчину: Ям, Копорье, Ивангород.
– Поляки – тьфу! – торгаши! – Старший из Нагих, Михаил Федорович, каждое слово выкрикивал, словно его обидели. – Просили себе в утешение Смоленск, а сошли на то, чтоб им хоть одну деревеньку уступили.
Феодорит, выказывая особую свою осведомленность, молвил нарочито спокойно, закатывая глаза к потолку:
– Государь хочет заключить перемирие на двенадцать лет и будет обещать во все двенадцать лет не трогать ливонских городов, которые ныне за шведской короной, но которые шведы обещают уступить короне польской.
– Ничего бы этого не было, никаких переговоров, коли бы наш Дмитрий сидел ныне в Варшаве! – дергаясь лицом, закричал Андрей Федорович. Нагие все кричали, будто иначе и говорить нельзя. – Поляки сами хотели Дмитрия! А кто помешал? Кто?!
– Кто? – усмехнулся Михаил, глядя на игуменов нехорошими глазами. – Кто?
Игумны помалкивали.
– Федька-дурак! – крикнул царевич из своего угла и разбудил старца Елиму.
– Его царское величество государь Федор Иоаннович, – степенно зарокотал Феодорит, – поискал польской короны для своего царского величества.
– Морок это! Морок! – вскипел наконец и Григорий и стал совсем уж как желток. – Что, Федор Иоаннович не знал, какую цену поляки с него запросят? И ладно бы одними деньгами! Им и душу подавай. Короноваться – в Кракове. Писаться в титуле сначала королем польским, потом великим князем литовским и уж в-третьих – московским царем всея Руси. А прежде этого надо было еще и веру переменить!
– Да, я помню, – согласился Феодорит. – Я помню слова, сказанные паном Христофором Зборовским: «Москвитяне до того гордый народ, что им важно, как кто и где шапку снимет. Могут ли они согласиться, чтоб их царство прилепилось к нашему королевству. Они скорее захотят приставить Польшу к Московии, как рукав к кафтану».
– Будь Дмитрий на Польском царстве, все бы иначе было. Никто бы ни к кому не лепился, – перебил архимандрита Михаил Нагой. – Но царь Федор велел послам польским рты затыкать, как только заикнутся, чтоб им дали Дмитрия. Дмитрий-де летами мал.
– Ну чего, чего убогого Федора зазря поносьмя поносить? – почти шепотом сказал Андрей. – Все те наказы и проказы от Годунова. Господи, хоть бы он ноги-руки себе сломал за все свое злодейство! Хоть малым наказанием накажи ты его, змеюгу, Господи!
Игумены ерзали на своих мягких стульях, и было им очень неуютно и страшно.
Старец Елима, наклонясь, разглядывал личико Дмитрия.
– А глазки у тебя хорошие. Душой страдаешь. Черно в душе, а глазки хорошие. Доброго жаждут, чистого. – И, наклонясь еще ниже, спросил: – Говорят, ты кошек до смерти мучаешь?
Царевич опустил голову, но молчал.
Его снова выручил гость, как давеча Феодорит спас от слез. Приехал из Москвы Иван Лошаков, сын боярский, царицын слуга. Привез царице от немецких дохтуров лекарств и снадобий.
– Царь Федор ныне с постели не встает. Вся Москва про то говорит. И дохтур мне сказывал: совсем государь расслаблен и едва жив.
До того в палате тихо сделалось, что стало слышно, как дышит на голове Елимы незаросшее с младенчества темя.
– Вина налейте! Фряжского! Всем! – хрипя, как лошадь, выдавил из себя Михаил.
– Мы к нашей братии! Пора! Засиделись! За здравие царя помолимся, за царевича с царицею! – вскочил резво на ноги белый как лунь игумен Савватий.
Игумены тотчас все поднялись, покрестились на иконы, подхватили под руки старца Елиму и чуть не бегом бежали.
В тереме же пошло нехорошее веселье, питье вина безмерное.
Дядья, подхватив Дмитрия, поставили его ногами на стол и ходили кругом, приплясывая, руками размахивая, целуя полы платья царевичева. А он взял да и сомлел, голова закружилась, ноги подкосились. Упасть ему не дали, отнесли, как драгоценность, на его высокую мягкую постель.
– Кошку хочу! – попросил царевич.
Ему принесли кошку.
– Пусть кормилица Иринушка сказку мне скажет.
Пришла и кормилица, села на кровать.
– Обними меня! – попросил царевич.
Обняла, в головке вошек стала искать. Вошки хоть редко заводятся, да пальцы у кормилицы ласковые – приятно. Царевич гладил кошку. Белую как снег, с глазами синими как ночь, гладил и слушал. Сказка течет, кошка мурлычет, кровь стучит по жилочкам в обоих висках. Сказка за сказкою.
– Макарка Счастливый за ночь по десяти неводов, полных рыбы, вытаскивал, – сказывала кормилица. – Да вдруг так сделалось, что ни одной рыбки не сыскал во всех своих неводах. Догадался Макарка, в чем дело, пошел на реку ночевать, под лодкой.
– Подожди! – остановил Дмитрий. – А мальчик, которого приносят в мою постель, где живет?
Кормилица обеими руками рот себе закрыла, головою затрясла.
– Нет, ты скажи! – Царевич оттолкнул от себя кошку и, больно схватив кормилицу за волосы, притянул ее голову к своему уху. – Говори! Я его видел? Я его знаю? Говори же!
И драл волосы, и впивался ноготками в кожу, и, ткнувшись лицом куда ни попадя, укусил за живот.
– Прочь пошла! – пхнул ногой. – Я сам все знаю. Я все знаю.
Выпрыгнул из кровати, помчался к мамке Василисе.
– Одевай! На речку хочу! Хочу на дворец смотреть.
Василиса спешит к царице за разрешением, согласие дадено, царевича одевают. И вот он стоит посреди Волги. Один. Так приказано им, чтоб никто не смел на лед ступить хоть за версту.
Святки еще впереди. Небо как пропасть, и Млечная река в той пропасти, белая от звездной пены.
Хрустальный дворец на белом снегу наполнен той же бездной, что небо. Черным-черен.
– Домой! – приказывает царевич. – Пусть от Зиновии приведут Уродину Дуру.
Забавную дурочку сыскал племяннику на потеху дядя Андрей Федорович. Жила Уродина Дура в покоях жены Андрея.
Царевич валенок не успел снять, а Дура уж вот она, доставили.
Это была молоденькая баба, с личиком миловидным, умилительным, но росточка она была крохотного, с тот же валенок, зато женскими признаками наделена сверх меры – груди огромные, зад круглый, тяжелый.
Потеху придумал Осип Волохов. На Уродину Дуру напускали свору щенят. Щенята лезли играть, Дура от них отбивалась, щенята свирепели, хватали за платье, тянули, рвали. Дура Уродина, охая, прикрывала оголенные места и, наконец изнемогши, валилась на пол. Щенки же принимались облизывать ее, и это было так уморительно, что царевич смеялся до икоты.
Потеха и нынче была точь-в-точь, но затейник Осип, для пущей забавы, принялся втолковывать Уродине Дуре небывалое:
– Да ты сообрази! Ты ведь и есть мать щенятам! Это ты их нарожала! Сама! Покорми же их! Покорми!
И, обрывая платье на груди Уродины Дуры, сунул к ее соскам двух совсем еще крошечных кутят, и те прильнули, зачмокали.
Царевичу такая игра не понравилась.
– Убери собак, сатана! – крикнул он Осипу. – Да наклонись! Наклонись! На колени!
Осип стал на колени, и царевич ударил его ногой в лицо.
Мамка Василиса, глядевшая на потеху через щелочку, так и всплеснула руками.
– Адамант! Кромешник! Весь в батюшку своего!
Царевичу было не по себе. Он чувствовал – змейка, заползшая в него, уже обернулась Черной Немочью, и он не хотел, не хотел смириться перед нею. Он побежал в Столовую палату, к матери, но у дверей увидел согнувшегося над потайным глазком дьяка Михайла Битяговского. Царевич отстранил дьяка и сам прильнул.
– Чего они там?
– Я поздравить государыню пришел со святым праздничком! – залепетал Битяговский. – А войти боюсь. Твой дядя ведуна привел. Андрюшку Мочалова.
Царевич видел часть стола, синюю рубаху ведуна, корявые руки, большую братину, яичную скорлупу на столе.
– А что он делает?
– Твои дядья яйца на теле своем выкатывают, а он яйца бьет и глядит, как они в воде расходятся. Я-то ведь поздравить пришел…
– И что потом будет? – перебил царевич дьяка.
– Уж не знаю чего. Хотят выведать, долго ли жить государю Федору Иоанновичу.
– Батюшки-матушки! Ты послушай, Михайло! Ты послушай, что ведун скажет. – Царевич сказал это серьезно, отошел от двери крадучись.
А Битяговский только глазами моргал. Лишь мгновение спустя кинуло его в жар да в холод: царевич-то знает, чей он, Битяговский, человек. Как разыграл дурака. Вот уж воистину царская природная кровь!
– Михайло! – окликнул царевич дьяка, прячась во тьме теремного перехода.
– Что, царевич?
– А тебе очень хочется зарезать меня?
И топот ног, улепетывающих от самой смерти. Царевич бежал, снося все, что возникало на пути его. Голосок его звенел отчаянием и ужасом.
– Кормилица! Скорее! Сказку!
Кормилица прибежала, уселась, обняла своего бедняжечку.
– Сказывай! Сказывай! Про Макарку Счастливца.
– Макарка, сидя под лодкой, подслушал разговор трех чертей, – продолжила кормилица оборванную давеча сказку. – Узнал он, куда рыба делась, узнал, как отомкнуть в колодце заветную жилу и как спасти царицу, на которой черт за ночь три платья раздирает.
– Дальше! Дальше! О счастье! – требовал царевич. – О счастье скорее.
– Сидит Макарка перед дверью царицы, – спешила ублажить миленького кормилица, – а черт вот он! Принес Макарке орехов. «Пощелкай! Вкусные!» Думал, Макарка зазевается, а он в дверь и проскочит. А Макарка черту свои орехи подает, железные. «Пощелкай и ты!»
Пот заливал глазницы царевичу. Он уже не мог больше противиться тому, что много, много сильнее его. Железными орехами был полон рот, не черта, его рот.
– Не нужно! – сказал он кормилице. – Не хочу я таких орехов! Не хочу орехов. Никогда!
Тело напряглось и стало каменным, хоть коней по нему проводи, хоть карету.
И тотчас обмякло, сжалось, полетело в пространство, плещась, как плещется Волга в берегах. И его, царевича, уже не было в теле, и не было его, отрока Дмитрия, на грешной земле среди сонмища грешников. Он бежал по облакам, выше и выше. И при солнце звезды скатывались по его плечам и по груди, и он брал иные в руки и кидал перед собою на дорогу, которая никуда не вела и которой не было никакого предела.
Когда царевича перестало бить и корчить, его взяли с постели и отнесли в потайную комнату, а на его постель уложили другого мальчика. Поповича, младшего брата Огурца.
Падали снега и сомлели под солнцем, сверкал ледяной дворец на Волге, да уплыл. Пришла весна в город Углич. В Угличе света с неба, как только в Угличе – высоко стоит над большой водой. А уж зелено! А уж водою-то как пахнет волжскою! Кто раз вдохнул того воздуха, не забудет вовек.
Царевич всю зиму болел, а с солнышком стал выправляться. 13 мая 1591 года, в день мученицы Гликерии и с нею темничного стражника Лаодикия, с Дмитрием опять приключилась падучая болезнь. Припадок был недолгий, и в пятницу, на день преподобного Пахомия Великого, столпа пустынножительства, царица Мария Федоровна взяла царевича обедню стоять. День выдался хороший, теплый, да служили долго. Приморилась царица, и царевич личиком поскучнел. Оттого-то Мария Федоровна, уходя к себе на Верх, сына на дворе оставила, погулять, поиграть с ребятами, с жильцами. С приятелями его: с Петрушкой, сыном постельницы Марьи Колобовой, с Баженко, сыном кормилицы Ирины Тучковой, с Ивашкой, сыном стражника Красинского, с Гришкою, сыном стражника Козловского. Кормилица Ирина тоже во дворе осталась, при царевиче, да еще спальница Марья, да мамка Василиса Волохова. Ребятки затеяли через черту играть, ножиком, в «тычку».
И на том нашему сказу конец. Не успела царица в покои свои ступить – закричали во дворе, будто резали кого…
Подошли мы к тайне тайн XVII века. К «Угличскому делу», к следствию поспешному и лукавому.
Высокая комиссия: митрополит сарский и подонский Гласий, князь Василий Иванович Шуйский, окольничий Андрей Петрович Луп-Клешнин, думный дьяк Елизар Вылузгин – приехала в Углич во вторник 19 мая. Приехали ради дела царевича и ради дела дядьев его и матери. Люди Нагих убили у царицы на глазах двенадцать человек. Да еще мамке Василисе Волоховой сама царица и помощник ее Григорий Федорович проломили поленом голову и бока крепко помяли.
Девяносто четырех свидетелей опросили следователи. Архимандрит и двое игуменов просили записать так: «Слуги прибежали, сказали: царевича убили, а кто, неведомо». Еще трое объявили, что царевича зарезали. Восемьдесят восемь дворовых людей: дети боярские,[2] жильцы, повара, сенные сторожа, конюхи, курятники, помясы, путейщики, истопники и прочие, прочие – показали едино: царевич покололся сам.






