Смута Бахревский Владислав
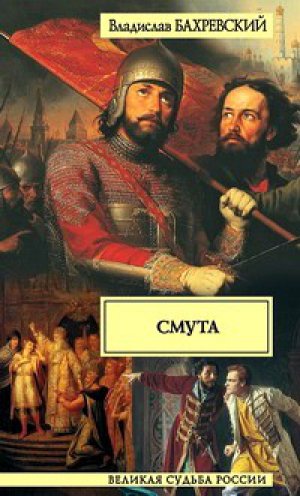
Гонсевский тотчас пожаловал смельчака и храбреца поместьем.
«Пане Иван Тарасьевич! – писал наместник Москвы канцлеру Грамотину. – Прошу Вашей милости, чтобы Ваша милость, поговоря с князем Федором Ивановичем и с иными бояры, по их приговору отправил пана Грабова, а мой совет таков, что пригоже его пожаловать. Вашей милости слуга и приятель Александр Корвин-Гонсевский челом бьет».
И, посмеиваясь, написал свой совет на прошение самого Грамотина, который домогался пожалования за многие службы и усердие к его величеству Сигизмунду земелькой:
«Царского величества боярам, князю Федору Ивановичу Мстиславскому с товарищи! Мой совет в том таков, что пригоже Ивана Тарасьевича за его к государю верную службу тем поместьем пожаловать. И Вашим бы милостям, поговоря с собою, то и делать велим».
Земелька ты, земелька русская! Снова шла в дележ, кроилась и перекраивалась, обретая хозяев, награжденных за убийство русских людей. Но ту же самую землю делили, кроили и по другую сторону кремлевской стены.
К Ляпунову пришли рассерженные вологодские дворяне: их имения Иван Мартынович Заруцкий своею волей даровал казачьим атаманам, а для себя приглядел богатейшую Важскую волость, Чаронду, Решму, Тотьму.
Важская волость указом Сизигмунда была за сыном Михаила Глебыча Салтыкова Иваном, прежде волость принадлежала Борису Годунову, потом Дмитрию Шуйскому. Чарондой, Решмой и Тотьмой ныне владел сам Михаил Глебыч, прежними хозяевами при Годунове были Годуновы, при Шуйском – Шуйские.
Ляпунов выслушал вологодских дворян, суровый и бесстрастный, как Господь Бог, спросил:
– Вы люди вологодские?
– Вологодские.
– Важские?
– Важские.
– Так пусть ваше будет вашим.
И выдал грамоты на владение землей, деревнями, реками, озерами, лесами, лугами.
В двадцатых числах мая под Москвой объявился Ян Сапега. В росписи его войска значилось 4734 человека воинов, но обозных людей и всяческих слуг было еще тысяч восемь-девять.
Свой стан Сапега разместил на Поклонной горе и начал торги.
Ляпунов прислал к нему своего сына Владимира спросить, за кого ныне пан воевода.
– За истину, – был ответ.
Сапегина истина стоила дорого: желал быть гетманом ополчения, а это означало – выбить из Кремля одних поляков ради других поляков.
Ляпунов не поторопился сунуть голову в ярмо, но и Сапега, закинув удочку в реку, сеть ставил в озере. К нему на Поклонную гору тайно приезжал Гонсевский.
– Ясновельможный пан наместник, – сказал Сапега с наигранной прямотой солдата. – Мои рыцари так долго воюют, что забыли о цели войны. Они желают за свой кровавый труд не меди – медь на себе носить тяжело, – но золота. Заплатите нам, ваша милость, и употребляйте нас по своему усмотрению.
– Откуда взяться деньгам, когда мы окружены?
– Но окружены в русской сокровищнице! Пожалуйте нам пару Мономаховых шапок. Каждый русский царь ковал золотой колпак по своей голове.
– Сокровища у бояр.
– Так возьмите!.. Я ведь могу, сговорясь в цене с Ляпуновым, ударить по тылам вашей милости.
– У нас нет тыла, пан Сапега, но у нас есть король. Нам обещана помощь.
– Его величество слово сдержит. Вот только как скоро… Две короны, две горсти серебра в руки – и мы в полном распоряжении вашей милости. Или в полном распоряжении господина Ляпунова.
Гонсевский недаром был послом, стерпел. Удивляя Сапегу, просил принять в свое войско большую часть кремлевского гарнизона.
– Голодные рты, – объяснил наместник Москвы. – Для обороны нам достаточно трех тысяч. Пройдите по хлебным уездам. Добытый вами хлеб спасет не только защитников Кремля, но великое будущее Речи Посполитой.
– Ваша милость верует в великое будущее?
– Наша Москва – наша Россия, – сказал Гонсевский. – Боюсь, королю достаточно Смоленска, но, получив Смоленск, он один Смоленск и получит. Однако, если король слеп, зачем же нам завязывать себе глаза?
– Две Мономаховы шапки! – повторил свое условие Сапега.
– Придете в Кремль, там и возьмете. – Гонсевский устало закрыл глаза. – Я охотно уступлю вашей милости наместничество.
Соединясь с оголодавшим кремлевским воинством, Сапега с ходу взял Братошино, ограбил, прошел мимо Троице-Сергиева монастыря, захватил Александровскую слободу, где некогда, схватясь со Скопиным-Шуйским, чуть не потерял все свое войско, передохнул и осадил Переславль-Залесский.
Как только Сапега отошел от Москвы, ополченцы напали на башню у Москвы-реки. Напали дружно, поляков выбили, пушки развернули, ударили по наступающим жолнерам, да порох скоро кончился.
– Мы теряем реку! – испугался Гонсевский.
В бой устремились не только поляки, но и холопы Салтыкова. Башню отбили.
Командиры явились к Гонсевскому с упреками:
– Зачем ваша милость отпустил войско?! Русские знают, что нас мало.
– Нас мало, но мы перестали голодать. Распустите слух, будто к нам идет литовский гетман Ходкевич с большим войском. Придумайте что-либо! Где ваша воинская хитрость? Напугайте! Москали – трусы.
Пан Трусковский вместе с юными сыновьями обороняли башню у Никитских ворот. Младшему, Иосифу, тринадцати не исполнилось, старший, Адам, ждал четырнадцатилетия.
Пана Трусковского занесла в Москву крайняя нищета. Свой хутор, слуг и даже пани Трусковскую он проиграл в карты. Без крыши над головой, без клочка земли, без денег, он взял с собой единственное достояние свое – сыновей – и явился в Москву незадолго перед Вербным воскресеньем. Успел к бойне 19 марта. Резал и грабил усердно, разбогател. Ранцы его детей были набиты русским жемчугом, драгоценными камнями, а его собственный – золотом. Из Кремля приказали: в полдень по звонку стрелять в москалей, или даже в сторону москалей, и сделать не менее десяти залпов.
– Можно стрелять куда угодно? В дома, в птиц? – спросил отца Иосиф.
– Выходит, что так, – ответил пан Трусковский, – но лучше все-таки в москалей.
– Отец! – позвал к бойнице Адам. – Три москаля. Стрелять?
– Упаси боже! Приказано в полдень, по звонку.
– Но они уйдут.
– Солдат делает то, что приказано! Тебе, будущему маршалу, не стыдно ли задавать такие вопросы? – с нарочитой строгостью укорил Адама пан Трусковский.
– Ослушников под расстрел! – крикнул брату Иосиф. Адам, пылая щеками, чтобы не видеть насмешливых взглядов жолнеров, лег грудью на бойницу, приложился к ружью.
– Адам! – закричал на неслуха пан Трусковский.
– Но я только целюсь! – ответил сын.
Москали стояли возле колодца, заглядывали в него, о чем-то спорили. Адам сначала выбрал старика: мудрый враг опаснее десяти молодых. Потом перевел ружье на человека в розовом кафтане. Этот наверняка дворянин, к тому же соглядатай. Не столько в колодец смотрит, сколько на башню, прикидывает, как безопасней подступиться к твердыне. Третий был совсем молодой, но огромный, кудрявый, настоящий русский мужик.
Адам прицелился богатырю в голову, но парень то наклонялся над срубом, то показывал в глубину улицы, то поворачивался к башне.
– Наши набили этот колодец бабами, – сказал кто-то из жолнеров.
– Но зачем он им? Колодец под обстрелом.
– Водные жилы соединяются. Отрава одного может испортить воду других колодцев.
Адам подумал: «Надо бы так стрельнуть, чтобы русский упал в сруб». Перевел ружье, целясь в грудь, в живот. Уж такой широкий этот русский, что только стрельни по нему – и не промахнешься. Адам насыпал на полку пороха и отвернулся от ружья.
– А когда дадут звонок? – спросил отца. – Сколько еще ждать?
– Сказано – в полдень, а когда быть полдню, то командиры решают, – ответил Адаму седоусый жолнер.
Мальчик снова приложился к ружью. Повел стволом на старца, на дворянина и остановился на богатыре. Русские, видимо, закончили осмотр колодца, собирались уходить.
Ружье выстрелило… само. Звоном забило уши, ударило… Бросило прочь от бойницы… Бледный от боли и страха Адам сел на пол.
В башне замерли.
– Попал, – сказал седоусый жолнер. – Да еще как попал!
– Теперь тебя расстреляют! – крикнул брату Иосиф.
Адам заплакал от боли в плече, от безнадежности содеянного. Его поставили на ноги.
– На расстрел? – спросил Адам.
Жолнеры, смеясь, подвели мальчика к бойнице. Возле колодца лежал человек. Неподвижно. Мертвый.
И тут зазвонил колокол.
Мгновение – все жолнеры у бойниц. Еще мгновение – залп. Башня раскололась, как стеклянная. И еще был залп, и еще, еще, еще… Густо пахло порохом. Башня снова стала каменная, и перепонки в ушах уже не разрывались от боли, а только вздрагивали.
Адам сидел на полу и, слушая залпы, ждал своей участи.
Пальба умолкла.
– Нагнали страха на Москву! – сказал пан Трусковский.
– Порох и свинец зазря потратили, – пробурчал седоусый жолнер.
Об Адаме, о его проступке никто уже не вспоминал.
Улуча мгновение, мальчик прошел мимо бойницы и увидел – человек, в которого он выстрелил, лежит на том же месте, у колодца, набитого русскими бабами.
Ночью москали ударили разом на все башни Белого города. Пан Трусковский бежал от Никитских ворот до Кремля, унося на себе раненого Иосифа. Русские захватили башни Чертольских ворот, Арбатских, Водных.
Еще через день воины Ляпунова освободили Девичий монастырь.
– Эй! – кричали ополченцы кремлевским сидельцам. – Где же ваш литовский канцлер? Видать, Литва вся вышла, одна Кишка осталась! У Ходкевича сила – ого какая! – пятьсот сабель!
Пан Кишка был ротмистром в отряде литовского гетмана Ходкевича. Выходило, что москали знают о польском войске больше, чем знали о нем в Кремле.
Патриарху Гермогену вернули его келейника. Вдвоем молились о спасении Отечества.
– Велик грех измены помазаннику Божию, – говорил Гермоген Исавру. – Предала Москва плохенького царя Шуйского, и царство погибло. Но Господь услышит, Господь простит. Близок час, когда слезы раскаяния окропят расчлененное тело России, и те слезы будут как живая вода, соединят разрубленное, оживят мертвое. Наши тюремщики держатся в Кремле из последних сил. Близок час, Исавр!
Келейник усомнился:
– Три месяца стоят многие тысячи под стенами не Москвы – Китай-города, Кремля, а ничего с поляками поделать не могут. Подкопов под стены не ведут, лестниц к стенам не ставят.
– Какое сегодня число? – прервал патриарх причитания Исавра.
– Восемнадцатое июня, мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Боголюбской иконы Божией Матери.
– Боголюбово, слышал я, место раменное, – вздохнул Гермоген. – Даровал бы Господь свободу, обошли бы мы с тобою, Исавр, все русские обители, подивились бы красоте родной земли. Нет угоднее дела, чем зреть и хвалить землю пращуров.
– Владыко святый! Помоги, вот силюсь вспомнить образ Боголюбской, а перед глазами – пусто.
– Лепая икона, – сказал Гермоген. – Богоматерь написана во весь рост, в правой руке у нее свиток, левая раскрыта ко Иисусу Христу, что в небеси на облаке. А на земле коленопреклоненный князь Андрей и храм, а может быть, и два храма…
– Владыко, смилуйся! Просвети, как явилась святая и чудотворная…
– Князь Андрей шел из Киева во Владимирскую землю, переселялся. Вез он икону «Умиление», писанную евангелистом Лукой, ту, что рядом с нами ныне, в Успенском соборе, и зовется Владимирской.
Келейник при имени иконы пал на колени, отбил три поклона.
– Лошади, везшие киот с чудотворной, – продолжал Гермоген, – в том месте, где теперь Боголюбово, встали как вкопанные. И было князю видение в том самом месте, в шатре. Сие видение князь Андрей повелел запечатлеть на иконе, а себя нарек Боголюбским.
– Почитать бы акафист чудотворной, – сказал Исавр.
– Утешим себя чтением Псалтыри. Где откроешь, там и читай.
И открыл Исавр Псалтырь на странице, где сказано: «В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; из среды грома Я услышал тебя; при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ Мой, и я буду свидетельствовать тебе; Израиль! О, если бы ты послушал Меня!»
– «О, если бы ты послушал Меня!» – повторил Гермоген и заплакал.
Но тут загремели засовы, и слезы, как от сильного ветра, в мгновение высохли на лице патриарха.
Пришел Михаил Глебыч Салтыков.
Встал у порога на колени.
– Видишь, я чту в тебе моего патриарха!
Гермоген молчал, ожидая каверзы от изменника. Салтыков поднялся с колен, сел на скамью против святейшего, глядел одним своим глазом в самое лицо.
– Плохо ты молишься, великий пастырь. Задуматься пора. Чем горячее твои молитвы, тем меньше на Руси благодати.
– Правду говоришь, – согласился Гермоген.
– Молишься не о том. Господь желает на Московском царстве Сигизмунда, а ты своими молитвами перечишь высшей воле.
– Ты пришел, чтобы это сказать?
– Я пришел сказать тебе, упрямец, – Смоленск пал. Воеводу Шеина на дыбу поднимали, увезли в Литву. Будет за упрямство гнить в литовской тюрьме.
– Всю Русь в тюрьму не посадишь.
– Ты за всю Русь молчи. В тюрьмах дураки сидят. Умные умным в ножки поклонятся и будут жить припеваючи. Гермоген сидел опустив голову, но теперь он посмотрел на Салтыкова.
– Что же ты ко мне ходишь, к дураку? Кто тебя ко мне водит? Уж не совесть ли твоя, а, Михаил Глебыч?
– Скоро все тебя забудут, упрямец. Мы открыли мудрого пастыря в Арсении-греке, архиепископе архангельском.
– Архиепископе? Архангельском? – удивился Гермоген. – Оттого архангельском, что служит в кремлевском Архангельском соборе? А кто его в архи-то возводил?
– Да уж нашлось кому… Ты все же подумай, святейший! – Салтыков встал, широко, по-хозяйски прошелся по келии. – Дело ли патриарха из-за упрямства взаперти сидеть? У короля войско теперь свободно, завтра уже придет под Москву. Подумай, крепко подумай! Сегодня ты еще нужен нам, боярам, но завтра – нет. Твои духовные овцы – русское племя ничтожное – овцы и есть. С такими тысячами под самый Кремль подступились, а взять ни ума нет, ни умения, ни хотения. Знают, что ты в темнице, но не торопятся вызволить.
– Оставь нас, – сказал Гермоген, – нам с Исавром на молитву пора.
– Бога ради, не проси за Московское царство, чтоб еще хуже не было! О себе молись.
– Сначала моя молитва о тебе будет, Михаил Глебович.
Двух недель не минуло, снова пришел Салтыков в скорбную келью Гермогена. Белизной лица и белизной седин сравнялся. Погасший человек.
– Радуйся, – сказал патриарху. – Бог меня покарал.
Гермоген перекрестил боярина.
– Ничья беда христианину радостью быть не может.
Михаил Глебыч припал головою к плечу святейшего, плакал беззвучно, неутешно. Гермоген усадил старика на свою скамью, дал воды.
– Моего Ивана в Новгороде на кол посадили, – сказал и окаменел.
– Утешься пророчеством Исайи, Михаил Глебыч: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов».
– Я сегодня первый раз заплакал, – сказал Салтыков. – Ты говори, говори. Выговорись. Выплещи камень боли словами.
– Иван против короля пошел, – смиренно исполнил приказ святейшего боярин, – с новгородцами соединился. Но ему не поверили. – Посмотрел на Гермогена оком, ясным и чистым, как око ребенка. – На кол водрузили! Чтоб не сразу вон из жизни, чтоб жизнь волком выла, чтоб смерть желанной была… из-за меня… Пособоруй меня, святейший, ибо половина меня мертва, как мертв и темен мой вытекший глаз.
Схватил патриарха за руку.
– Знай! Я от своего не отступлюсь. Я тебе враг, и с твоим Ляпуновым у нас дороги никогда не сойдутся… Пособоруй!
Война между ополчением и поляками шла ружейная. Кремлевский наряд онемел из-за скудных запасов пороха. Пушки Ляпунова не смели сыпать ядра на отеческие святыни. Справа от Фроловских (Спасских) ворот Воскресенский монастырь с храмом Воскресения, где погребены великие княгини и царицы. Монастырь женский, поставлен женой Дмитрия Донского, преподобной Евфросиньей. За Воскресенским, через стену – Чудов монастырь, напротив Кирилловское и Крутицкое подворья с храмами. За подворьями, ближе к Ивану Великому, – огромный двор князя Мстиславского с тремя церквами. Посреди Кремля Иван Великий, храм Рождества, собор Михаила Архангела, где погребены государи, храм Благовещения, патриарший двор, соборный храм Успения, царский дворец, дворы Федора Ивановича Шереметева, Бельского, Клешнина, пять дворов Годуновых, и все со святыми церквами, с часовнями.
Пушки Ляпунова молчали, но он сам был как бомба, готовая взорваться от хитростей и двурушничества сотоварищей своих бояр, Дмитрия Тимофеевича Трубецкого да Ивана Мартыновича Заруцкого. Боярство у обоих липовое, сказанное Вором, но, однако ж, бояре! Сам Прокопий Петрович был думным дворянином, грамоту получил от Шуйского, падения которого желал, добивался и добился.
Выходит, для самого себя.
Теперь сам был правителем всея России. Боярин Федор Иванович Мстиславский правил одними кремлевскими боярами, Сигизмунд – Смоленском, королевич Владислав – ничем, а он, Прокопий Ляпунов, – всей Россией. Правда, на грамотах имя свое приходилось ставить после Трубецкого и Заруцкого, но люди знали, чья из трех голов – главная. Он и от себя не стеснялся давать указы. Еще в апреле отправил на воеводство в Сольвычегодск своего человека своей грамотой. Волей Ляпунова приказывал Казани, воеводе боярину Василию Петровичу Морозову вести под Москву казанскую рать.
И все же это не было властью, но одним только воплощенным в человеческое имя гласом народа, совестью. Откликались не на указ, на зов всеобщей русской боли. Боль не может править царством долго, к слезам тоже привыкают, царство живо устроением и законом.
Свершилось! Ополчение русских земель и городов, по польскому обычаю, по обычаю Тушина, 30 июня 1611 года собралось на коло, и на этом коло, где говорил и давал говорить Ляпунов, был составлен приговор.
Московское государство именем представителей всех русских земель – земщиной – получило законную и, главное, свою, русскую власть.
Перво-наперво приговор объявил правительство, чья временная, до избрания царя, власть распространялась на войско и на все русские города и земли. Многие статьи приговора писал сам Ляпунов, и потому были они крутоваты, но справедливы.
«Поместья и отчины, разнятые боярами по себе и розданные другим без земского приговора, – отобрать и из них дворцовые… отписать во дворец, а поместные и вотчинные земли раздать беспоместным и разоренным детям боярским» (то есть служилым людям).
«Отобрать дворцовые села, черные волости, а равно и денежное жалованье у всех людей, которые, служа в Москве, Тушине или Калуге, получали по мере своей».
«Не отнимать поместий у жен и детей умерших или побитых дворян, не отнимать поместий у сподвижников Скопина, у смоленских сидельцев».
«С городов и из волостей атаманов и казаков свести, запретить им грабежи и убийства. Посылать по городам и в волости за кормами дворян добрых».
Мало объявить законы. Власть тогда и власть, когда законы исполняются. Пресекая всякое самоуправство, обуздывая всеобщее себялюбие и постоянство разбоя, были устроены приказы: Разбойный, Земский, Поместный, Большого прихода и четверти. Убийцам и ослушникам новая твердая власть грозила смертной казнью.
Уже на другой день после объявления приговора Прокопий Петрович Ляпунов отправился в земскую избу решать дела и чинить суд.
Приехал спозаранок, чтоб набраться духу в одиночестве, помолиться, подумать, с какого края тянуть матушку-Россию из ее пропасти.
У земства во весь двор до крыльца – очередь. На самом крыльце, ожидая правителя, князья Волконский и Репнин, воеводы Мансуров, Волынский, Нащокин, трое Плещеевых.
– Что стряслось? – напугался Ляпунов.
– Ничего! – ответил за всех Матвей Плещеев. – Пришли за грамотами на поместья.
– С какого часа вы здесь стоите?
– Люди с ночи, а мы только что…
– Почему тогда всех за спину себе? Откуда такое правило? – Ляпунов покачал головой. – Встаньте, господа, в очередь.
– Ка-ак? – На него воззрились с изумлением.
– Приговор вчера принимали? Умейте слушаться своих законов. Пока нет царя, все мы перед Отечеством равны и без мест.
Видя, что правитель подзадержался на крыльце, к нему подбежали и пали в ноги несколько женщин.
– Смилуйся, Прокопий Петрович! Нас казаки от семей увезли, держат за непотребных женщин, в карты друг другу проигрывают.
– Ужо будет казакам, – сказал Ляпунов, – а вы очереди своей дожидайтесь.
– Прокопий Петрович! Мы – рязанцы.
– Вот и хорошо. Рязанцы – люди справедливые.
Первым в очереди оказался дворянин Афанасий из Перми. Просился домой. Разбойники сожгли у него дом, поместье разорили, жену увели, малые дети нищенствуют.
– Не отпустил бы тебя, – сказал Ляпунов, – ныне вся Россия и в огне, и в нищенстве. Но ты первый, и начинать с отказа к добру ли? Езжай, Афанасий, домой, устрой детишек и возвращайся с дюжиной воинов. Это тебе наказ. – Молиться за тебя буду, Прокопий Петрович!
– Ступай. Люди ждут.
Следующими ударили челом атаманы Коломна, тоже Афанасий, и Заварзин Исидор. Коломна был человек величавый, он и говорил, а Заварзин все носом шмыгал, не запомнил его Прокопий Ляпунов.
– К чему бы два Афанасия кряду? – удивился Ляпунов. Коломна тотчас и польстил правителю:
– Афанасий по-нашему, по-русски, – бессмертный. Долго будешь жить, Прокопий Петрович.
– С вами, с казаками, наживешь! – Развернул поданные атаманами грамоты. – Ишь сколько земелек нахватали. И все служа в Тушине да в Калуге. Служили вы, атаманы, лжецарю, ваши грамоты ложные. Однако за службу земскому войску жалованье вам положено. Выбирайте: хотите – денежное, хотите – поместьями. У тебя, Коломна, пожалований, как у князя. Бери самое хлебное, то и будет твоим.
Глаза атамана полыхнули ненавистью, но стерпел, положил перед Ляпуновым одну из грамот.
– Город пожелал! Нет, атаман, за твою службу, за многие твои разбои смирись на село… Ты, Заварзин, выбрал? Остальные грамоты сожгите, изберем царя, он за воровские грамоты еще и накажет. И вот что я вам скажу, господа! У вас в таборе чужие жены, в рабстве, для блуда… Всех отпустите с миром. На то будет указ. Не исполните – пеняйте на себя. Я сам погляжу, какие вы гаремы устроили.
Ляпунов слово сдержал, приехал в казачий табор. Всех женщин, пожелавших вернуться домой, при нем сажали на телеги и тотчас увозили.
– Ты что хозяйничаешь у меня? – накинулся на Ляпунова Заруцкий.
– Помилуй, Иван Мартыныч! – прикинулся простаком Ляпунов. – Мы с тобой взялись выручать Россию из плена и сами же держим в плену чужих жен, поганим невест. – Зачем имения отбираешь у казаков? Мало они крови пролили?
– Кто пролил, того уж нет. Имения розданы холуям Вора, разорителям Русской земли.
– Может, и я холуй Вора?
– Ты нет, Иван Мартынович, – сказал серьезно Ляпунов. – Ты боярин Вора. Ты в Клушине царское войско побивал.
Заруцкий выгнул бровь дугой, соображая, оскорбили его или одобрили. А может, дважды оскорбили?
– Плохо твои казаки воюют, – сказал Ляпунов правду. – Мы столько сил потратили, чтоб взять башни в Белом городе, а ты со своими воителями со стороны глядел, как мы бьемся. Ни один казак с места не стронулся, чтоб пособить.
– Кормежка несытная, – буркнул Заруцкий.
– Хочешь сказать, Иван Мартыныч, казаку правое русское дело не дорого, ему, молодцу, привычней безоружных людей грабить.
– Не любишь ты казаков, Ляпунов!
– Полюблю, коли будет за что.
Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой держался от обоих правителей земщины особняком. Первый воровской боярин, он был рода древнейшего, потому и в правительстве получил первенство. Пребывая в ополчении, он понимал, что от служения Вору уже отмылся, но будущее России все еще было во мраке, и князь не спешил со своими хотениями. Ему было удобно, что всем заправляет выскочка Ляпунов. Правда, кипучесть рязанца раздражала князя, щепетильная честность – приводила в бешенство. Но не было бы Ляпунова, пришлось бы самому урезонивать казаков. Народу что казаки, что поляки, если заявились – будет грабеж.
От самого ли Заруцкого, из лагеря ли Трубецкого, а может, коварством «близких» людей Прокопия Петровича, но Гонсевский получил известие о большом скандале в ополчении. Воевода Матвей Плещеев, стоявший в Николо-Угрешском монастыре, поймал двадцать восемь казаков, грабивших монастырские села. Казаков чуть было не утопили, но все-таки не утопили, вернули Заруцкому.
– Мне нужен образец почерка Ляпунова, – потребовал Гонсевский от Грамотина и Андронова.
Грамотку, писанную рукой Прокопия Петровича, нашли в бумагах царя Шуйского. Сочинили поддельное послание от имени земского правителя в русские города: «Где казака поймают – бить и топить, а когда Московское царство, даст Бог, успокоится, то мы весь этот злой народ истребим».
С этой грамотой был выпущен за стены Китай-города пленный донской казак, побратим атамана Заварзина.
Ляпунов про этого казака ничего не знал, он покинул лагерь, как только разбойники, взятые Плещеевым, собрали круг, требуя утопить ненавистного земского правителя. Прокопий Петрович отправился в Рязань, к своим, за крепкие стены. Но покидал он стан на Яузе в великом и тяжком сомнении: как бы казаки не снюхались с Гонсевским. Остановился в Симоновом монастыре, надеясь, что войско, рассудив, поймет – строгости не прихоть Ляпунова, народ ожидает от ополчения защиты от насильников и грабителей. Без поддержки народа поляков и бояр-изменников не одолеть.
К Прокопию Петровичу пришел старец, благословил спасаться от казачьего неистовства.
Ляпунов снова отправился в путь, но время было упущено. Возле Никитского острожка, недалеко от монастыря, его настигли казаки атамана Заварзина, коней выпрягли и увели. Пришлось ночевать в острожке, под казачьей охраной.
Сыну Владимиру Прокопий Петрович велел переодеться в простое платье и, если случится дурное, ехать в Нижний Новгород, говорить – смута от казаков. Да затворятся все ворота перед лживым племенем, живущим пролитием крови.
Спозаранку возле Никитского острожка поднялся шум, забряцали доспехи – явились служилые, дети боярские, жильцы, городовые дворяне…
– Прокопий Петрович! Отец родной, не оставляй! Ворочайся в свой стан. Без тебя дело не сладится.
– То-то же! – сказал Ляпунов, сразу позабыв свои сомнения и распираемый самодовольством.
Он возвращался на реку Яузу, в стан свой, как большой хозяин, без которого всему делу – конец.
Думал застать тишину, а у казаков в таборе – пальба, теснота – коло. Читали «ляпуновскую», писанную в Кремле грамоту.
Казаки послали звать на коло всех трех правителей, но Трубецкой посольство не принял, а Заруцкий так сказал:
– Сами с усами. Своей головой живите.
Отправил на коло верных людей мутить казаков. За Ляпуновым приехало еще одно посольство.
– Не ходи на круг, Прокопий Петрович! – сказали своему предводителю дети боярские.
Он не пошел, но от казаков прибыло третье посольство: дворяне Сильвестр Толстой да Юрий Потемкин целовали икону.
– Никто на тебя руки не поднимет, Прокопий Петрович. Но нельзя, чтоб ты перед всем казачьим войском был оболган. Поди, заступись за себя.
Он стоял на возвышении, среди моря ненависти. Он сразу понял: живым его отсюда не выпустят. Поглядел на березы вдали, на облака, овечками пасшиеся в синих высях. Крича и матерясь, ему сунули в руки грамоту.
– Ты писал?! Твоя рука?!
Удивился схожести почерка.
– Рука похожа, но таких слов не писал, не говорил.
– Врешь, собака! – Сабли вынырнули из ножен, как у одного человека. Казаки смелы убивать сворой.






