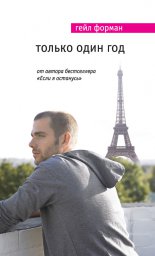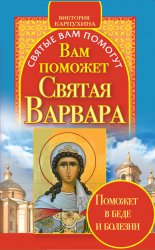Учитель Давыдов Алил
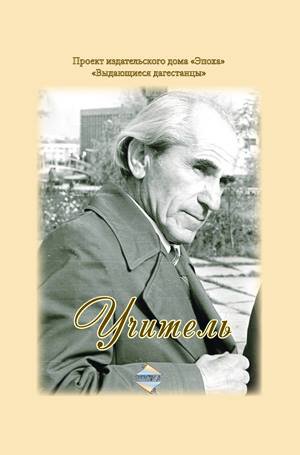
– Да нет. Можно, наверное. Только… Если Афонька узнает, он его убрать заставит. Или сжечь.
– Почему?
– Ну… Это идолопоклонство. Это еще хуже, чем старообрядчество. За это тебя на страшном суде точно в ад отправят, – Нечай усмехнулся.
– А ты? Ты сам не боишься в ад?
Нечай покачал головой.
– Я буду домовым после смерти. Днем буду спать за печкой, а ночью за домом присматривать.
– Правда? А откуда ты знаешь?
– Знаю, – Нечай пожал плечами.
– А я?
– А ты в ад отправишься. За грехи, – злорадно рассмеялся он.
– Почему?
– Потому что узки врата… Всем не пролезть. Вон впереди тебя сколько народу толпится: монахи первые, потом попы, потом праведники… Где уж тебе-то втиснуться!
– А здесь нельзя остаться? Ну… тоже домовым?
– Женщин в домовые не берут. Ну, есть, правда, водяницы, но в водяницы только красивых принимают. А ты, когда умрешь, старая будешь и страшная. Есть еще лярвы и кикиморы. Вот это для тебя в самый раз.
Нечай не сразу догадался, что Дарена обиделась. Во всяком случае, она постаралась это скрыть, только повернула голову в другую сторону и замолчала. А потом приподняла лицо, надеясь, что слезы закатятся обратно в глаза: Нечай сам делал так, когда был маленьким.
– Да я же пошутил, ты чего… – проворчал он: наверное, не стоило ей говорить про кикимор…
Она еле слышно всхлипнула. Груша дернула его за рукав, вынула изо рта огрызок петушка и протянула Дарене, только та этого не увидела, а то бы обиделась еще сильней.
Нечай порылся за пазухой, выудил оттуда третий – целый – петушок, и тронул Дарену за локоть.
– На, возьми. Не реви только.
Дарена посмотрела на него и улыбнулась сквозь слезы:
– Спасибо.
– Да не реви, сказал… Я ж на самом деле пошутил.
Она кивнула – настроение у нее менялось очень быстро, и, хотя она оставалась тихой и несчастной, глаза ее ожили: огонь ведь девка! Стерва, конечно, и хитрая, и балованная, но живая, с кипучей кровью. А уж любопытная…
– А откуда ты узнал про идола? – спросила она, шмыгнув носом.
– Его Груша нашла. Он в земле лежал. Ну, мы его поставили, очистили. Красивый, правда?
– Ага.
– Его зовут Волос.
– Откуда ты знаешь?
– Мне сказали лесные духи, – улыбнулся Нечай.
Короткие сумерки были удивительно тихими и безветренными: снег валил и валил, бесшумно и упорно. Нечай не очень верил в успех своей задумки, но продолжал сидеть у выбранной Ерошей могилы: в вывернутом мехом наружу полушубке, в шапке, надетой наизнанку и задом наперед, зажав в руке камушек с дыркой, который носил на груди. Этот камушек ему подарил на память о себе разбойник, которого повесили на следующий день после этого, и Нечай считал его своим оберегом. Ероша сказал, что вывернутая наизнанку одежда защищает живого человека от вредоносных духов, и что говорить с призраками очень опасно – им ничего не стоит утащить человека за собой в могилу или напугать до смерти. Духи мертвецов, которые не могут встать из могил, обычно злые, тем более те, что умерли безвременной смертью, как большинство похороненных здесь.
Ероша знал о них немного, но гораздо больше Нечая. Призрак придет либо в сумерках, либо в полночь. Если вообще захочет прийти, а тем более – говорить. Но если его звать, то он услышит.
Сумерки сгущались, а Нечай не чувствовал ни волнения, ни страха: ему было холодно и скучно. От снежинок рябило в глазах, от тишины в ушах шебаршился ватный шепот. Снег валил так густо, что Нечай не видел ни усадьбы, ни ельника, прикрывающего крепость – словно белый свет сжался, скукожился до крохотного пятачка: могильных холмиков с подгнившими крестами. Нечай сидел посреди этого пятачка, подтянув колени к груди, и мерз.
– Ну что? – наконец спросил он у падающего снега, – будем выходить или как? Мне это, что ли, надо? Мою могилу пока не раскапывали.
Голос утонул в снежной пелене, словно в вате. Никто ему, конечно, не ответил, и Нечай вздохнул долгим, протяжным вздохом. Однако, что-то произошло, потому что собственный голос не показался Нечаю уверенным. Наоборот, в тишине было как-то спокойней, а тут внутри что-то засвербело, и захотелось поскорей уйти.
Он не сразу уловил движения в снегу перед собой, примерно в трех шагах: мешали падающие снежинки. Только уйти захотелось еще сильней. Да что там уйти – убежать. Нечай повел озябшими плечами и посмотрел вокруг: он всегда плохо видел в сумерках, словно на глаза наползала какая-то пленка, и все время хотелось их протереть или сощуриться.
Страх тупым, зазубренным копьем воткнулся в солнечное сплетение и оборвал дыхание… Он пришел ниоткуда, за секунду до того, как порыв ветра сорвал с могилы пушистый снег и швырнул его Нечаю в лицо. И под сдутым снегом Нечай сначала разглядел темно-красные капли: пахнуло кровью, настоящей, человеческой кровью, и мертвечиной, и сырой землей. Страх забился, затрепыхался в горле, Нечай отшатнулся, оперев руки в землю, и замер, открыв рот, не в силах ни шевельнуться, ни вскрикнуть.
На снегу лежала отрубленная по локоть человеческая рука, истекала кровью и шевелила пальцами. От лужицы крови, от места отруба вверх поднимался парок, сильные мышцы судорожно сжимались и перекатывались под бледной кожей, синюшные короткие ногти цеплялись за рыхлый снег, стискивая его в кулак. Большая, грубая рука воина… она ползла к Нечаю, медленно перебирая пальцами и оставляя за собой глубокий кровавый след, расплавляя снег до самой земли. В серых сумерках кровь казалась неестественно красной, словно светилась изнутри.
Если бы Нечай мог двинуться, он бы, наверное, убежал… Ероша говорил, что крепкая брань может прогнать призрака обратно в могилу, но Нечай не смог выдавить из горла ни звука, какое уж там ругаться…
Рука подползала все ближе к его сапогам, подбираясь к спуску с могильного холмика. Теперь мысль о том, что призрак может утащить его за собой в могилу, почему-то не казалась ни смешной, ни нелепой. Нечай молча смотрел, как рука соскользнула вниз, словно саночки с горы, зарылась в снег и поползла дальше, загребая снег пальцами.
Паника трепетала внутри и не могла прорваться наружу. Из-под мурмолки выкатилась быстрая струйка пота и попала в глаз. Нечай лишь вздрогнул, когда серые пальцы ухватились за носок его сапога – сильные пальцы, до боли стиснувшие ногу. Он думал, что умрет от этого прикосновения, но вместо этого почувствовал твердый ком в горле, головокружительную дурноту и слезы на щеках.
Рука медленно поднималась выше, хваталась за сапог, и его кожа скрипела и сминалась. Из горла вырвался, наконец, слабый, сиплый всхлип, Нечай подался назад, но рука вдруг рванулась вверх и обхватила его лодыжку крепким кулаком. Нечай дернул ногу к себе, забился молча, надеясь освободиться, пинал кулак другой ногой, но рука приросла к нему, как колодка, цепью прикованная к стене. Шапка слетела на землю, снег полез за воротник и в рукава, Нечай скреб ногтями землю, но не смог сдвинуться ни на вершок. Силы быстро оставили его: он обмяк, обливаясь слезами, и замер, ожидая не столько смерти, сколько ужаса, который его убьет.
И тогда над покосившимся крестом раздался гул высокого пламени: упругие, тугие хлопки его оторвавшихся языков и ровный глухой ропот раскаленного света. Только огня не было, лишь снежинки разлетелись в стороны, как от ветра: в сумраке над могильным холмом проступил еле видимый силуэт. Островерхий шлем венчал его голову, плечи его развернулись на сажень, правая рука стискивала рукоять боевого топора, широко расставленные ноги уперлись в воздух над могилой. Вместо левой руки призрака из короткого рукава кольчуги свисал обрубок.
Тяжелый запах тлена стелился по земле, накатывал на грудь и густой слюной скапливался во рту. Нечай приподнялся на локтях и еще раз дернул ногу к себе – не помогло. Призрак легко и неслышно шагнул в его сторону: воздух под ним пружинил и прогибался, и Нечай рассмотрел прозрачные сапоги, и боевые кольчатые чулки, обтянувшие колени. Он снова попробовал освободиться, ударил сапогом по стискивающей лодыжку длани изо всех сил, рванулся назад, но широкая ступня призрака, едва заметно приподнявшись, опустилась ему на грудь, пригвоздив к земле. Локти подвернулись, и руки распластались по снегу – Нечай едва мог дышать, такая тяжесть давила на него сверху.
– Што тебе надо? – голос у призрака был глухим, и едва отличался от того гула, который окружал его прозрачное тело.
Нечай лишь всхрапнул, надеясь вдохнуть воздуха в грудь. Слезы высохли, но страх клокотал под тяжелой ступней, сотрясая тело не дрожью даже, а мелкими судорогами.
– Ну? – призрак надавил на него сильней.
Нечай захрипел – ему показалось, что у него треснули ребра. Тяжесть немного отпустила… Нечай стиснул зубы, чтоб унять трясущуюся нижнюю челюсть. Надо было, надо было спросить о том, зачем он сюда пришел… Но губы разъезжались, и голос не слушался. А вдруг раздавит?
– Ну? – повторил дух.
Надо, надо. Иначе зачем все это? Ну да, Нечай ни секунды не верил, что такое произойдет, что призрак встанет и будет с ним говорить, он смеялся и не верил! Досмеялся…
– Кто… – прохрипел Нечай пересохшим языком, – кто… не дает навьям покоя?
И тут же зажмурился, ожидая, как расплющится под ногой призрака грудная клетка.
– Что тебе за дело до навий? – голос призрака был презрительным и едким.
– Кто? – повторил Нечай еле слышно.
– Навьи не уснут, пока прах моих соратников не вернется в землю. И это все, что тебе нужно?
– Отпусти… отпусти детей… Люди их уничтожат… – выдохнул Нечай, – ты ничего не добьешься!
– Ты для этого звал меня из могилы?
– Да, – сглотнул Нечай.
– Хватило дерзости… – устало и зло сказал призрак.
Отрубленная рука, сжимающая лодыжку, стиснула ее еще сильней и дернула Нечая в сторону креста. Нога призрака скользнула на горло, Нечай попытался оттолкнуть ее руками, но руки хватали только воздух – это воздух давил ему на шею и не давал вздохнуть.
– Пусти, сволочь! – прохрипел Нечай, – пусти!
Он забился скорей от отчаянья, чем в надежде на освобождение. Он молотил свободной ногой по обрубку руки, ногтями цеплялся за землю под рыхлым снегом, рычал, извивался и бился головой об землю. С губ сами собой рвались ругательства – сиплые и еле слышные, как заклинания. Нечай сопротивлялся до последнего, ощущая, как медленно и верно тело его ползет к могиле: и когда потемнело в глазах, и когда запах сырой земли и талого снега набился в нос, и когда свет внутри головы яркими вспышками ослепил его окончательно.
Было холодно. Темно и холодно. На лице лежала подтаявшая лепешка снега, и чьи-то руки осторожно счищали ее со щек. Полушубок задрался вместе с рубахой, спина лежала на голом снегу, и поясницу ломило от мороза. Нечай вскинул руку и вытер снег с глаз – над ним сидела Груша, сверху все так же летели большие белые хлопья, и давно наступила ночь.
Нечай сел и откашлялся: в горле першило, и какой-то комок на уровне кадыка мешал глотать. Груша начала снимать снег с его головы: и волосы, и мех полушубка, вывернутый наружу, и подол рубахи, и штаны – все сплошь было покрыто примерзшими ледышками, как будто он катался по снегу несколько часов. Нечай встряхнул головой, но лед все равно запутался в волосах и весь не слетел.
– Ну чего? Не пора ли нам домой? – спросил он у Груши: говорить было больно – мешал комок в горле.
Она кивнула, погладила его по плечу и махнула рукой в сторону тропинки, ведущей мимо идола.
– Что, нас там ждут? – он поднялся на ноги, скинул полушубок и долго его тряс, надеясь очистить ото льда.
Взгляд сам собой упал на могильный холмик: снег на нем был взрыт, но никакой крови Нечай не заметил. Или ее уже присыпало сверху? А было ли оно на самом деле, или ему все это привиделось в кошмаре? И чего он так испугался? От страха не осталось и следа, только усталость и равнодушие.
Кое-как очистив промокшие штаны и рубашку, Нечай завернулся в полушубок.
– Холодно-то как, – он передернул плечами, – пошли отсюда скорей.
Он взял Грушу за руку – она не сможет идти так же быстро, как он, тем более по глубокому снегу.
У идола их ждали: белые рубахи на снегу были заметны еще меньше, чем на черном фоне осеннего леса. Только глаза светились ярче, и снег поскрипывал под их тяжестью.
– Мы не смогли выйти… – виновато сказал Ероша и опустил голову.
– Да ладно… Я и не ждал, – Нечай улыбнулся и взлохматил ему волосы.
– Ты здорово ругался, дядя Нечай, – тот поднял горящие глаза, – они не любят, когда ругаются.
– А что, и тут было слышно?
– Если ухо к земле прижать, мы много чего можем услышать.
Они попрощались быстро – Нечай продрог так, что зуб на зуб не попадал. И насчет ночи он ошибся – когда они с Грушей вернулись домой, все только садились ужинать. Мама, конечно, ругала его за насквозь промокшую одежду, но, развесив ее около печки, кутала его в овчинный тулуп, под которым он обычно спал, и поила горячим малиновым настоем. Он так и сидел, накинув тулуп на плечи, когда ребята пришли учиться, покашливал и с трудом выталкивал из горла слова.
День третий
Лес. Тяжелый мартовский снег и острая корка наста. Солнечные блики на блестящем снегу брызжут в глаза ослепительными вспышками и расплываются черными кляксами, прожигают зрачок горячими красными пятнами и рассыпаются золотыми искрами.
В голове мутится: мысли Нечая похожи на жидкую крупяную похлебку, разваренную и пресную. Нельзя останавливаться: это он помнит. Спать надо, зарывшись в сугроб, глубоко-глубоко. Весеннее солнце не греет, оно только кажется теплым, и минутный отдых может обернуться вечным покоем. Снег можно есть – он тает во рту. Зайцы грызут горькую кору деревьев, и живут. И он тоже очень хочет жить, гораздо сильней, чем спать. Руки должны прятаться в рукавах, иначе они отмерзнут.
Нечай ползет по снегу на четвереньках – это проще. Если голова кружится так, что небо меняется местами с землей, он не падает. Иногда под ним проваливается наст, и тогда приходится прорубать себе дорогу локтями несколько саженей подряд, но идти тяжелей: ноги уходят в снег гораздо выше колен.
Сил нет. Нечай похож на трясущегося от старости деда: локти дрожат от напряжения и гнутся, словно тонкие ветки. Будто не кости у него внутри, а кисель, обтянутый кожей и для верности обернутый рукавами армяка. Рукава он перевязал веревками, натянув их на пальцы, но снег все равно набивается внутрь – сначала колючий, потом мокрый, а потом – пропитавший рубаху согретой влагой.
Нечай очень хочет жить. Он не чувствует ни голода, ни боли – только усталость. Он никогда так не уставал. Он хочет поверить в свою свободу, он хочет ощутить ее вкус – и не ощущает. Он волен ползти, куда ему заблагорассудится, и никто не станет его подгонять. Он ускакал от одной смерти, чтобы тут же оказаться в лапах другой – смерти от холода. И, наверное, она ничуть не лучше, разве что – легче и приятней.
Чьи-то уверенные шаги он слышит не сразу, но когда понимает, что это погоня, рвется вперед изо всех сил. Жалких, последних сил. Наст крошится под его тяжестью, с одного рукава слетает веревочка, и трясущаяся рука тянется вперед, хватаясь за обледеневшую корку снега. Наст царапает лицо, снег забивается под воротник, и Нечай не сразу понимает, что просто барахтается в снегу, как пловец на мелководье, и не двигается с места.
Сильные руки берут его за плечи, и он молча вырывается: беспорядочно отбивается руками, толкает противника ногами, извивается и мотает головой, но в ответ слышит только смех. И тогда, извернувшись, тянется зубами к сжимающим плечи рукам, но промахивается: зубы громко щелкают, прихватив кусочек меха с отворота чужого рукава.
– А ну-ка цыц! – сквозь смех говорит тот, кто держит его за плечи.
– Не дамся… живым… – хрипит Нечай и бьет открытой ладонью туда, откуда слышит голос. Жалкий его удар натыкается на меховой ворот, он стискивает мех в кулаке и дергает к себе. Но застывшие пальцы соскальзывают, и Нечай снова рвется, трепыхается, щелкает зубами и колотит руками куда попало.
– Здоровый-то какой… Щас стукну по башке, чтоб не рыпался…
Сухой кашель «петухом» больно драл горло: Нечай зажал рот воротником тулупа, чтоб никого не разбудить.
За пять лет в монастырской тюрьме он ни разу не простыл до горячки. Холод мучил его и зимой и летом, всегда, непременно, во сне и наяву, но ни разу его не свалил. И только попав к старому ведуну, Нечай болел долго и тяжело, будто его тело дождалось часа отомстить ему за эти годы. Он бился в ознобе и плавал в огне горячки, обливался потом и бредил сутками напролет. Видения, приходившие к нему в те дни, были или отчаянно страшными, или зловещими.
Кашель не отпускал, и мама все-таки проснулась, подошла к печке и потянулась вверх, погладив Нечаю свесившуюся руку:
– Сыночка, щас я молочка тебе согрею…
– Да не надо, мам. Я усну, – шепнул он.
– Щас, щас, сынок, – мама засеменила к полке, на которой стояли кринки с молоком, – молочка горячего с маслицем. И с медом. От такого кашля хорошо помогает, горлышко смягчит…
Горлышко… Нечай потихоньку усмехнулся: словно он маленький… Младший балованный маменькин сынок. Ведун бы никогда не догадался об этом: меньше всего Нечай походил тогда на маменькиного сынка – уже не зверь и не пес, но все еще дикий и злобный, забитый и затравленный, он каждую секунду ждал удара, подвоха, и на любое прикосновение норовил ответить грубостью.
Ведун был очень умным, умным и добрым. Он жил отшельником, и Нечай лечился у него до начала лета: постепенно становился человеком. Это ведун свел ему клеймо, оставив лишь шрам на скуле. Если бы не разговоры со стариком – долгие и откровенные – Нечай бы так и остался диким и злобным. Ведун стащил с него прошлое, содрал руками, словно грязную корку, и обнажил то, что, наверное, можно было назвать сущностью.
– Выпей, сынок, – мама, балансируя, поднялась на табуретку и осторожно протянула ему кружку, от которой поднимался сладкий пар, пахнущий кипяченым молоком и дымом – мама грела его в печи, раздувая угли.
– Спасибо, – Нечай поднялся на локте. Как все же здорово быть маменькиным сынком! И совсем не страшно промокнуть и продрогнуть до костей, если знаешь, что дома сможешь обсушиться и согреться. Он шумно отхлебнул горячего молока.
Небо, высыпав на землю весь свой запас снега, прояснилось, и над Рядком сияло солнце. Нечай шел по полю, на котором еле угадывалась тропинка, и с каждым шагом идти ему хотелось все меньше: если Туча Ярославич не послал гонца к воеводе, то не стоит дразнить гусей – надо тихо сидеть дома и не лезть к нему с рассказами о потревоженных мертвецах.
Но что-то ведь надо делать! Рассказать кому-нибудь? Но мужики в Рядке послушают Афоньку, а не Нечая. Уложить в могилы осиновыми кольями… По спине пробежала дрожь: летом они бегают по лесу, водят хороводы и поют… Там, где они купались, на утро распускаются кувшинки; на месте их игр гуще растет трава… Они ведь просто дети, маленькие дети, оставшиеся без присмотра! При чем тут могилы? В сырую землю, на съедение червям?
Нечай знал, каково оно – живым лежать в могиле. Может быть, души их и отлетят на небо, или куда-нибудь еще… А если нет? Откуда знать? Они не виноваты, они оказались между молотом и наковальней! Не трогал бы Туча Ярославич гробов, и они бы спокойно уснули на зиму, и явились в мир весной, как и положено… Играть и резвиться по ночам, никому не причиняя вреда.
Нет, никому нельзя о них рассказывать, даже Мишате. Нечай зашел в лес – там снега было поменьше. Неужели Тучи Ярославича он боится сильней, чем того призрака, что явился ему вчера в сумерках?
Наверное, сильней. Не самого боярина, конечно, и не воеводы, не архиерея, не монахов… Кнута и ямы он боится, холода и тяжелой работы. Так боится, что теперь трясутся поджилки. Нечай хмыкнул и пошел быстрей: не в первый раз! Боярин не решится. Если он со зла не послал нарочного к воеводе, значит, понимает – стоит Нечаю хоть полусловом обмолвиться о раскопанных гробах, о перевернутом распятье, о расстриге, причащающем дворовых, и Туча Ярославич окажется на дыбе рядом с ним. И тут – кто кого переупрямит, кто окажется сильней, тот и будет прав. Все вместе пойдут на рудник: и боярин, и его Гаврила, и Нечай. Впрочем, боярин может и откупится. Но архиерей – не воевода, по миру Тучу Ярославича пустит, всю землю заберет. Тогда Рядку точно придет конец, холопами на монастырской земле быть несладко…
Нечай видел много разных людей. И так сложилось, что людей, стоящих насмерть за свою правоту, среди них было больше. Разбойники, которые чтили Степана Тимофеевича и мечтали о казачьей вольнице, раскольники, которые не желали креститься тремя перстами – все они знали, что их ждет, все они без страха принимали и мучения, и смерть. Столкнувшись с ними в юности, Нечай быстро понял, что имеет цену в их глазах, каким надо быть, чтобы заслужить их уважение. Какими же жалкими ему казались трусливые проворовавшиеся попы и монахи-прелюбодеи! Какими пресными на их фоне были те, кто учился с ним в школе, кто боялся иметь собственное мнение и наизусть затверживал чужое. Видел он и таких, кто легко отказывался от своих слов, едва над ним нависала угроза пытки или тюрьмы, видел и тех, кто тайком, по ночам говорил то, что думает, а днем прикидывался и делал совсем другое. Как Туча Ярославич. Нечай искренне считал, что иметь убеждения и скрывать их – все равно, что убеждений не иметь.
Презирая раскольников за их дурь, за никчемность идеи, которая приводила их на костры и плахи, Нечай между тем уважал силу их духа. Уважал гораздо больше, чем изворотливый ум тех, кто ухитрялся выйти сухим из воды в любой переделке. И не сомневался в себе: если ему суждено оказаться на дыбе рядом с боярином – боярин проиграет.
Нечай вышел к усадьбе и, не долго думая, направился к широкой лестнице боярского дома, где две дворовых бабы подметали снег. Он поднялся наверх через ступеньку, потянул к себе тяжелую дверь и тут же лицом к лицу столкнулся с отцом Гавриилом. На этот раз тот вовсе не был похож на священника – в простой мужицкой рубахе с расстегнутым прямым воротом, в обычных синих штанах в мелкую полоску, и с непокрытой головой.
– На ловца и зверь бежит… – недобро осклабился расстрига, – каяться идешь? Так ведь поздно…
Вблизи его длинное, прямоугольное лицо еще больше напоминало разбойничье: от старости он не высох, а обрюзг – щеки обвисали вялыми складками, отделенные грубыми, толстыми морщинами от безвольных губ, но меж бровей лежали две глубокие борозды, придавая расстриге вид свирепый и уверенный. Однако широкие плечи его не согнулись, под мощной шеей вперед выпирали крупные ключицы, обтянутые узловатыми мышцами: наверняка, он до сих пор нравился бабам – от него веяло силой и осязаемой лихостью.
– По себе меришь, – усмехнулся в ответ Нечай, – не в чем мне каяться.
– Пошли ко мне, я давно с тобой поговорить хочу, – Гаврила отступил на шаг и взял Нечая за локоть – широкая, квадратная ладонь стиснула кости, словно железный браслет: одним движением Нечай освободиться бы не смог, а дергаться посчитал для себя чересчур ребячливым. Это не Радей и не Ондрюшка – расстрига напомнил ему монахов-надзирателей, каждый из которых в одиночку мог уложить его на землю или с легкостью сломать руку.
– Руку пусти, – Нечай смерил Гаврилу взглядом.
– Пошли, – расстрига дернул его вперед, к лестнице, действительно отпустил руку и подтолкнул в спину увесистым хлопком, – пока боярин тебя не увидел.
Нечай почувствовал себя вислоухим кутенком рядом с матерым кобелем.
«Келья», как именовал свое жилище Гаврила, находилась на самом верху боярского дома – изнутри еще более нелепого и мудреного, чем снаружи – в башенке, куда вела узкая, крутая полутемная лесенка. Нечай глазел по сторонам – он быстро запутался в переходах, поворотах, лестницах и уровнях. Со всех сторон его окружали стены с вычурной объемной резьбой по темному, яркому дереву, отшлифованному до зеркального блеска. Солнце, такое сияющее на дворе, проникало сюда бледными отсветами, или тонкими пучками лучей, ничего толком не освещавших.
Гаврила распахнул перед Нечаем дверь, в которую упиралась последняя ступенька лесенки в башню.
– Заходи. Вот она, моя келья! – он рассмеялся неизвестно над чем, – полушубок снимай, тепло здесь.
Келья оказалась очень светлой – большое решетчатое окно, затянутое цветными стеклами, выходило на запад: наверное, на закате тут некуда было деваться от солнца. Перед окном стоял стол, похожий на тот, что Нечай видел в кабинете боярина, только меньше. На нем тоже имелся чернильный прибор, лежало несколько книг с пожелтевшими страницами в кожаных переплетах, пачка чистой бумаги, и множество исписанных листов, сложенных в две аккуратные стопки. Над торцом стола висело большое перевернутое распятье. Не такое, как Нечай видел в часовне, а нарочно сделанное именно перевернутым – волосы божьего сына свешивались вниз, и струйки крови бежали куда им положено.
Расстрига расслабленно опустился в одно из двух кресел-качалок, поставленных напротив открытого очага, и кивнул Нечаю на второе.
– Садись. Во, гляди – камин. Греть не греет, но приятно. Боярин у немцев научился, хорошо хоть печи оставил – а то бы вымерзли тут.
Он привстал, нагибая кресло, подбросил на тлеющие угли три полешка, постучал по ним кочергой и откинулся обратно. Нечай провалился в кресло, едва не опрокинув его на спинку: чем-то оно напоминало деревянную лошадку для малых детей.
– Во, и качалки эти – оттуда же. Но я привык, мне нравится, – Гаврила повернул кресло так, чтобы сидеть напротив Нечая, снял сапоги и вытянул ноги, – и к камину тоже привык.
У Нечая сразу закружилась голова, он уперся ногами в пол, чтоб кресло перестало ходить туда-сюда.
– Ну что? – Гаврила потянулся к полке над очагом и взял оттуда костяную шкатулку, – ты табак когда-нибудь курил?
– Мне твоего дурмана хватило… – проворчал Нечай – про табак он слышал, церковь относилась к нему примерно так же, как к двоеперстию.
– Да нет, это не так. Просто приятно, – Гаврила вынул из шкатулки изогнутый запятой деревянный черенок, сунул тонкий кончик в рот и долго пыхтел, прикладывая к другому концу зажженную от углей лучинку. А потом откинулся обратно на спинку кресла и выпустил изо рта струю сизого едко пахнущего дыма.
– Попробуй, – он протянул черенок Нечаю, – трубка называется. Вдыхай дым в себя, подержи немного, а потом выдыхай.
Нечай пожал плечами – все же интересно, чего клирики нашли в табаке, чтоб запрещать его с таким рвением. Он с опаской втянул в себя дым, но тот застрял в горле сухим пыльным катышем: Нечай закашлялся, на глаза выкатились слезы, и вернулась вчерашняя боль в горле.
– Ничего. К этому быстро привыкают, – рассмеялся Гаврила.
Сколько Нечая не убеждали в том, что к дыму можно привыкнуть, ему ни разу не удалось этого добиться.
– Спасибо, я как-нибудь проживу, – он отдал трубку обратно.
Расстрига с наслаждением затянулся, поглядывая на Нечая смеющимися глазами, но потом лицо его изменилось.
– Вот сижу я здесь, в кресле, перед камином, сплю на перине, ем с боярином за одним столом, курю табак, хожу к Машке, когда вздумается… Ты думаешь, мне так хочется всего этого лишиться? Колодки надеть и гнить в яме до конца дней?
– Думаю, нет, – кивнул Нечай.
– Вот именно. И тебе, я думаю, тоже этого не хочется. Боярин – как ребенок малый, привык делать, что ему вздумается. Он считает, ему все с рук сойдет. Я нарочного к воеводе вчера на дороге только догнал и вернул.
Нечай прикусил губу – по спине прошла дрожь. Ноги шевельнулись, и кресло качнулось назад – Нечай вцепился руками в подлокотники.
– Че побелел? Страшно? – усмехнулся Гаврила, – вот и мне тоже страшно. Кто тебя, дурака, знает, что ты воеводе расскажешь о нашей «всенощной»? Туче Ярославичу эти «всенощные» вроде охоты, вроде кутежа – от скуки да от веселого нрава. Вчера он тебя ласкал, сегодня обиделся, завтра простит и снова приласкает… Что в голову придет, то и сделает – он о последствиях думать не привык. Он не злой, в общем, человек. Наоборот, добрый наверное. По-своему. Но обидеться может здорово – ночами от злости не спать. Про тебя сказал: сколько волка не корми… Я сначала против тебя настроился – зачем мне соперник? А теперь думаю – а пусть. Вдвоем веселей, да и не выкинет меня боярин на улицу. И келья при мне останется, и перина, и стол, и табак.
– Я уже сказал боярину, что об этом думаю. Тебе повторить?
– Не надо! Знаю я, что ты ему сказал. Чистоплюй, – Гаврила скривился, – я тебе совет дать хочу. И тебе, и мне спокойней будет, если ты согласишься с боярином. Ну, а если совсем не хочешь – сиди тихо дома, носа оттуда не высовывай, дай ему время все забыть. Он забудет, простит, еще и любить тебя станет – он такой, ты ему на самом деле понравился. А я позабочусь, чтоб он не совался к воеводе. И чем тише ты будешь сидеть, тем легче мне будет его удержать.
– Это все? – Нечай достал ногами пол и собрался подняться.
– Да погоди. Сядь, – расстрига нетерпеливо изогнул губы, – не понял ты ничего тогда, ночью, вот и взбрыкнул. Я рассказать тебе хочу… Может, ты иначе будешь думать об этом, может, тебе все это по-другому представится.
Глаза его вдруг загорелись, он рывком поднялся и подскочил к столу.
– Вот, гляди, – он дрожащей рукой протянул Нечаю книгу, – ты по-латыни читаешь?
– Нет, только по-гречески, – ответил Нечай.
– Жаль. Впрочем, у нас латыни никого не учат. А то бы я тебе дал ее прочесть. Я тебе так расскажу, – Гаврила сел, прижимая книжку к груди, – я ее перевожу сейчас, на славянский. У меня от этой книги все внутри перевернулось, будто глаза открылись! Я ведь монахом был, сан получил в молодости еще, в двадцать лет стал диаконом, а в двадцать пять – иереем. Только скучно мне там было, душа в небо рвалась, а тут – постная жизнь: молитвы, молитвы, молитвы. И чувствовал я, что вместо того, чтобы к богу приближаться, меня все сильней клонит к земле. Будто кто мне огромный сапог поставил на голову – и давит, словно я жук навозный: в дерьмо, в дерьмо! Чем больше ползаешь – тем сильней дерьмо вокруг себя ощущаешь. Еще восемь лет я так прожил; от скуки надзирателем пошел над теми, кого к нам на смирение отправляли. Тогда шалупонь одна шла: тот родителей не уважает, этот жену бьет, тот девок портит, этот по пьянке в храме сквернословит. И сроки были смешные – кого на полгода, кого на три месяца присылали. А потом, после Никоновского собора, и началось! Жгли раскольников целыми избами, в ямы бросали после пыток, в каменных мешках замуровывали – меня и то жуть брала. Ты представь – в стене ниша два аршина на аршин, меньше гроба, а туда человека запихивают и кладкой каменной замуровывают эту нишу, только дырку с кулак оставляют, чтоб воздух проходил, и кружка с водой пролезала. А он обожженный весь, с вывернутыми руками, с рваными ноздрями, спина кнутом исполосована, и язык с корнем вырван. И жили же они там! С ума сходили, конечно, но не сразу ведь! Идешь по монастырю, и стены стонут, и земля стонет – из ям голоса тихо так доносятся, словно из могил. Вот он рай, думаю, на земле! Что ж на небесах-то делается? Из-за чего сыр-бор-то? Ведь ерунда, выеденного яйца не стоит! Скорей бы уж, думаю, явился их антихрист, да положил конец этой распре! Хотел к настоятелю пойти, чтоб отпустил он меня подобру-поздорову. А потом смекнул: настоятель решит, что и я раскольник, и окажусь я сам в этой яме, заживо гнить. Да и где это видано, чтоб из монастыря так просто кого-то отпустили? В общем, сказал я, что в скит хочу удалиться, на север, в глухие леса. И что ты думаешь? Отпустил! Послушание назначил, письмо написал какому-то игумену, денег в дорогу дал.
– Сбежал? – спросил Нечай.
– Сбежал! – расхохотался Гаврила, – перво-наперво напился в кабаке, с бабой загулял на неделю – тут меня и увидел кто-то, настоятелю доложил. В общем, от церкви меня отлучили, анафеме предали, но я раньше успел уйти. И так мне понравилось жить в миру! Я ж в монастыре с двенадцати лет сидел. Мне тридцать три было, а я женщину в первый раз пощупал! Я воскрес, как Христос! Вот, думаю, сволочи! Рай на земле устроили! Да на кой ляд мне этот рай! Я всю землю исходил, на пяти морях побывал, чего только не навидался. Латынь выучил, в Риме осел ненадолго. Вот там-то мне один человек книжку эту и подсунул. У них там еще хуже было, чем у нас: папская власть, инквизиция. Да в Рядке бы всех на костер отправили за венки и хороводы, Афоньку – первого!
– Афоньку и Благочинный на дыбу отправит, если хоть раз его проповедь услышит, – хмыкнул Нечай.
– Ну, с этим я согласен, конечно. Я не про это, – у Гаврилы снова вспыхнули глаза, – понимаешь, он мятежный ангел! Он против Бога взбунтовался, не побоялся, что его в ад низвергнут!
– Кто? – не понял Нечай.
– Диавол. Он ангелом был на самом деле когда-то, понимаешь? И не захотел. Рая не захотел! Он в точности как я, такой же! И как ты. Все мы словно мятежные ангелы. Он – за свободу, за жизнь кипучую, за счастье тут, на земле!
– Видел я это счастье. Мне такого не надо, – Нечай опустил голову.
– Да ты не понял! Он придет скоро! Говорят, антихрист уже здесь, на царском троне. Будем жить, как хотим, будем жизнью наслаждаться! Никакого греха, никаких церквей! А сейчас надо его поддержать, надо, чтоб он знал, что мы его ждем, что мы в него верим, понимаешь? И сила в нем необыкновенная! Чего хочешь проси – он все сделает! Вот ты хочешь чего-нибудь?
– Хочу… – Нечай медленно кивнул.
– Попроси его, и он все тебе даст!
– Я хочу, чтоб вы с боярином гробы копать перестали.
Гаврила осекся.
– Странные у тебя желания… А впрочем… Туча Ярославич тоже большой чудило. Третью неделю просит, чтоб людей на его земле убивать перестали.
– Ну и как? Не помогает?
– Я считаю, тут у Князя своя задумка имеется, напрасно боярин беспокоится. Ясно ведь, что это не зверь и не человек, значит – темные силы. А темные силы у Князя в подчинении, это его войско. Откуда нам знать о его промысле? Раз убивает людей, значит, так ему надо.
– Да ну? И чем он лучше бога тогда, а? Объясни мне?
– Он – сильней! – расстрига поднял голову, и лицо его осветилось гордостью.
– Я пришел боярину сказать, чтоб он гробы больше не копал. Как только прах, над которым вы надругались, вернется в землю, так людей на его земле убивать перестанут, – Нечай поднялся.
– Да ты с ума сошел? – Гаврила встал вслед за ним, – а ну-ка сядь! Я зачем вчера нарочного догонял? Я зачем с боярином чуть не до кулаков ругался? А?
Он шагнул к Нечаю, выпятив грудь, и легко подтолкнул его обеими руками обратно в кресло. Нечай хотел отшагнуть назад, чтоб удержать равновесие, но проклятая качалка ударила под коленки, и он повалился в нее, опрокидываясь на пол вместе с креслом.
– Мне тебя убить проще, чем из-за тебя с Тучей Ярославичем ссориться! – рявкнул расстрига, ухватил Нечая за ворот и поднял его и кресло одновременно, – горло перережу, а ночью в лес брошу – и все! Оборотень загрыз! Тогда ты точно никому ничего не расскажешь!
Нечай перехватил руку, что сжимала его ворот, за запястье: сильная была рука.
– Ну попробуй, – прошипел он.
Расстриге было достаточно слегка надавить ему на грудь, чтоб Нечай оказался в горизонтальном положении – проклятая качалка слушалась малейшего движения.
– Только ты мне сначала скажешь, откуда ты это взял. Про гробы.
Нечай толкнул Гаврилу обеими ногами в живот – пятки словно в камень врезались! Но расстрига этого не ожидал и отлетел назад, увлекая Нечая за собой: хватка у него была железная. Ворот громко треснул, кресло, качнувшись назад, пошло обратно и подбросило Нечая вверх. Он вскочил на ноги, рванулся, и в руках Гаврилы остался изрядный клок рубахи. До того, как расстрига опомнился, Нечай успел подхватить кресло и ударил того по голове. Расстрига прикрылся рукой, и качалка щепками брызнула в стороны. Он прыгнул на Нечая в ту же секунду, хватая руками за горло и весом подминая его под себя. Нечай извернулся, ушел из захвата, но тут же уперся спиной в стену и выскользнуть не успел – Гаврила обхватил его торс вместе с руками, и они оба с грохотом упали на пол.
– Ну, – Гаврила сжал его в объятьях, отчего едва не хрустнули кости, – откуда узнал про гробы?
Нечай рванулся и впился зубами в выпирающую ключицу: расстрига взвыл и ослабил захват. Нечай поддал ему головой в подбородок – влажно клацнули зубы, и через секунду на голову закапала кровь, одновременно с ударом коленом в пах: от боли Нечай стал только злей, и ударил головой еще раз, и еще, еще! Руки, стискивающие его плечи, разжимались, когда распахнулась дверь: ни Нечай, ни Гаврила этого не заметили. Нечай вырвал руку и ударил кулаком в ребра, Гаврила перехватил его запястье и прижал к полу, надеясь удержать его ногой, но тут же получил обеими пятками в живот. Удар вышел мощный, расстрига отлетел на сажень, к очагу, а Нечай вскочил на ноги.
– Ну-ну… – проворчал Туча Ярославич, стоящий в дверях, – а я думаю – что за шум?
Гаврила, тяжело дыша, вытер струйку крови, стекающую на подбородок изо рта.
– Я говорю: его убить легче, чем успокоить… – проворчал он хрипло, – ты, боярин, руки испачкать боишься. Бросили бы в лес, никто бы на нас не подумал. Не первый – не последний…
Туча Ярославич опустил голову, и глаза его забегали по сторонам, зыркая исподлобья то на Нечая, то на расстригу.
– Душегуб ты, Гаврила… – пробормотал он через некоторое время, – креста на тебе нет…
– Я, может, и душегуб. И креста на мне нет. Чего ты боишься, а? Грех на душу боишься взять? Нету никакого греха! Это попы нарочно грехи выдумали, чтоб свободу у людей отобрать! Князь придет и вернет нам свободу, и грехи тебе отпустит – только поблагодарит! Или ты в яму хочешь?
Боярин посмотрел на Нечая, который, сжимая кулаки, подался назад, в угол, где висел его полушубок.
– Чего пришел? Прощения просить? – хмыкнул Туча Ярославич.
– Щас тебе, прощения просить! – рыкнул Гаврила, – он угрожать тебе пришел!
– Я поговорить пришел… – Нечай сглотнул слюну.
– И о чем же мне с тобой разговаривать, а?
– Я нашел их… Кто людей убивает, – выговорил Нечай.
– Удивил! – усмехнулся Туча Ярославич, – я сам их со дня на день найду! По следам. Может, я их уже нашел.
Сердце у Нечая сжалось: они же спят там, беззащитные совершенно!
– Я говорил с ними, – сказал он сквозь зубы.
– Да? – это Тучу Ярославича заинтересовало, – пошли вниз. Расскажешь все.
– Кресло расколотил мне, – проворчал Гаврила, – такую даль везли…
– Ничего, тебе столяр новое сделает, покрепче немецкого, – Туча Ярославич повернулся и направился по крутым ступенькам вниз, придерживаясь рукой за гладкие, блестящие перила.
Нечай подхватил полушубок и поплелся следом, оглядываясь назад – поворачиваться к Гавриле спиной было неуютно. Тот глянул на Нечая волком и захлопнул за ним дверь, не пожелав идти за боярином.
– Про Дарену соврал мне, подлец, – то ли сердясь, то ли посмеиваясь, сказал Туча Ярославич, но не оглянулся.
– Соврал, – равнодушно согласился Нечай.
– Зачем? Ни себе, ни людям…
– Она не хотела. И вообще… беззаконие это.
– Слышал, что Гаврила сказал? Нету никакого греха. Попы это выдумали, – хмыкнул боярин.
– Греха, может, и нет. А совесть как же?
– Не больно ли ты умен для колодника?
– Так это… в школе учился…
– Ты, говорят, детишек грамоте учишь? – на этот раз Туча Ярославич посмотрел через плечо и подождал, пока Нечай спустится на широкую площадку, с которой начиналась большая лестница вниз.