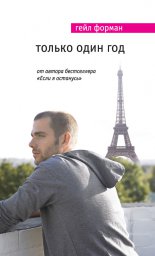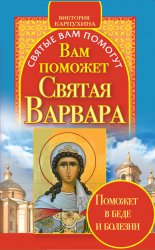Учитель Давыдов Алил
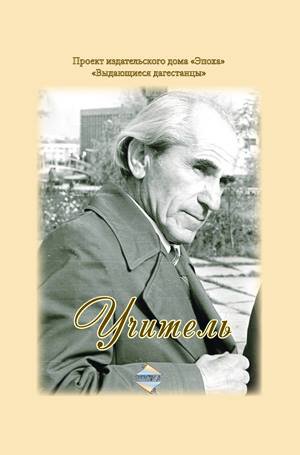
– Сынок! Сыночка! – услышал он мамин крик – ей было никак не пробиться вперед.
– Мама, не лезьте… – ее держала Полева, – это их дело, мужицкое, без нас разберутся.
– Сыночка, да что же это делается!
– Мишата, – Нечай шумно втянул в себя воздух, – к маме иди, а? Только мне не хватало…
– Давай, мамку позови, братишку, сноху, – хохотнул Гаврила, – детишек собери, как давеча!
– Ничего он нас не собирал! – выскочил из толпы Гришка, – мы сами! Мы с ним!
Мишата ухватил сына за воротник и, приподняв, встряхнул, но вслед за Гришкой вперед полезли остальные – Федька-пес, Ивашка Косой, Митяй, Стенька с братьями.
– Брысь! – рявкнул Нечай, – чтоб духу вашего тут не было!
Между тем мужики потихоньку расходились в стороны, освобождая пространство: в драку один на один поверили все – такие зрелища тут любили, только никто, наверное, не предполагал, что драться расстрига собирается насмерть. А иначе, зачем ему это нужно?
Гаврила, наконец, спешился, не глядя отдав кому-то поводья, и широким жестом снял шубу. Нечай снова почувствовал себя щенком, который смеет задираться к матерому зверю – не лучшее настроение для поединка. Впрочем, от этого ощущения злости только прибавилось; Гаврила же стал совершенно спокойным – его негодование улетучилось, едва он добился своего, пропал и странный блеск в глазах, и улыбки юродивого. Нечай никогда не дрался хладнокровно, напротив, считал своим козырем умение впадать в ярость, которая застила глаза: в драке он не чувствовал ни страха, ни боли, ни усталости. Но, глядя на Гаврилу, который бесстрастно закатывал рукава рубахи, ему стало не по себе – что его ярость по сравнению с этой невозмутимостью? Невозмутимостью матерого зверя, что собирается поучить щенка? Невозмутимостью надзирателя, усмиряющего взбрыкнувшего колодника…
– Нечай! Не надо, Нечай! – девичий крик перекрыл шум толпы.
Дарена… Вот только девок сейчас и не хватало! Гаврила посмотрел на Нечая исподлобья и осклабился.
– Да пустите же меня! Пустите скорей! Нечай! Погоди!
Она выкатилась на середину образовавшегося круга, за ней выскочил Радей, стараясь ухватить дочь за плечи – мужики ответили на их появление тихими смешками в усы.
– Нечай! – снова выкрикнула она.
– Поди к черту, – Нечай скрипнул зубами.
– Погоди! Иди сюда, – она отделалась от тятенькиных объятий, дернув плечами, и схватила Нечая за руку.
– Поди к черту, я сказал, – зашипел Нечай снова.
– Пойду. Куда хочешь пойду, только сейчас иди сюда, – она топнула ногой и дернула его в сторону телеги. Он и сам не понял, почему не вырвал руку и позволил ей вести себя эти несколько шагов.
Дарена приложила его ладонь к груди истукана и выкрикнула на всю площадь:
– Взойду я к тебе красным солнцем, облеку на тебя светлый месяц, опояшу румяными зорями, обтычу частыми звездами, что вострыми стрелами, от недруга и супостата. И как лежит в чистом поле сер горюч камень окаменелый, как лежит в поле кость окостенелая, так и тело твое будь крепко и твердо, и ретивое сердце, и горячая кровь. И слова мои будьте крепки и тверды, и словам моим небо – ключ, земля – замок.
Мужики захихикали еще более откровенно, а бабы, напротив, умилились и прослезились. Нечай же, не очень вслушиваясь в ее слова, ощутил вдруг, как через ладонь из твердого, дубового тела истукана в него идет если не сила, то уверенность в своей силе. И если накануне за спиной древнего бога стояли четверо мечтателей, то сегодня весь Рядок на руках принес его изваяние на площадь. Нечай оглянулся на Гаврилу, и увидел, как тот прижимает руку к поясу, где под рубахой прячется сатанинское распятие – символ его падшего ангела. Безоружный, значит?
– Теперь я пойду куда захочешь… – вздохнула Дарена, и выпустила его руку.
Нечай посмотрел мимо нее, оторвал руку от груди древнего бога и ничего не сказал. В голове прояснилось, ушла злость, и неведомый ранее холод тяжелым камнем лег на самое дно застывшего сердца, словно порыв ледяного ветра остудил ему кровь.
– Ну что, безоружный защитник православной веры? – Нечай подмигнул Гавриле, – давай посмотрим, чья возьмет…
Гаврила сузил глаза и кивнул.
А потом сознание отключилось – Нечай помнил только застывшие картинки, что мелькали перед глазами, чтоб тут же исчезнуть, смениться новыми. Гаврила был сильней, и быстрей, и здоровее – это не имело ровно никакого значения. Нечай помнил, как сползал по бревенчатой стене трактира, и как толпа отозвалась на это вздохом, и как кричала мама. Помнил, как бил кулаком в рыхлое лицо расстриги, и тот опрокидывался назад, чтоб вскочить на ноги, перекатившись через голову. Помнил, как в нос влетало синее колено в мелкую полоску, и как сам гнул широкую спину Гаврилы к земле, надеясь переломить тому хребет.
Небо то оказывалось под ногами, то взлетало над головой, земля кренилась и переворачивалась, как крышка колодца, а то застывала жестким горбом и била по спине так, что искры летели из глаз.
Помнил, как они катились по снегу вдвоем, и кулак Гаврилы летел в висок: Нечай поворачивался крепкой скулой ему навстречу. И бил сам – так сильно, что, казалось, сейчас расплющится кулак.
Помнил, как снова стояли друг напротив друга, шатаясь и тяжело дыша, и как сходились опять. И Нечай чувствовал, чувствовал тогда, что Гаврила выдыхается – в коротком бою тот был непобедим, но затяжного не выдерживал.
Нечай побеждал, и знал, что побеждает. А потом все пошло наперекосяк: в грудь ударило что-то тяжелое и острое – Гаврила собрал последние силы для молниеносного броска, Нечай отлетел к стене и не смог разогнуться, инстинктивно зажимая руками рану. Гаврила прыгнул сверху, время замерло, и Нечай увидел голову Иисуса с издевательски поднятыми дыбом волосами – острыми, как кончик ножа, и тяжелыми, как кайло. Он подставил ладонь, прикрывая висок, и Гаврила пропорол ее навылет, царапнув голову. Боли Нечай не почувствовал, но странная слабость вмиг охватила тело, побежала голова, и мышцы налились неподъемной тяжестью. Рука расстриги тут же взметнулась вверх, Нечай выставил вперед дрожащие пальцы, надеясь перехватить его запястье, но удар, направленный в лицо, смял бы сопротивление, как копыто лошади сминает соломину.
На расстригу навалились сзади сразу несколько человек, выворачивая ему руку, поднимая на ноги, оттаскивая назад. Между мужиков мелькнуло вытянутое, совершенно белое лицо Афоньки – на этот раз он, похоже, рассмотрел оружие расстриги во всей красе. От ужаса ему не хватило сил даже на крестное знамение: он пригибался, разглядывая руку Гаврилы с зажатым в ней распятием, и хлопал глазами.
Боль появилась внезапно, словно в голове провернули ключ: Нечай согнулся и привалился боком к стене, прижимая руки к груди. Рана между ребер была неглубокой, но и ее, и проколотую ладонь жгло словно ядом. Зачем Гаврила это сделал? На что надеялся? Ведь у всех на глазах?
Топот копыт совсем рядом развеял его недоумение: два десятка конных стрельцов выехали на площадь, сопровождая богатые, широкие сани, запряженные тройкой белых лошадей – сам владыко сподобил Рядок своим посещением. Гаврила увидел их раньше, чем Нечай. Увидел, и понадеялся, что успеет. Не успел…
Рядом с санями, угрюмый и сосредоточенный, ехал Туча Ярославич; позади стрельцов спешили молодые бояре и с десяток дворовых. Сани остановились, колокольцы затихли, а боярин вдруг приподнялся в седле: лицо его из задумчивого превратилось сперва в удивленное, потом в озабоченное, а потом по нему расползся бледно-желтый страх. Туча Ярославич упал в седло с приоткрытым ртом: ему не хватило силы ничего сказать, он только молча указал рукояткой плети на лежащего у стены трактира Нечая. Но его жеста никто не заметил.
Кто-то из мужиков еще шумел, но большинство замерло на месте. Нечай видел, как Радей крепко вцепился в извивающуюся Дарену, а Мишата и Полева держат за руки маму, которая еле стоит на ногах. Замерли-то они замерли, но как-то незаметно, потихоньку круг начал сходиться, заслоняя собой телегу; Нечай вздрогнул, ощутив еле заметный удар по земле – упал идол.
Владыко медленно и гордо покидал сани, глядя вокруг из-под сведенных на переносице бровей. Черный клобук делал его значительно выше ростом, широкополая соболья шуба с рукавами до пят, расшитая золотой парчой, скользила вслед за ним, словно живая, и сверкала, переливалась, так что было больно глазам.
Первым опомнился староста, отвесив архиерею земной поклон, вслед за ним подхватились остальные. Только те, кто держал за руки Гаврилу, не двинулись с места, а тот сначала забился, а потом обмяк и опустил голову – словно смирился с судьбой. А может, надеялся перехитрить мужиков?
Глаза же владыки выхватили из толпы именно расстригу: архиерей насупил брови еще сильней, моргнул несколько раз и шагнул в его сторону, не глядя более по сторонам. Туча Ярославич спешился, выражая покорность и смирение, только глаза его бегали, и бледное лицо еще более стало походить на восковую маску.
Круг сомкнулся, закрывая Нечая от глаз Его Преосвященства, но тот Нечаем вовсе не интересовался.
– Гаврила… – густой бас владыки разнесся на всю площадь.
Расстрига рассмеялся – громко и хрипло.
Рядом с Нечаем потихоньку скрипнула дверь, кто-то ухватил его подмышки и потащил по снегу за собой. Нечай запрокинул голову и увидел хозяина трактира, подмигнувшего ему одним глазом. Оказавшись перед дверью, Нечай успел заметить, как четверо мужиков заваливают снегом истукана, положенного вдоль стены.
Задняя дверь вела в кладовую – видно, к ней подъезжали подводы, доставляющие продукты. Вокруг стояли бочки, лежали мешки, висели куски солонины и рыбьи балыки.
Хозяин трактира заперся на засов, приложил палец к губам и шепотом спросил:
– Сильно ранен?
Нечай покачал головой.
– Пошли, спрячемся понадежней…
– Не боишься? – спросил Нечай.
– Чего мне бояться? – хозяин пожал плечами, – в первый раз, что ли, беглых колодников укрываю? Уж если чужим помогал, своему грех не помочь.
История закончилась быстро, Нечаю рассказывал ее Мишата – дома, когда мама размачивала присохшие к спине полотенца. Откуда владыко знал Гаврилу, никто не разобрался. Но услышав, что отец Гавриил несколько лет как причащает дворовых в часовне Тучи Ярославича, увез в город и того, и другого. Про Нечая боярин забыл, про идола – тоже, а архиерею хватило распятия, что расстрига сжимал в руках. Говорят, Гаврила напоследок объявил на весь Рядок о грядущем царстве антихриста, и призывал поклониться Князю мира сего, но мужики его не поняли. Афонька отделался легким испугом – его в полуобморочном состоянии отнесли домой, и владыко махнул на попа рукой.
Идола в тот же день поставили в лесу, на прежнем месте, а к ночи накрыли в брошенной бане столы – хватило бы всем покойникам, что Рядок похоронил за последние лет сто. И, говорили, наутро приготовленная еда исчезла, будто на самом деле в бане всю ночь пировали мертвецы.
Туча Ярославич вернулся к весне – исхудавший и изрядно присмиревший. С первого же дня начал наводить порядок на кладбище, велел сколотить новые кресты, и – поговаривали – сам обихаживал могилы, которые показались дворовым удивительно свежими, будто только что зарытыми.
Одна деревня из его владений отошла к церковным землям.
Гаврила, по рассказам дворовых, еще по дороге в город совершенно потерял рассудок, говорил о Князе Тьмы и антихристе на царском троне, и рассказы его были столь ужасны, что архиерей побоялся всерьез заниматься этим делом, объявив его раскольником, только окончательно спятившим. Это и спасло Тучу Ярославича – слова Гаврилы никто не желал принимать всерьез. Такая мелочь, как идолопоклонство какого-то смерда, по сравнению со всем остальным и вовсе не показалась архиерею заслуживающей внимания.
К Нечаю Туча Ярославич пришел через пару недель после возвращения: пешком, без сопровождения. Нечай к тому времени только-только перестал вздрагивать, заслышав топот копыт на улице, и боярину нисколько не обрадовался. Но тот предложил замириться и снова позвал Нечая к себе на службу.
– Некому Князю теперь служить? – скривился Нечай.
Туча Ярославич замотал головой и замахал руками:
– Хватит с меня князей, идолов, расстриг… На всю жизнь нахлебался. Я, знаешь, много думал… Было у меня время подумать… Прав ты оказался – баловство это, от скуки. Не готов я платить за свою веру. Или за неверие. Жить недолго осталось, пора и о душе позаботится.
– Дьяконом не буду тоже, – покачал головой Нечай.
– Нет, – боярин хитро усмехнулся, – я другое придумал. Пока жил в городе у родни материной, много слышал. Сейчас ученье очень одобряется, учителей из-за границы везут. Купцы наши, говорят, считать совсем не умеют, не чета немецким. В городе вот школу для учения детей открыли. Я и нахвастался, что у меня в Рядке тоже учитель имеется, грамоте деток обучает. А потом подумал: подлец я подлец! Чего испугался? Письма Афонькиного испугался? Живет человек на моей земле, говорит, что думает, и делает, что говорит. Где еще такое возможно? Ты ж мне с первой встречи приглянулся, я тебя приблизить хотел, а ты, мерзавец, что? Правду-матку мне в глаза?
Нечай хмыкнул и насупился.
– Ладно, ладно… – махнул рукой боярин, – Насильно мил не будешь… Школу хочу построить, чтоб ты там учителем был. Такой расклад тебе нравится?
Нечай пожал плечами – почему бы нет? За зиму он успел записать столько маминых сказок, что получилась целая книга. Да и с буквами в голову пришло множество новых мыслей, и с арифметикой: Нечай подумывал сделать настоящую азбуку и интересовался переплетным делом.
Эпилог
Дарена любила свекровь, несмотря на то, что та ворчала на нее и ревновала к ней своего ненаглядного сыночка, не позволяя ей лишний раз к нему прикоснуться. И только ночью, когда все засыпали, Нечай полностью принадлежал ей: он ласкал ее молча, лишь иногда говорил смешные глупости. У него были твердые руки, немного неуклюжие, но Дарена не знала ничего приятней прикосновения его рук. Удивительным человеком оказался ее муж: когда она была влюблена в него, в самом начале, он казался ей просто не похожим на всех, загадочным, окруженным ореолом мученичества. А потом выяснилось, что он добрый. И действительно не похожий на всех, только совсем не тем, чем ей когда-то виделось.
Два раза в год Рядок готовил угощение для навий, и время от времени, по ночам, люди видели издали стайку ребятишек, одетых в белые рубахи: они играли, водили хороводы, купались в реке. Вокруг Рядка цвели сады, распускались кувшинки, и густо росла трава. И Дарена считала, что без Нечая все пошло бы не так.
Его любили дети, наверное так же, как он любил их. Он был хорошим отцом и хорошим учителем. Он научил говорить и понимать слова по губам не меньше десятка глухонемых ребят – их везли к нему за тридевять земель, прослышав о небывалом чуде. А чуда не было, он всегда говорил, что ему повезло с первой ученицей. Груша выросла удивительно красивой девушкой и вышла замуж за Стеньку: а ведь никто не мог себе такого даже представить!
Ивашка Косой стал иереем, сменив отца Афанасия: отрастил брюшко и каждое воскресенье читал проповеди, в которых Иисус ни в чем не уступал Ивану-царевичу – ему и в детстве нравилось сочинять сказки. А ведь сына горькой вдовы ожидала совсем другая судьба, и лучшее, на что он мог рассчитывать – состоять при храме дьячком[20] или служкой.
Да что говорить! Ее муж менял чужие судьбы, как по волшебству. Дарене казалось, что все, к чему он прикасается, начинает жить по-другому.
Он был самым лучшим. Самым сильным и самым независимым. Как-то раз в Рядок приехал Федька-пес – разодетый в немецкое мичман, обученный за границей, гордый собой и бесконечно благодарный Нечаю за обучение. Не будь Нечая, судьба Федьки не стала бы столь счастливой, а жизнь – столь интересной. Азбуку, по которой Нечай учил его читать, Федька возил с собой как талисман, приносящий ему удачу. И приехал он в Рядок с единственной целью – забрать Нечая в новую столицу. Говорил, будто сам царь увидел эту азбуку и захотел посмотреть на учителя, который ее составил. Нечай не поехал. Он сказал, если царь хочет его увидеть, пусть заезжает в Рядок. А сам поедет к нему только вместе с печью – чтоб не мерзнуть в дороге. Ему всегда было холодно…
Он часто болел. Стоило ему промочить ноги, или долго стоять на морозе, или попасть под дождь – на следующий день его душил кашель, а то и горячка валила с ног. Когда Мишата строил новый дом, который мог вместить его двенадцать крепких и здоровых детишек, Нечай впервые согласился ему помогать. Но через две недели брат запретил ему появляться возле строительства – от тяжелой работы взгляд Нечая становился затравленным, по вечерам его мучили судороги, а ночью он боялся засыпать.
Он плохо спал. Он никогда не говорил о том, что ему снится, но Дарене казалось, что во сне он проживает какую-то другую жизнь, и жизнь эта не менее реальна, чем явь. Реальна и невыносима. А еще она думала, будто грань между его сном и явью столь тонка, что и она сама, и его школа, и ее свекровь, и Рядок всего лишь снятся ее мужу, и в любую секунду могут исчезнуть, раствориться, пропасть…
Иногда, очень редко, он просыпался, сжимая кулаки, и шептал, глотая слезы:
– Их не было! Не было! Все было не так! Не было там монахов, была пустая дорога, понимаешь? Они не могли там оказаться, просто не могли!
– Их не было, – соглашалась Дарена и обнимала его за плечи, – их не было…
И тогда на нее накатывал ужас: ей казалось, она обманывает и себя, и его. И монахи на самом деле стояли на дороге. И все, что происходит с ними теперь – неправда, выдумка, счастливый сон.