Жильбер Ромм и Павел Строганов. История необычного союза Чудинов Александр
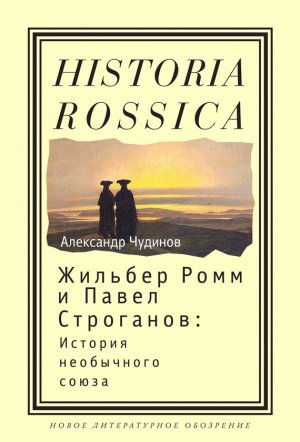
Прощайте, мой друг. Живя в самой прекрасной стране мира, я желаю Вам в стране, наиболее обиженной природой, такого же счастья и здоровья, которыми я наслаждаюсь здесь и которого Вы заслуживаете. Сообщайте мне свои новости три-четыре раза в год. Это будет одним из наибольших удовольствий для сердца, которое Вас любит и хочет любить Вас всегда.
Аббат дю Рузо[392].Как видим, хотя все письма Рузо до Ромма дошли (они находятся в итальянской части его личного архива), тот не спешил на них отвечать, очевидно, утратив заинтересованность в сохранении связи с Орденом. Возможно, Ромма оттолкнули от масонства дрязги и бюрократическая волокита внутри «братства», от которых он пострадал. А может, он увидел, что масонское звание не сулит ему в России никаких выгод. Не исключено, что у него появились и другие, неизвестные нам мотивы прекратить отношения с Орденом. Как бы то ни было, в списке членов ложи Девяти сестер за 1783 г. фамилия Ромма уже не значится, хотя уехавший одновременно с ним граф Строганов упомянут там как «отсутствующий»[393].
Шпион
Хотя тайная миссия Ж. Ромма в качестве распространителя «истинного света», каковыми считали себя члены масонского «братства», в России и не состоялась, означает ли это, что его официальная миссия в качестве гувернера была здесь единственной?
Впервые усомниться в этом меня побудило знакомство с одним из документов рукописного фонда Ромма, хранящегося в западноевропейской секции архива Санкт-Петербургского Института истории РАН, а именно с мемуаром «Заметки о военном деле в России в 1780 г.»[394].
Этот манускрипт (7 листов in folio, заключенных в желтую бумажную обложку) не подписан, но авторство Ромма легко устанавливается по почерку, идентичному тому, которым написаны его письма. Кроме того, на обложке есть указание Manuscrits de G. Romme, сделанное рукой де Виссака, как и на многих других бумагах Ромма, ныне рассеянных по архивохранилищам Италии, Франции и России.
Указанный документ достаточно давно известен исследователям биографии Ромма, по крайней мере российским. В 1982 г. его археографическое описание опубликовала И.С. Шаркова. Любопытно, что уже у нее обстоятельства появления на свет мемуара вызвали определенное недоумение: «Трудно сказать, с какой целью спустя только год после прибытия в Россию было написано Роммом это сочинение…»[395] Впрочем, какой-либо версии, объясняющей данный факт, исследовательница не предложила.
А может быть, никакой загадки и нет? Может быть, мы имеем дело всего лишь с одним из проявлений неуемной любознательности Ромма? Ведь если она распространялась на самые разные стороны жизни русского общества, то почему военное дело России должно было стать исключением? Посещали же другие путешественники, колесившие по Европе, крепости и парады, не имея при этом какой-либо задней мысли и руководствуясь одним лишь любопытством. Так, знаменитый Дж. Казанова, проезжая через Пруссию, с интересом осматривал потайные ходы Магдебургской крепости и любовался на потсдамском плацу строевой подготовкой лейб-гвардии Фридриха II, а находясь в России, три дня наблюдал за грандиозными летними маневрами 1765 г.[396]
Однако внимательное изучение «Заметок» Ромма показывает, что в его случае все обстояло не так просто. Во-первых, не могут не смущать сроки их составления, на что справедливо обратила внимание И.С. Шаркова. Ромм прибыл в Россию в конце 1779 г., а значит, менее чем за год[397] подготовил весьма насыщенное деталями описание вооруженных сил России. Чтобы выполнить столь объемную работу, да еще не зная русского языка, ему требовалось посвятить данному предмету гораздо больше времени и усилий, чем можно было бы ожидать от обычного путешественника, в равной степени интересующегося всеми сферами жизни чужой страны. Кстати, отсутствие в известных нам бумагах Ромма за 1780 г. сколько-нибудь значительных рукописей на другие темы косвенно подтверждает это предположение.
Во-вторых, наводит на размышления внешний вид мемуара. Большинство путевых дневников Ромма, а также его заметки по географии, ботанике и минералогии написаны весьма небрежно и трудны для прочтения, поскольку предназначались лишь для самого автора. Мемуар же о военном деле изложен четким, легко читаемым почерком, каким Ромм писал послания, предназначенные для чужих глаз.
И, наконец, по самому своему содержанию документ скорее напоминает аналитическое исследование, нежели заметки стороннего и праздного наблюдателя. В тексте то и дело встречаются указания на прилагавшиеся автором усилия по целенаправленному сбору соответствующей информации: «Нам до сих пор еще не удалось раздобыть исчерпывающе подробные сведения на сей счет…»[398], «раздобыть какие-либо подробности об этой кавалерии оказалось невозможно…»[399] и т. д. Упоминаются факты (например, маневры Смоленского драгунского полка), непосредственным очевидцем которых Ромм не был и о которых он мог узнать, лишь опрашивая других лиц. Один из своих источников он даже указывает: это некий «кавалерийский офицер, считающийся весьма неплохим»[400]. По репликам автора можно также судить, что его сочинение явно рассчитано на квалифицированного читателя: «Воздержимся здесь от изложения существующей в России номенклатуры военных чинов, поскольку полагаем, что она и так известна»[401]. Одним словом, «Заметки» Ромма гораздо больше походят на шпионское донесение о боеспособности русской армии, нежели на безобидные записки путешественника. Вот почему знакомство с ними впервые заставило меня усомниться в том, что деятельность Ромма в России носила исключительно педагогический характер.
Однако само по себе существование подобного документа еще не давало оснований утверждать, что его автор выполнял шпионское задание, ведь мемуар так и не был никуда отправлен и остался в личном архиве Ромма. Подозрение могло превратиться в уверенность только после обнаружения неопровержимых свидетельств того, что собранные Роммом данные о русской армии предназначались для передачи французскому правительству. Во Франции того времени не было специализированной службы разведки (даже система тайной дипломатии – «секрет короля» – прекратила свое существование после смерти Людовика XV) и шпионажем по совместительству с дипломатическими функциями занималось внешнеполитическое ведомство, а значит, доказательства тайной миссии Ромма следовало искать в Архиве Министерства иностранных дел Франции.
Поиск на удивление быстро увенчался успехом. Уже при просмотре описи 14-го тома серии «Мемуары и документы» (подсерия «Россия»), включающего в себя собранные французскими дипломатами материалы о русской армии 1745–1828 гг., в глаза бросилось знакомое название «Заметки о военном деле»[402]. А когда я получил этот манускрипт (6 листов in folio), оказалось, что он тоже написан рукой Ромма. И хотя по композиции он отличается от петербургского, тем не менее содержание обоих документов в целом совпадает, а значительные фрагменты текста даже полностью идентичны. В парижском мемуаре они лишь скомпонованы по-другому, что формализовало текст и существенно облегчило его восприятие. По-видимому, петербургский вариант был написан несколько раньше, а затем послужил основой для парижского. Последний появился в результате редактирования, сокращения и перекомпоновки автором первого текста, после чего улучшенная версия была направлена в Париж, а ее прототип остался в личном архиве Ромма.
Уже само по себе установление факта получения французским правительством от Ромма информации о состоянии русской армии служит убедительным свидетельством выполнения им в России шпионского задания. Однако последний абзац парижского мемуара содержит и прямое указание на подобный характер его миссии:
Вот что в общих чертах представляет собой сегодня русская армия. Можно согласиться с тем, что этот эскиз далеко не совершенен, однако в нем, по крайней мере, отражены наиболее характерные черты. Надеемся к тому же, что сумеем в ближайшем будущем представить Е[го] В[еличеству], ежели удостоимся Его на то согласия, более полную картину, в которой войдем во все детали касательно жалованья, обмундирования и содержания солдат. К ней мы добавим подсчет ежегодных расходов казны на содержание одного кавалерийского полка на протяжении двух лет подряд, что в результате позволит вычислить общую сумму военных расходов российской Государыни[403].
Как видим, Ромм выражает уверенность в том, что о результатах его работы докладывают непосредственно королю, и готовность далее продолжать систематический сбор разведданных о русской армии.
Впрочем, парижской редакцией мемуара находки в Архиве МИД Франции не ограничились. В том же 14-м томе, где находятся «Заметки о военном деле», им предшествует еще один любопытный документ, по всей видимости аналогичного происхождения. А именно: справка о численности вооруженных сил России под заголовком «Состояние русской армии»[404]. В томе имеются два экземпляра этого документа, каждый – на одном листе in folio. Первый экземпляр (f. 121) написан рукой Ромма, второй (f. 122) – почерком, идентифицировать который мне не удалось. По содержанию оба экземпляра совпадают, однако судя по тому, что некоторые слова, полностью прописанные Роммом, во втором экземпляре для скорости письма сокращены (например, «hommes» – «hom.»), есть основания полагать, что второй экземпляр представляет собой копию, которую неизвестный нам писец снял с документа, составленного Роммом.
На обоих экземплярах справки имеется сделанная красными чернилами пометка архивиста – «1779». Нет ли тут противоречия? Ведь, как мы знаем, в 1779 г. Ромм провел в России лишь декабрь и вряд ли имел время до конца года собрать изложенные в справке сведения. На мой взгляд, подобная датировка, скорее всего, объясняется тем, что, занимаясь в 1780 г. поиском информации о русской армии, Ромм сумел раздобыть данные о ее численности лишь за предыдущий год. Не исключена, впрочем, и ошибка архивиста. Как бы то ни было, собственноручное написание Роммом первого экземпляра справки, ее расположение в архивном деле рядом с «Заметками о военном деле» и их очевидная смысловая связь делают более чем правдоподобным предположение, что автором справки «Состояние русской армии» тоже был Ромм.
Кто и когда заказал Ромму собрать сведения: кто-то из людей внешнеполитического ведомства Франции еще в период подготовки риомца к отъезду в Петербург либо кто-то из французских дипломатов уже в России, – об этом мне ничего не известно. Однако кое-какие основания для очень осторожных предположений все же имеются. Когда до отъезда Ромма в Россию оставались уже считанные дни, с ним произошло одно очень странное происшествие, о котором он не утерпел сообщить Дюбрёлю:
В тот момент, когда дата моего отъезда была определена, меня почтил своим визитом Бомарше, которого я за всю свою жизнь видел только издали. Он впервые говорил со мною, и все для того, чтобы попросить меня об одной услуге. Я изо всех сил постараюсь сделать то, о чем он меня попросил, хотя и весьма сомневаюсь в успехе[405].
Знаменитый драматург и не менее знаменитый авантюрист являлся с 1774 г. тайным агентом французского правительства, выполняя на международной арене его самые щекотливые поручения. В письме к Людовику XVI он так сформулировал свое кредо: «Для всего того, что король захочет узнать быстро и только для себя, для всего того, что он захочет сделать тайно и срочно, я всегда к его услугам: моя голова, сердце, руки и язык готовы служить ему»[406]. О какой услуге мог попросить Бомарше отъезжающего в Россию Ромма? Уж не о той ли, что привела к появлению вышеупомянутого мемуара? Ответ на этот вопрос еще предстоит найти.
Гувернер
В отличие от двух вышеописанных тайных ипостасей Ромма, его миссия гувернера была открытой и общепризнанной. На протяжении последующих семи лет жизни социальный статус Ромма так и будет определяться в различного рода официальных документах – «учитель графа Павла Строганова»[407]. Однако и с этим видом деятельности риомца связана своего рода историографическая легенда.
Мнение о французских учителях, воспитывавших дворянских недорослей в России XVIII в., в целом было не слишком высоким ни у современников, ни у историков. Сетования на низкий уровень подготовки приезжавших из Западной Европы, и прежде всего из Франции, гувернеров были во второй половине XVIII в. едва ли не общим местом. В императорском Указе от 12 января 1755 г. об учреждении Московского университета, в частности, говорилось: «В Москве у помещиков находится на дорогом содержании великое число учителей, большая часть которых не только наукам обучать не могут, но и сами к тому никаких начал не имеют; многие, не сыскавши хороших учителей, принимают к себе людей, которые лакеями, парикмахерами и иными подобными ремеслами всю свою жизнь препровождали»[408]. О том же писали в XVIII – начале XIX в. и русские литераторы, представившие в своих произведениях колоритный ряд иноземных проходимцев, подвизавшихся в России на ниве обучения дворянских детей. Портреты фонвизинского Вральмана, пушкинского Бопре и других подобных им персонажей оказались настолько выразительны, что позднее именно по ним историки стали судить о феномене иностранного гувернерства вообще[409].
Хотя представление о низкой профессиональной квалификации французских наставников русских недорослей и получило в нашей научной литературе довольно широкое распространение, историки признавали, что имели место и отрадные исключения из этого общего правила. Так, В.О. Ключевский, ведя речь о гувернерах времен Екатерины II, отмечал, что «некоторые из них, стоя на высоте своего призвания, знакомы были с последними словами тогдашней французской литературы и даже принадлежали к крайнему течению тогдашнего политического движения»[410]. Среди таковых он в первую очередь называл Жильбера Ромма. С тем, что миссию Ромма в России, в отличие от деятельности большинства иностранных учителей, действительно можно считать просветительской, соглашались позднее и другие отечественные исследователи[411].
Однако это мнение носило скорее априорный характер, нежели опиралось на какие-либо конкретные факты, поскольку, как отмечалось выше, российский период жизни Ромма освещен в историографии достаточно слабо. Похоже, авторы, высоко отзывавшиеся о его просветительских усилиях, исходили из предположения, что человек, позднее возглавивший в Конвенте Комитет общественного образования и обладавший достаточно широкой эрудицией, чтобы участвовать в создании революционного календаря, просто по определению не мог не быть замечательным учителем для своего единственного ученика. Да и то, что этот ученик добился в дальнейшем заметных успехов на общественном поприще, хотя и косвенно, но тоже свидетельствовало в пользу гувернера, готовившего его к взрослой жизни. Тем интересней обратиться к документам, чтобы подробнее узнать о педагогической деятельности столь необычного наставника.
Права и обязанности Ж. Ромма как воспитателя определялись договором, который он и граф А.С. Строганов подписали 1 мая 1779 г. в Париже:
Граф Строганов, доверяя воспитание своего сына г-ну Ромму, договаривается с ним о следующих условиях:
1) Воспитание будет осуществляться по плану, заранее обсужденному, утвержденному и согласованному между родителями и г-ном Роммом. Задачи образования будут четко определены, как и методы, коими оно будет производиться. Отводимое на занятия время должно быть регламентировано, особому согласованию подлежат методы формирования характера. Все эти пункты, будучи однажды приняты обеими сторонами, становятся постоянной основой отношений между участниками договора, каковой нельзя менять, кроме как по взаимному согласию;
2) Жалование г-на Ромма составит 100 французских луидоров в течение первых трех лет и по 1000 экю в год до завершения воспитания с достижением учеником 18 лет;
3) Вместо пожизненной пенсии граф Строганов обязуется за себя и своих наследников выплачивать г-ну Ромму каждые 3 года по 8000 французских ливров; если же какие-либо обстоятельства вынудят г-на Ромма выйти из соглашения раньше срока, то ему из этих 8000 будет каждые три года выплачиваться сумма, пропорциональная отработанному времени;
4) Если по окончании срока воспитания г-н Ромм продолжит заботиться о ребенке, достигшем 18-летнего возраста, путешествуя вместе с ним, то стороны заключат соглашение на новых условиях;
5) Г-н Ромм будет избавлен от любых расходов, находясь на полном содержании, за исключением покупки одежды; его будет обслуживать тот же слуга, что и ученика;
6) Его возвращение в Париж, по суше или по морю, будет оплачено ему в любом случае, откуда бы оно ни происходило.
Подпись: Александр граф Строганов[412].
Ромм, как мы знаем, к этому времени отнюдь не был новичком на ниве просвещения, поскольку уже не один год давал в Париже частные уроки математики. И все же его познания в области педагогики носили гораздо более теоретический, нежели практический характер. Об этом, в частности, мы можем судить по его записке старшему Строганову, где Ромм излагает свои педагогические принципы. Ее французский оригинал опубликован в книге великого князя Николая Михайловича. Был ли это упоминаемый в контракте план воспитания или некий промежуточный набросок к нему, к сожалению, не известно, как, впрочем, и точная датировка документа. Из текста можно лишь понять, что он появился на свет где-то в самом начале педагогической карьеры Ромма:
Осознавая всю важность миссии, которую я, сударь, выполняю в отношении Вашего сына, и желая оправдать Ваше доверие, я не пренебрег ничем, что мне казалось важным, при составлении плана мудрого и обдуманного ведения дел. Три основных пункта составляли предмет моих изысканий: физическое воспитание, нравственное воспитание и образование. Идеи, представляемые мною на Ваш суд, я почерпнул из книг Тиссо, Руссо и Локка, а также из частых бесед на сей счет с просвещенным другом. Я понял, что, не имея возможности на равных участвовать вместе со своим учеником в большинстве его занятий и упражнений, я должен все свое внимание сосредоточить на том, чтобы они осуществлялись наилучшим образом, дабы извлечь из них все возможные плоды. Теперь я становлюсь для него вторым отцом и отношусь к нему именно так, а он во всякое время может рассчитывать на мою дружбу, любезность и доброту в сочетании с твердостью. То, что я, пока находился рядом с ним, узнал о его характере и хороших способностях, позволяет мне надеяться, что мои усилия не останутся безуспешными; мое самое горячее желание – вернуть его Вам достойным любви родителей и уважения всех порядочных людей[413].
Как видим, Ромм указывает четыре источника своих познаний в области педагогики, однако их значение отнюдь не одинаково. Центральное место среди них, бесспорно, занимало учение Жан-Жака Руссо. С одной стороны, Руссо был успешным интерпретатором тех принципов воспитания, которые сформулировал в конце XVII столетия английский философ Джон Локк. Именно в трактовке Руссо они получили в век Просвещения широкую популярность, поскольку он активно использовал и существенно развил их в своем знаменитом романе «Эмиль, или О воспитании» (1762). С другой стороны, учение Руссо само служило источником вдохновения для Самюэль-Огюста Тиссо и графа А.А. Головкина (это его Ромм в указанной записке называет своим «просвещенным другом»). Швейцарский врач Тиссо, автор многочисленных и широко известных в то время сочинений по гигиене, дружил с автором «Эмиля» и активно популяризировал его взгляды. Головкин же состоял в постоянной переписке с Тиссо и также являлся горячим приверженцем руссоистского воспитания.
В 1762 г., когда вышел в свет «Эмиль», у графа Головкина, жившего в ту пору в Швейцарии, родился сын Георгий (это его Ромм обучал потом в Париже математике), которого отец решил воспитать в строгом соответствии с принципами Руссо. Такую же судьбу он уготовил и своей дочери, родившейся четырьмя годами позже. Руссо, узнав об этом эксперименте от общих друзей, в частности от того же Тиссо, с интересом наблюдал за ним издалека, а когда Головкин в 1770 г. перебрался в Париж, они стали время от времени встречаться и обсуждать интересующие обоих проблемы воспитания[414].
Так же как Руссо, Ромм был увлечен идеей формирования нового человека и, подобно Головкину, готов был заняться осуществлением ее на практике. Предложение А.С. Строганова открывало для этого едва ли не идеальную возможность. Любопытно отметить, насколько полно совпадали разработанные умозрительным путем требования Руссо к совершенному воспитанию с условиями контракта Ромма. Так, по мнению Руссо, «воспитатель ребенка, вопреки обычному мнению, должен быть молод, и даже так молод, как только может быть молод человек умный»[415]. Ромму в 1779 г. было 29 лет.
Руссо полагал, что ребенок с рождения и до совершеннолетия должен иметь одного-единственного воспитателя. И хотя Павлу Строганову в 1779 г. уже исполнилось семь, в остальном требование автора «Эмиля» было полностью соблюдено: заключенный с Роммом контракт предусматривал, что наставник станет заниматься воспитанием ребенка до совершеннолетия.
Руссо считал, что подобный опыт воспитания не требует наличия соответствующего опыта:
Хотят, чтобы воспитателем был человек, завершивший воспитание хотя бы одного ребенка. Слишком большое требование! Один человек может иметь один такой опыт; если бы для успеха дела нужно было два, то по какому же праву воспитатель брался бы за первое? С приобретением большой опытности можно было бы лучше действовать; но для этого не хватало бы уже сил. Кто настолько хорошо выполнил эту должность, что почувствовал все ее трудности, тот не покусится снова взяться за нее[416].
Ромм, хотя и обладал опытом преподавания, воспитателем действительно становился впервые.
Руссо считал, что для получения от его системы необходимого эффекта ученика надо брать из богатой семьи:
Бедняк не нуждается в воспитании; воспитание со стороны его среды – вынужденное; он не мог бы иметь другого. Напротив, воспитание, получаемое богатым от своей среды, менее всего ему пригодно как для него самого, так и для общества. К тому же естественное воспитание должно делать человека годным для всех человеческих состояний; а воспитывать бедняка для богатой жизни менее разумно, чем богача для бедности; ибо если принять в расчет численность того и другого состояния, то разорившихся больше, чем поднявшихся вверх. Выберем поэтому богатого: мы по крайней мере будем уверены, что у нас стало одним человеком больше, тогда как бедняк может сам по себе сделаться человеком. В силу того же обстоятельства я не прочь, чтобы Эмиль был из хорошего рода[417].
Павел Строганов как раз и принадлежал к одной из наиболее богатых и знатных семей русской аристократии.
И, наконец, Руссо требовал, чтобы наставника и воспитанника никогда не разлучали друг с другом иначе, как с их обоюдного согласия[418]. Контракт Ромма также предусматривал его постоянное сосуществование с учеником, даже слуга у них должен был быть общим.
Возможно, столь полное совпадение перечисленных Руссо гипотетических условий идеального воспитания с реальными обстоятельствами Ромма и настроило последнего на оптимистический лад, когда он незадолго до отъезда в Россию делился с Дюбрёлем планами относительно своего ученика: «Поскольку я хочу сделать из него человека, именно таковым он выйдет из моих рук»[419]. Характерно, что Ромм почти дословно процитировал Руссо: «Выходя из моих рук… он будет прежде всего человеком»[420].
Граф А.С. Строганов, истинный сын века Просвещения, настолько верил в благотворную силу рационалистических идеалов, что с готовностью предоставил сына для педагогического эксперимента, нимало не смущаясь тем, что система воспитания Руссо носила исключительно умозрительный характер и не опиралась на практический опыт, ведь разработавший ее философ сам не вырастил ни одного ребенка, а собственных детей, как известно, отдал в приют. Более того, первые результаты применения этой теории на практике, хотя бы тем же графом Головкиным (который, правда, с ведома самого философа ее несколько модифицировал), не вполне соответствовали ожидаемым. Так, Руссо полагал, что воспитанник, из которого сформируют «человека вообще», затем легко сможет войти в общество и адаптироваться к любым условиям: «Всем, чем должен быть человек, он сумеет быть, в случае надобности, так же хорошо, как и всякий другой, и, как бы судьба ни перемещала его с места на место, он всегда будет на своем месте»[421]. В реальности же воспитываемые подобным образом дети графа Головкина испытывали позднее определенные проблемы с адаптацией в обществе, ибо их поведение с недоумением воспринималось окружающими как излишне эксцентричное. Вот, например, какое впечатление произвела 13-летняя дочь графа Головкина на одного из современников, тогда еще тоже ребенка:
И, наконец, остановлюсь на мгновение – нет, не на графе Головкине, с кем мой отец также беседовал, а на его дочери, показавшейся мне одним из тех феноменов, которые оставляют неизгладимый след в памяти. То, что ее отец рассказывал о ее воспитании, в высшей степени удивило меня. Я не переставал глазеть на эту барышню в мужской одежде и не мог представить себе, что она питается одними лишь овощами и молоком, каждый день ныряет в холодную воду, плавает, как моряк, ездит на лошади, как жокей, стреляет, как офицер, и может совершить пешком дневной переход. Одним словом, я не понимал, что она собою представляет, и не воспринимал ее ни как девочку, ни как мальчика[422].
Ромм заинтересовался теоретическими проблемами воспитания во многом под впечатлением от увиденного в доме Головкина и от общения с самим графом. Эта тема не раз находила отражение в его письмах Дюбрёлю:
Да, мой дорогой друг, я часто хожу к г-ну Головкину. Его учтивые манеры, а еще больше – его достоинства и характер – вызывают у меня к нему уважение и самую искреннюю привязанность. У него нет ни апломба, ни претензий гранда. Он тратит все свое время и силы на образование собственных детей или на литературу, которой занимается с успехом. Он сам дает гувернеру своего сына план занятий, которому тот должен следовать, и этот план представляется мне хорошо продуманным. На днях он мне прочел отрывок из более солидного произведения, где описал план образования в национальных масштабах. Его взгляды показались мне величественными и основанными на неоспоримых истинах. Этот план, реализация которого в цивилизованном государстве столкнулась бы с трудностями, возможно непреодолимыми, мог бы по предлагаемому способу воспитания быть весьма полезен России, где еще не решено, что надо делать для просвещения и приобщения к цивилизации этой пока еще неотесанной (brute) нации. Кто-то заподозрит меня в славословии, поскольку речь идет о гранде, и я рискую прослыть льстецом, но если и рискованно говорить о нем хорошо, то не сказать ничего было бы несправедливо[423].
Заметим, что Ромм при всем своем восторженном отношении к графу считает его план национального воспитания утопическим, по крайней мере для Франции. Оговорка же о возможной применимости проекта в «неотесанной» России этой оценки принципиально не меняет, ведь о России Ромм не знал практически ничего. С таким же основанием он мог признать план Головкина «осуществимым» в Китае или где-нибудь на Луне.
А вот то, как педагогические идеи Головкина применялись в более скромном масштабе – в семье самого графа, Ромму, напротив, весьма импонировало. Во всяком случае, так он писал Дюбрёлю:
Я Вам, полагаю, уже говорил, что он [Головкин] занят только воспитанием своих детей, либо различного рода начинаниями по оказанию помощи несчастным, в чем ему, благодаря его положению, а еще больше активности, неизменно сопутствует успех. Он дал своим детям всех необходимых наставников, которые нужны для того, чтобы учить работать руками, укреплять тело, тренировать или развивать ум, а сам взял на себя миссию формирования души. Это, упомянутое последним, направление воспитательной работы, коим обычно пренебрегают, доведено методикой графа до совершенства. <…> Вы знаете, мой дорогой друг, как чванство, себялюбие и заносчивость развиваются в молодых людях, принадлежащих к знатным семействам. Чем больше окружающие оказывают им почестей, тем более требовательными и спесивыми они становятся. Чем выше они стоят над другими по своему происхождению, тем ниже бывают по своим душевным качествам. Эта связь одного с другим ужасна, но вполне обычна. Граф почувствовал подобную опасность и вот как ее избегает: простотой в одежде, в поведении, в удовольствиях, которых ищет не в шумном обществе, а дома среди друзей, коих приводит к нему и вдохновляет сердечная привязанность, среди несчастных, пришедших за необходимой и гарантированной помощью, даруемой с такой готовностью и удовольствием, каковых они встретить не ожидали. Дети являются очевидцами всех этих трогательных сцен, которые по доброте графа происходят очень часто; они радуются так же, как их отец, потому что очень к нему привязаны и живут с ним душа в душу. Но этого недостаточно, ибо когда-нибудь им придется жить в свете вдали от отца, а потому они должны будут сами следовать тем же путем и сами определять свое поведение. Этой цели служат путешествия, но путешествовать надо без слуг, без показной роскоши, которая говорит не о том, кто вы есть, а о том, кем вы хотите казаться. Гардероб должен быть скромным, как у простого приказчика, не имеющего ни золота, ни рубинов. Общественный экипаж предпочтительнее тех уютных карет, где человек забывает о каком-либо неудобстве. Нужно испытать те же тяготы, что и весь народ, дабы их знать и стремиться избавить от них других людей. Ничто не должно указывать на происхождение и на положение нашего молодого человека, дабы он почувствовал, что у него нет других средств преуспеть в обществе, кроме порядочности, кротости, предупредительности и тысячи других качеств, которые будут для него так же естественны, как эти, благодаря приобретенному опыту и примеру, поданному отцом. Именно так поступает теперь молодой граф Головкин, находящийся сейчас в Италии <…>. Опыт – очень хороший наставник для того, кто обладает задатками добродетели[424].
Под влиянием А.А. Головкина, работавшего над сочинением об образовании девочек, Ромм тоже увлекся теорией педагогики и даже написал работу о преподавании математики. Впрочем, эта рукопись так никогда и не была опубликована, до наших дней не дошла, и сегодня мы знаем о ней лишь по беглому упоминанию в книге графа:
Сей предмет [математика] гораздо менее труден, чем о нем думают. Многочисленные наблюдения показали мне, что успешное постижение этой науки, столь способствующей ясности, гибкости и точности мышления, зависит от манеры объяснять и наглядно демонстрировать ее первичные элементы. Г-н Ром [sic!], почтенный литератор и знающий физик, имеет на сей счет сочинение, насыщенное философскими идеями и отличающееся убедительностью и эрудицией. Я настаиваю, чтобы он его сделал достоянием публики ради той части нации, которая ценит науки. Он уже собрал материал, и эта книга могла бы оказаться слишком полезной, чтобы отказываться от ее публикации[425].
Однако, поскольку сочинение Ромма так никогда и не увидело свет, нам остается либо верить графу на слово, что оно было действительно столь хорошо, чтобы оправдать подобные эпитеты по отношению к автору, либо проявить снисхождение к вполне по-человечески понятному желанию подчеркнуть достоинства друга, пусть даже несколько утрируя их.
Впрочем, теория теорией, а практика практикой. После приезда семьи Строгановых в Петербург Ромму очень скоро пришлось ощутить тернии, которыми была усеяна его новая стезя. Социальный статус француза-учителя был в России не слишком высок, и графиня Строганова незамедлительно дала ему это почувствовать. Великий князь Николай Михайлович опубликовал фрагмент из письма Ромма графине (оригинал не сохранился), свидетельствующий о напряженности отношений между гувернером и матерью Попо:
Если бы я был у Вас в доме частным человеком, свободным от каких-либо обязательств, недоразумения, возникающие между нами, были бы столь же смешны для меня, сколь несправедливо то, из-за чего я сочтен недостойным Ваших милостей… Но Вы забываете, что доверили мне самое дорогое, что у Вас есть на свете… Я снесу невнимательность, несправедливости, капризы, но унижение и оскорбление – никогда… Только из долга я сопровождаю Вашего сына в свете. Недоверие и в некотором роде бесчестие, составляющие в этой стране удел гувернеров, слишком задевают мою чувствительность, чтобы я не старался изо всех сил как можно меньше тревожить своим присутствием тех особ из Вашего круга, кому противно дышать одним воздухом с учителем (outchitel). Наученный собственным опытом, я от всего сердца жалею тех чувствительных людей, кому приходится здесь заниматься тем же делом, что и мне[426].
Хотя письмо не датировано, а великий князь относит его к тому периоду, когда графиня Строганова уже перебралась жить в Москву, из текста совершенно очевидно, что оно относится ко времени проживания Ромма и матери Попо под одной крышей, то есть к самому началу его карьеры в России.
Впрочем, вскоре Ромм оказался избавлен от неприятного соседства. После возвращения графини Строгановой ко двору за нею стал ухаживать бывший фаворит императрицы И.Н. Римский-Корсаков, быстро добившийся взаимности. Их роман развивался на протяжении 1780 г., пока, наконец, узнав о нем, Екатерина II не отправила графиню на постоянное проживание в ее подмосковное имение Братцево в феврале 1781 г.[427] Оставшийся же в Петербурге Александр Сергеевич практически неотлучно находился при императрице, полностью препоручив сына заботам наставника.
Таким образом, Ромм отныне проводил с Попо гораздо больше времени, чем родители мальчика. Впрочем, в этот период обязанности воспитателя собственно и сводились только к повседневному общению с подопечным. Согласно теории Руссо, систематическое образование, или, говоря его словами, «книжное обучение», противопоказано детям до 12 лет. «Если природа, – писал автор «Эмиля», – дает мозгу ребенка мягкость, которая делает его способным воспринимать всякого рода впечатления, то это не для того, чтобы на нем начертывали названия королей, чисел, термины геральдики, космографии, географии и все те слова, не представляющие никакого смысла для его возраста и никакой пользы для какого бы то ни было возраста, которыми обременяют его грустное и бесплодное детство…»[428] По мнению Руссо, с ребенком этого возраста наставник должен заниматься лишь нравственным и физическим воспитанием в процессе их повседневного сосуществования.
Однако, хотя Ромм ежедневно и общался с Попо, обязанности воспитателя, судя по переписке с друзьями, занимали в тот момент далеко не первое место среди его интересов. Во всяком случае, если бы не изредка встречающиеся в письмах Дюбрёлю ремарки вроде «я доволен своим учеником» или «мой ученик доставляет мне приятные минуты»[429], непосвященный читатель мог бы подумать, что перед ним корреспонденция скорее путешественника-натуралиста, изучающего другую страну, нежели человека, основным занятием которого является воспитание ребенка. И только отвечая Дюбрёлю, постоянно сетовавшему на то, что его друг редко пишет, Ромм сообщил: «Я занят здесь лишь одним делом, которое полностью поглощает все мое время, определяет все мое поведение и не позволяет заняться ничем, что могло бы меня отвлечь. Я не знаю здесь никаких развлечений, отказываясь от них, дабы целиком сосредоточиться на своих занятиях»[430].
Впрочем, на фоне других писем Ромма, изобилующих сведениями о его путешествиях, научных штудиях и придворной жизни, подобное замечание выглядит не очень убедительным оправданием в ответ на сетования друга. Узнав же в 1781 г. о кончине графа А.А. Головкина, которому он во многом был обязан своим местом гувернера, Ромм признает: «Моя задача трудна в высшей степени, ибо я прилагаю двойные усилия, дабы достойно справиться с нею. Уважение к памяти графа Головкина, которое я сохраню навсегда, неразрывно привязывает меня к этому учительству, коим я занимаюсь не столько из интереса, сколько в силу взятых на себя обязательств»[431].
В корреспонденции 1780 г. между Роммом и старшим Строгановым, сопровождавшим императрицу в Могилев на встречу с Иосифом II, теме воспитания Попо также отводилось весьма скромное место. В своих письмах Ромм с увлечением излагал парижские новости, сообщенные ему графом Головкиным[432], пространно толковал о роли иезуитов в европейской политике[433], обсуждал финансовые вопросы[434] и лишь мимоходом упоминал о подопечном, как то: «Попо чувствует себя хорошо»[435].
И только в послании от 20/31 мая Ромм достаточно подробно рассказал о пешей прогулке с воспитанником на Каменный остров. Судя по всему, подобные вылазки за город совершались ими регулярно, ведь, согласно теории Руссо, они составляли важный элемент воспитания, особенно в раннем возрасте. На сей раз прогулка ознаменовалась случаем, который наставник счел необходимым описать особо. По пути им встретился бедняк, просивший милостыню. Особенно часто он повторял слово «безруком» (Ромм пишет его по-русски). Услышав, Попо обернулся, увидел, что несчастный действительно не имеет руки, и отдал ему деньги, которые накануне получил на карманные расходы. «Мне это особенно понравилось потому, – сообщает Ромм, – что он сделал это не афишируя, а исключительно из чувства жалости, которое у него вызывают нищета и страдание»[436].
Впрочем, далеко не всегда поведение воспитанника заслуживало одобрение учителя. Так, в постскриптуме к письму от 27 мая Ромм сетует на рассеянность, легкомыслие, инертность и леность своего ученика и просит его отца повлиять на мальчика, чтобы их побороть[437]. Пожалуй, впервые в этой жалобе проявилось то различие темпераментов наставника и его подопечного, которое в дальнейшем станет основой для серьезных конфликтов между ними. Реальный ребенок оказался не похож на выдуманного Эмиля, и это все больше будет вызывать растерянность, пессимизм и раздражение у наставника.
Хотя педагогическая система Руссо не предполагала систематического образования для детей до 12 лет, двумя предметами Попо все-таки занимался; правда, Ромм не преподавал ему ни одного из них. Во-первых, мальчику, жившему с рождения в Париже и говорившему только по-французски, теперь пришлось осваивать русский язык. Разумеется, в этом Ромм помочь ему не мог и решил хотя бы изучать язык вместе со своим подопечным, о чем еще до отъезда в Петербург сообщил Дюбрёлю:
Госпожа Строганова была беременна ребенком, уезжая из России в Париж, где и родила. Таким образом, ребенок, зачатый в России, родился в Париже. Он знает только французский язык, и ему нужно выучить русский. Я буду учить этот язык вместе с ним[438].
В том же послании Ромм отмечал и еще одну область, где его компетенция оказалась недостаточной:
Религиозное образование ребенка вовсе не входит в мои обязанности, однако, поскольку истинная мораль от религии не отделима и поскольку, чтобы знать людей, необходимо изучать их предрассудки и средства с таковыми бороться, я считаю необходимым беседовать с ним о религии. Доверие, коим меня одарили его родители, позволяет мне не опасаться, что здесь я встречу какие-либо препятствия[439].
Упоминание о «предрассудках» отнюдь не означало, что Ромм, в духе материалистической философии Просвещения, относил к таковым и саму религию. Напротив, как показывают его письма друзьям, она в то время составляла неотъемлемую часть его мировоззрения. Так, захворавшему Дюбрёлю он предлагал искать утешения именно в вере: «Религия способна придать всем, кто ее исповедует, то мужество, что позволяет, не закрывая глаза на наши несчастья, ими пренебрегать, обращаясь к возвышенным материям…»[440] Однако католик Ромм не мог быть наставником в религии для ребенка из православной семьи.
Таким образом, хотя изначально Ромм и заверял своих риомских друзей: «Мне одному и только мне поручено это воспитание, я один буду его вести и отвечать за результаты, хорошие или плохие»[441], на деле из сферы его компетенции выпали столь важные для формирования детского сознания предметы, как язык и религия. Более того, это были единственные предметы, которыми Попо предстояло систематически заниматься в том нежном возрасте, когда восприимчивость наиболее высока. К сожалению, имеющиеся у нас источники не содержат имени того русского учителя (или учителей), кто давал Павлу Строганову эти уроки[442].
В своей педагогической системе Руссо, а за ним и Головкин придавали большое значение путешествиям, позволяющим ребенку через непосредственное восприятие познавать окружающий мир и одновременно приучающим преодолевать трудности. Ромм, как мы видели, строго следовал этой рекомендации, начав первый год своего пребывания в России с пеших прогулок за город. А уже в 1781 г. он и Попо предприняли грандиозный вояж по маршруту Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – Урал, сопровождая графа Строганова в поездке к его пермским владениям. О тех впечатлениях, которые Ромм, горячий поклонник естественных наук, вынес из этого и последующих путешествий, – впечатлениях, нашедших отражение в его переписке и путевых дневниках, речь пойдет ниже. Что же касается педагогического эффекта от поездки, то, к сожалению, эти источники не содержат какой-либо информации на сей счет. Так же как и записка Ромма о его путешествии с воспитанником в 1783 г. к знаменитому водопаду Иматра и в Выборг.
В 1784 г. Ромм и Павел Строганов совершили продолжительную поездку через Карелию к Белому морю и далее на Соловки. О ее воспитательном и образовательном значении для Попо мы можем судить уже по его собственным письмам. Мальчик, которому исполнилось 12 лет, отныне регулярно извещал отца обо всем, что считал достойным внимания. Учитывая подобное содержание и регулярный характер его корреспонденции, логично предположить, что она являлась частью дидактической системы Ромма: у мальчика вырабатывались навыки правильной письменной речи, а также происходило осмысление и закрепление в памяти увиденного. Так, в письме из Новой Ладоги от 7 июня Попо рассказывал об особенностях местного ландшафта и о руинах старинной крепости, в письме из Петрозаводска от 24 июня – о построенной Петром I церкви и об испытании на оружейном заводе прочности пушечных стволов[443].
Путевой дневник Ромма, на сей раз более пространный, нежели во время предыдущих путешествий, также повествует о ряде эпизодов, имевших, по мнению наставника, воспитательное значение для его подопечного. Вот как в педагогических целях Ромм использовал посещение Соловецкого монастыря, являвшегося в то время местом заточения политических преступников:
Я счел нужным показать Popo [Попо], в каком положении находятся здесь государственные преступники. Это – урок, который со временем может принести пользу. Я хочу, чтобы он знал, какими благами и бедствиями усеяна жизнь человека. Пусть ничто не останется неведомым для него, дабы, если на него обрушится несчастье, оно не сломало бы его духа и превратности судьбы не лишили бы его самообладания. <…> Popo рассматривал всех этих господ с большим участием, ему хотелось видеть, как они живут, а также узнать, что послужило основанием для их заключения, но никто не мог ему этого сказать[444].
Однако обычно Ромму даже не приходилось предпринимать какие-либо особые усилия по педагогическому воздействию на подопечного, поскольку воспитательное влияние на того нередко оказывали ситуации, сами по себе возникавшие во время поездки. Одной из них была встреча в карельской деревне Святнаволок с крестьянином, уроженцем Реболы, проработавшим какое-то время на мраморной каменоломне, а теперь собравшимся вернуться домой. Тот рассказал путешественникам, какой роскошью из-за своей дороговизны в их деревне является хлеб. Проявив сострадание, Ромм выделил бедняку некоторую сумму на покупку муки. Павел же по собственной инициативе и вовсе пожертвовал ему все свои наличные деньги. Наставник был приятно поражен поступком подопечного: «Внимание, с которым Popo слушал все, что мне рассказывал этот бедный реболец, и проявленное им стремление в свою очередь оказать помощь еще усилили участие, внушенное мне этим несчастным. Его судьба исторгла у меня слезы сострадания, но в них было и нечто сладостное для меня; я чувствовал, что к ним примешиваются и слезы нежности; о последних знал только я один, воспитанник мой и не подозревал, что он является причиной их»[445].
Да и повседневные тяготы путешествия по дикой местности закаляли характер мальчика. И Попо, надо сказать, столь достойно справлялся с трудностями, что, похоже, даже несколько удивил этим своего учителя:
Мне предложили поехать в Сондалу за 100 верст от Пергубы. Я намерен был отказаться от этой поездки ввиду утомления, уже выпавшего на долю Popo, а также чтобы не отбить у него охоту продолжать дорогу до Сумы. Но он проявил такое желание поехать самим осмотреть рудники, его мужество, любознательность и силы находятся в таком полном соответствии друг с другом, что мне не удалось поколебать его решимость совершить это маленькое путешествие. Я ставил ему на вид трудность и продолжительность пути, необходимость взять с собой очень мало багажа, говорил, что нам придется в течение недели подвергаться дождю и всем неудобствам передвижения пешком и верхом, ибо качалки явились бы для нас обузой, что часто мы вынуждены будем питаться одним хлебом, да и тот надо будет нести с собой, потому что в тех местах ощущается в нем недостаток и крестьяне едят еловую кору. Наконец, я указал ему, что нас будут сильно беспокоить мошки, особенно меня, которому придется идти с незащищенным от них лицом. На все он возражал с мужеством и готовностью, доставившими мне величайшее удовольствие. Он сказал, что по плохой дороге, где сетка будет мне помехой, он будет моим вожатым. И вот мы за 600 верст от столицы, да еще свыше 700 верст проделали, совершая время от времени небольшие путешествия в сторону, большую часть из них мы прошли пешком, а ему не только не надоела усталость, но он сам желает удлинить предстоящее нам путешествие.
Эта готовность в его возрасте что-нибудь да значит![446]
Помимо оружейных заводов, рудников и Соловков Павел в эту поездку осматривал мраморные каменоломни и смолокурни, познакомился с другими северными промыслами и с бытом населения Карелии. То, что получаемые таким образом сведения носили довольно разрозненный и беспорядочный характер, ничуть не смущало его наставника. В своем педагогическом дневнике, от которого до нас, к сожалению, дошли только отрывки, опубликованные М. де Виссаком, Ромм высказывал на сей счет следующее соображение: «Попо не запомнит всех деталей фабрики, всей совокупности операций, составляющих ремесло; но их запомню я; именно на это будет обращено все мое внимание; он будет присутствовать при этом, и потом каждый день я буду напоминать ему, что в таком-то месте отливают орудия, а в таком – делают полотно… Он поймет смысл моих бесед с ним, когда станет старше»[447].
В письме графине д’Арвиль от 28 января 1785 г. Ромм так пояснял дидактический смысл путешествий: «В мои планы входит дать Попо представления о географии, сельском хозяйстве, естественной истории, познакомить его с нравами и потребностями народа, пересекая вместе с ним просторы, а не занимаясь бесплодными рассуждениями в кабинете. Россия и русский народ – вот что я прежде всего хочу сделать предметом его познания, дабы укрепить узы, которые должны связывать его с родиной, и дабы он однажды не вернулся на нее с тем отвращением, которое столь характерно для его соотечественников»[448].
Ромм отводил путешествиям также важную роль в деле физического воспитания Павла. «Моему ученику 13 лет, – писал наставник в своем дневнике, – он приближается к тому возрасту, когда страсти определяют нрав и образ жизни, почему и нуждаются в обуздании».
Склонность к развлечениям живым, но невинным, – вот та узда, которую я для них готовлю. Попо имеет вкус к верховой езде, возрастающий день ото дня. Он любит физические упражнения, ходьбу, усталость. Путешествие хорошо приспособлено для того, чтобы превратить эти склонности в привычку и чтобы приучать к голоду, жажде, жаре и холоду. Вот почему я предпочитаю кибитку любому другому транспорту. Вот почему беру с собою лишь минимум провизии. Повсюду, где есть люди, мы найдем себе пропитание. Молоко, яйца, дикие плоды составляли его рацион даже в столице великой Империи…[449]
Впрочем, сколь бы ни были важны путешествия, но с достижением Павлом 12-летнего возраста настало время для регулярных занятий с ним и по другим предметам кроме русского языка и Священного Писания. Эти предметы упоминаются в одном из тех писем Ромма, с которыми он обращался к воспитаннику, когда был недоволен его поведением: «Чтению классиков, естественной истории, геометрии, изучению Вашего родного языка Вы предпочитаете хороший стол и покой, которые Вы покидаете только для того, чтобы беспокоить прислугу или мучить собаку»[450]. К вопросу об отношениях учителя и ученика мы еще вернемся, а пока отметим лишь, что программа занятий Ромма с Павлом Строгановым полностью соответствовала рекомендациям Руссо. Автор «Эмиля» считал чтение античной литературы эффективным средством нравственного воспитания[451], а геометрию – одной из необходимых наук[452]. Что же касается естественной истории, то ее изучение являлось частью того познания природы, которое составляло суть руссоистского учения. Свои соображения на сей счет Ромм изложил в педагогическом дневнике:
Охота за камнями, как за дичью, – вот еще одно занятие, вкус к коему я попытаюсь у него выработать. Она занимает чувства, наполняет тело усталостью и оставляет душу в незапятнанной чистоте. Дабы достичь этой цели хотя бы частично, мы связались со старым охотником, страстным любителем подобного занятия и добрым отцом семейства, и берем с собою молотки и зубила – инструменты, без коих не ходит истинный минералог[453].
Характерно отсутствие в программе гуманитарных дисциплин, в частности истории и современной литературы. Это диктовалось принципами Руссо, предостерегавшего от преподавания детям отвлеченных идей, не связанных с непосредственным восприятием материальных предметов. Так, к 15 годам его гипотетический «Эмиль обладает знаниями лишь в сфере естественных и чисто физических наук».
История ему незнакома даже по имени; он не знает, что такое метафизика и мораль. Он знает существенные отношения человека к вещам, но ему незнакомо ни одно из нравственных отношений человека к человеку. Он плохо умеет обобщать идеи, создавать отвлечения[454].
Впрочем, как мы уже знаем, подобный подход отвечал и вкусам самого Ромма.
Со вступлением Павла в подростковый период серьезные изменения претерпели не только его занятия, но и отношения с наставником. Мы видели, что и ранее в корреспонденции Ромма А.С. Строганову проскальзывали жалобы на «инертность и леность» воспитанника. Теперь же конфликты между учителем и учеником приобретают порою довольно острый и затяжной характер, о чем можно судить по весьма резкому тону писем, которые Ромм писал Павлу, избегая в такие периоды прямого общения:
Вот уже две недели, как Вы отвергаете мои заботы и презираете мою дружбу, больше не спрашивая совета относительно Ваших занятий и Вашего поведения. На вас наводят скуку, заставляют зевать и усыпляют те интересные и поучительные занятия, что необходимы каждому человеку, желающему иметь положение в обществе, и особенно тому, кто хочет избрать военную карьеру. <…> Вы встаете только в девять часов утра, забывая, неблагодарный сын, исполнить свой долг перед отцом; то, что должно быть для Вас самым святым, Вам безразлично, то, чему Вы должны посвящать весь день, не занимает вас и секунды. Итак, отказавшись от моих забот ради своей самостоятельности, Вы впали в невежество, чревоугодничество, лень, неучтивость и самую возмутительную неблагодарность. Несчастный! если это будет продолжаться, Вы скоро станете самым презренным, самым отвратительным существом[455].
Великий князь Николай Михайлович, опубликовавший данный документ, его никак не датировал. Судя же по тексту, речь идет о периоде, когда у Павла уже начались регулярные занятия учебными предметами, но жил он еще в доме отца, то есть примерно о второй половине 1784 – первой половине 1785 г.
Ромм болезненно переживал возникавшие в ходе воспитательной работы трудности: «создание человека» оказалось в реальности гораздо более сложным делом, нежели описывал Руссо. Усиливалась и ностальгия по родине. Все эти обстоятельства повергали Ромма в глубокую депрессию. К середине 1785 г. он пришел к решению уехать из России в самое ближайшее время, что вызвало кризис в его отношениях с графом Строгановым. Ромм даже покинул его дом и перебрался жить во французское посольство. Вскоре, однако, размолвка была улажена усилиями его друзей – полномочного министра графа Луи Филиппа де Сегюра и секретаря посольства шевалье Жана Александра Шаретта де ла Колиньера. Стороны пришли к договоренности, что наставник юного Строганова проведет еще один год в России, путешествуя со своим подопечным по южным областям, а затем оба отправятся в Западную Европу для продолжения образования Павла. К обстоятельствам принятия данного решения мы еще вернемся, говоря об ипостаси Ромма-путешественника.
Где-то во второй декаде июля 1785 г. Ромм и его ученик, как всегда скромно, в простой кибитке, запряженной тройкой, покинули Санкт-Петербург. Их сопровождали двое слуг и крепостной художник А.Н. Воронихин. 17 июля Павел пишет отцу уже из Москвы, подробно рассказывая о посещенных по пути солеварнях в Старой Руссе[456]. Любопытно отметить, насколько свободно мальчик ориентируется в деталях производственного процесса, сравнивая его с тем, что он ранее видел в Перми. Метод наглядного обучения, использовавшийся Роммом, дал в этом случае весьма успешный результат. В Москве путешественники задержались ненадолго и двинулись дальше на юг. В Туле они подробно ознакомились с оружейными заводами, о чем Павел рассказал отцу в послании от 28 июля, отправленном из Орла[457]. Письмо от 9 августа Попо направил своему родителю уже из Киева[458]. Оно заслуживает особого внимания, поскольку впервые Павел написал его по-русски, что свидетельствовало о его несомненных успехах в изучении этого языка. Содержание же послания составляют сведения об устройстве деревенских мазанок и о выращиваемых на Украине сельскохозяйственных культурах. В дальнейшем Попо продолжал подробно рассказывать отцу об увиденном. В Киеве, где Ромм и его ученик провели более полугода, Павел, посещая многочисленные достопримечательности, получил богатые, хотя и достаточно разрозненные сведения о русской истории.
Хотя из Киева Павел писал отцу достаточно часто и подробно как по-русски, так и по-французски, он весьма скупо сообщал о том, как продолжается его учеба. Фактически он упоминает лишь о занятиях богословием и русским языком, в частности, по книгам, посвященным российской истории. Так, 5 октября он пишет:
Конешно буду, как вы мне приказали, примерно упражняться в обучении Катехизиса и руской граматики, ибо оные две вещи могут быть самые нужные для такого человека, которой должен жить на свете. Учитель, которого мы имеем, очень хорош и очень ясно толкует. Мы следуем Катехизис Платонов, которой по мнению здешняго митрополита, самой лучей для меня. Мы следуем граматике Московского университета. Мы тоже с ним упражняемся в российской истории и из нее делаем выписки, которые он нам диктует, чтоб нас обучить и правописанию[459].
В послании от 13 февраля 1786 г. речь также идет лишь о чтении исторической литературы на русском языке:
Мы имеем собрание писем Петра Великаго к графу Апраксину. Иные из них очень хороши. В одном нашли, что он употреблял каторжников на сражениях вместо солдат и становил их обыкновенно на первом ряду. Во всех в сих письмах видно, что он весьма учтиво ко всем писал. Мы тоже читаем по вечерам перевод анекдотов о Петре Великом, которые уже совсем переведены на руской язык Матвеем Семеновичем и детми ево. Оное чтение мне весьма нравится[460].
И, наконец, в письме от 1 марта 1786 г., специально посвященном теме учебы, также упоминается лишь о тех же самых предметах:
Вы желаете знать разположение наших упражнений и в чем состоят, что увидите из сего росписания. От пяти до десяти часов, в котором я, как по расписанию видно, сам себе упражнение избирал. Иногда читал историю, из которой поутру выписки делал, или анекдоты Петра Перваго, так же историю нашей фамилии. В том же времяни я с Андреем [Воронихиным] чертил разныя планы. Когда дни стали короче, мы сперва делали выписки, а потом попеременно гуляли или фиктовали [фехтовали][461].
Удивительно, но тема учебы в корреспонденции Ромма А.С. Строганову отражения не получила, за исключением самого первого письма, отправленного сразу же по приезде в Киев 10 августа 1785 г. В нем Ромм подробно очертил план предстоящих занятий:
Вы знаете, г-н Граф, что мы намерены воспользоваться пребыванием здесь, на которое Вы дали свое согласие, для совершенствования в русском языке. Этому предмету мы уделим большую часть нашего времени, поскольку он имеет наибольшую значимость в возрасте Вашего сына и должен предшествовать методичному изучению наук. В Петербурге мы занимались им каждый день, но в Киеве для этого будет еще больше возможностей. Вдали даже от того немногого, что могло его отвлекать, Ваш сын добьется еще больших успехов в постижении своего родного языка. Я надеюсь, что г-н Митрополит нам поможет подыскать хорошего учителя. Что касается других занятий, то мы продолжим их так же, как делали это в Петербурге, добавив к ним еще и рисование. Лапта и верховая езда для нас, к сожалению, невозможны, но прогулками за город и по городу, купанием и плаванием пренебрегать не будем[462].
Однако в дальнейшем эта тема полностью исчезает из писем Ромма. Похоже, с регулярным изучением тех дисциплин, которыми он ранее сам занимался с Попо, дело пошло не так гладко, как предполагалось. Возможно, в письмах Павла потому и упоминаются только те предметы, которые ему преподавали другие учителя, что уроки его постоянного наставника если и имели место, то были не столь интенсивны, как в Петербурге.
Позволю себе предположить, что причиной подобного положения вещей могло стать дальнейшее осложнение отношений между воспитателем и его подопечным. Во всяком случае, именно на эту мысль наводит более чем пространное письмо Ромма А.С. Строганову, опубликованное великим князем Николаем Михайловичем[463]. Документ не датирован, но, судя по упоминанию об уроках русского языка с наемным учителем в Киеве, о том, что Ромм занимает свое место «уже более семи лет» и что продолжать образование Попо в России невозможно, письмо было написано в 1786 г., примерно между 1 мая (седьмая годовщина подписания контракта) и началом июля (отъезд Ромма и Павла за границу). Послание выдержано в драматичных тонах: Ромм жалуется, что с приближением созревания Попо заниматься с ним становится все труднее из-за его «моральной лености», невнимательности, инертности и вялости. Наставник прямо заявляет о своей неспособности найти подход к подопечному:
Господин Граф, я признаю свое бессилие. Я чувствую себя абсолютно неспособным достичь даже посредственных успехов на этом тернистом поприще. Опыт более чем семи лет дает мне право признаться в своей полной непригодности. Теперь я жалею о том, что столь долго занимал место возле Вашего сына, которое кто-нибудь другой мог заполнить с большей пользой для него и к большему удовлетворению для Вас и всех тех, кто заинтересован в его воспитании[464].
Учитывая подобные настроения Ромма, вполне логично предположить, что в период пребывания в Киеве основная нагрузка по образованию Павла Строганова лежала на русских учителях, преподававших ему богословие и русский язык, а также на Воронихине, занимавшемся с ним рисованием.
Прежде чем покинуть Россию летом 1786 г., Ромм и его ученик с марта по май совершили познавательный вояж в Херсон и Крым – земли, лишь незадолго до того обретенные Россией. Вернувшись в Киев 10 мая, Ромм и младший Строганов провели там около двух недель, после чего проследовали в Петербург. Там они тоже не задержались надолго и, завершив необходимые формальности, в начале июля отправились за границу.
Таким образом, рассмотренные факты заставляют достаточно скромно оценить вклад Ромма в образование Павла Строганова за время их пребывания в России. За те шесть лет, что риомец провел в этой стране, сколько-нибудь систематические учебные занятия с его подопечным имели место лишь в два последних года. Да и то сведения об участии в них Ромма слишком скудны, чтобы можно было сколько-нибудь определенно судить об эффективности его усилий. Источники позволяют с уверенностью констатировать лишь достигнутый Павлом Строгановым за этот период прогресс в изучении русского языка, Священного Писания и российской истории, но к освоению ни одной из указанных дисциплин Ромм прямого отношения не имел.
С другой стороны, у нас нет никаких оснований утверждать, что программа обучения Попо включала в себя, как выразился В.О. Ключевский, «последние слова тогдашней французской литературы». Изучение их противоречило педагогической системе Руссо, которой следовал Ромм, да и сам риомец питал к ним нескрываемое отвращение.
По сути, педагогическая деятельность Ромма в России состояла преимущественно в повседневном общении с учеником и в их совместных путешествиях, безусловно способствовавших расширению кругозора Попо и воспитанию его характера.
Путешественник
Хотя продолжительные странствия с учеником по стране являлись главной составляющей частью воспитательной системы Ромма, это отнюдь не означает, что, отправляясь в них, он преследовал исключительно педагогические цели. Помимо того что такие поездки позволяли ему самому получать массу новых впечатлений и сведений – бесценная возможность для человека с ярко выраженной тягой к знаниям, – Ромм также выступал в этих путешествиях своего рода «чрезвычайным и полномочным представителем» маленького, но столь дорогого ему сообщества любителей наук из Риома. Замкнутые в узком пространстве провинциального городка, друзья Ромма надеялись, благодаря его рассказам, раздвинуть границы своей крошечной вселенной, увидеть его глазами большой мир, узнать о далеких странах и неведомых народах. Дюбрёль, игравший роль связного между этим кружком и Роммом, настойчиво просил того рассказывать об увиденном во всех подробностях:
Буара благодарит Вас за упоминание о нем, г-н Деведьер вновь подтверждает свою привязанность к Вам, Дютур поручает мне засвидетельствовать Вам его уважение. Вы говорите, что у Вас есть тысячи интересных вещей, чтобы рассказать этим господам. Вы их очень обяжете, поступив так. Они с удовольствием будут Вас слушать. В первую очередь обсудите сюжеты физики, затем – естественной истории, со своим зятем [Тайаном] – сельского хозяйства, и, если готовы проявить ко мне какое-либо снисхождение, сообщите мне в подробностях о нравах, обычаях, традициях, о религии русских. Рассказ о замеченных Вами различиях цивилизованной жизни в столице и пока еще грубых нравов деревни, о состоянии наук и ремесел, о медицине, физике и т. д. доставит удовольствие всем трем названным мною господам[465].
Впечатления, полученные Роммом в ходе путешествий, находили отражение в его письмах и путевых дневниках. Любопытно, что содержание последних практически не связано с основной целью поездок – педагогической: об ученике Ромм упоминает там довольно редко. Очевидно, он вел эти заметки прежде всего для себя, возможно, надеясь впоследствии с их помощью сообщить об увиденном друзьям или использовать при написании какой-либо научной работы.
Относительно недавно, правда, в литературе была выдвинута версия, что «Ромм пересылал дневники путешествий Строганову-отцу», потому что тот-де «рассчитывал использовать его как эксперта по вопросам национального воспитания»[466]. Однако автор данной версии не приводит в ее доказательство ни единого факта. Между тем в переписке А.С. Строганова и Ж. Ромма нет ни малейшего намека на подобное предназначение путевых заметок Ромма, да и сами они, особенно относящиеся к первым поездкам, настолько разрозненны и фрагментарны, что едва ли предназначались для чужого глаза. К тому же, в конце концов, мы находим их в личном архиве Ромма, а не в архиве их предполагаемого адресата – А.С. Строганова.
Как бы то ни было, путевые заметки Ромма представляют собой весьма любопытный источник, где чисто «технические» описания, способные сегодня заинтересовать, пожалуй, лишь узких специалистов по истории промышленности и естественных наук, перемежаются ценными наблюдениями социального и этнографического характера. Именно на последних я и сосредоточу основное внимание.
Думаю, путевые заметки Ромма правильно начинать с письма Дюбрёлю от 1 декабря (ст. ст.) 1779 г., где новоиспеченный гувернер описал путь, коим семейство Строгановых вместе с сопровождающими лицами добиралось от Парижа до Петербурга. Для него эта поездка стала первым большим путешествием в жизни:
Наш вояж продолжался дольше, чем я рассчитывал, и я пишу Вам на следующий день после нашего прибытия в Петербург. Прекраснейшая на свете погода, настоящая весна, нас радовала до 58° северной широты, а там близость Балтийского моря, больших рек и еще бльших озер заставила нас зябнуть сильнее, чем где бы то ни было. На протяжении 5–6 дней стоял мороз от 12 до 15°, но я с удовольствием обнаружил, что такой холод, весьма привычный для этих мест, а во Франции бывающий крайне редко, вполне переносим. Я прибыл в Петербург в обычной одежде и суконной куртке с довольно легкой подбивкой. В целом, мой дорогой друг, жители высоких широт гораздо более [нас] чувствительны к холодной погоде умеренной зоны; французы же гораздо лучше них переносят морозы севера. Подобная особенность объясняется тем, что тут тщательнее оберегают себя от холода. Поверите ли Вы, но наибольшие опасения у меня здесь вызывают жара в доме и пища: едят обильно, еще более усердно топят, а никаких физических упражнений не делают. В выделенных мне апартаментах четыре печи и камин. Представьте себе, что мне достаточно камина и печки в передней.
Из городов, через которые мы проехали, следует отметить Страсбург, Вену, Варшаву. В каждом из них мы подолгу останавливались, дабы осмотреть все имеющиеся достопримечательности. Я записывал в дневник все, что меня поражало. Может быть, когда-нибудь он скрасит скуку наших преклонных лет. Когда нам не останется ничего лучшего, мы будем читать его вдвоем, мой добрый друг. Вы узнаете из него о мерзости поляков, разлагающихся в невежестве и пьянстве, попирая землю, которая другому хозяину обеспечила бы богатство всей Европы. Своим трудом они создали лишь соляные копи в Величке и Бохне, которые трусливо отдали императору[467]. У грандов нет ничего, кроме роскоши и варварсва, у народа – кроме величайшей нищеты и самого постыдного в мире рабства. Любовь к спиртному научила их готовить отличный напиток из липового меда, называемый ими «липец», и еще один, подаваемый вместо шампанского и изготавливаемый, по всей видимости, из сока березы, которую надрезают по весне, когда древесные соки особенно обильны. Его ставят бродить с сахаром и цедрой лимона, а простолюдины – и без всяких добавок. Это очень хмельной напиток.
Ничто мне не доставило здесь, мой добрый друг, такого удовольствия, как соляные копи Велички. Мы с графом Строгановым осмотрели их до глубины в 1000 футов. Представьте себе множество коридоров шириною в 2 туаза[468] и длиною более 100; их стены и потолок состоят из прекрасных кристаллов соли, из-за чего при свете кажется, что они покрыты бриллиантами. Большинство из них ведет в залы высотой до двухсот футов, своды которых, состоящие из соли, поддерживаются лишь соляными колоннами; малейшее повышение влажности воздуха однажды может привести к их обрушению. Посещать галереи небезопасно, особенно в тех местах, куда незаметно просачивается вода, растворяя эти соляные опоры и часто вызывая обвалы. За вычетом всех расходов копи одной только Велички дают императору 4 млн [ливров?], а потребляют [соль] в основном поляки. Какую дань платит нищая и ленивая нация!
Вы бы не простили меня, мой дорогой друг, если бы я умолчал о том, что касается меня лично; а я слишком ценю Вашу дружбу, чтобы не попытаться укрепить ее тем, что Вам более всего по вкусу.
Милости г-на графа Строганова и знаки внимания г-жи графини наполняют меня самой горячей признательностью к ним. Я не испытывал бы ни в чем недостатка для полного счастья, если бы не 800 лье, отделяющие меня от моих друзей. По прибытии в Петербург граф лично провел меня в предназначенные мне апартаменты. Они просторны, удобны и выходят окнами на самую красивую улицу города[469] напротив католической церкви. По соседству с моими апартаментами находятся несколько кабинетов естественной истории, наполненных диковинками, кабинет анатомии, кабинет физики и богатая библиотека. Показав мне все это, он [граф] сказал: «Вот Ваше королевство, мой дорогой друг. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы Вы были счастливы у меня на родине».
Всё обещает мне спокойное пребывание в Петербурге. Поскольку граф всегда будет при дворе ради удовольствия императрицы, я часто буду оставаться в одиночестве. Тогда-то я и окажусь предоставлен себе самому, тогда-то я и вспомню о том огорчении, которое увез с собой, покидая доброго графа Головкина и госпожу графиню д’Арвиль. Утешение я рассчитываю найти в письмах, которые буду получать от них, от моей матушки, от сестер, от моих друзей из Риома или, скорее, от Вас, представляющего их всех. Надеюсь, Вы будете мне сообщать, счастлива ли моя матушка, находится ли она в добром здравии. Навещайте ее почаще, мой добрый друг. Вы знаете, что я возложил на Вас заботу время от времени общаться с нею. Вы с Вашим мягким и благородным характером доставите ей удовольствие своей беседой. Рассказывайте ей почаще о стране, где я живу. Ваши познания в географии и в истории позволят ответить на все вопросы, которые она может задать. Но избегайте упоминаний о суровости климата, неотесанности местных жителей и грубости их отношения с иностранцами. Из всех мест, что мы проехали, Петербург для меня является, после Франции, наиболее предпочтительным по учтивости, чистосердечности и любви [его обитателей] к искусствам и литературе.
Мой ученик был представлен императрице, которая дала ему чин корнета в полку своих кирасир. Она желает ему блага, и за этой милостью последуют другие, более значительные[470].
В следующем послании, отправленном полгода спустя, Ромм с такой же почти этнографической точностью описывает свой быт в России:
Я совершенно не ощущаю суровость климата, поскольку в доме можно устроить себе вечную весну в то время, когда за дверями стоит морозная зима. Но принятый в этой стране образ жизни и особенно тот воздух, которым приходится здесь дышать, делают необходимыми частые прогулки. Я приспособился использовать те меры предосторожности, которые предпринимают русские, выходя из дома при 15–16 градусах мороза. Я никогда не чувствовал себя лучше, поскольку воздерживаюсь от излишне плотной пищи русских, которая вынуждает их всю свою жизнь бегать и париться. Я же избегаю самого зла, чтобы не заниматься его исправлением. Я могу себе это позволить благодаря многочисленным оранжереям, изобилующим овощами, рекам и озерам, богатым рыбой, столь изысканной по вкусу и разнообразной, как нигде более, благодаря усердию русских, которые, не имея винограда, научились готовить великое множество напитков, чуть кислых и хорошо освежающих, каковые они делают из меда, из грубой и из обжаренной муки, из березового сока и других плодов земли.
Несмотря на все предпринимаемые мною меры против вялости, охватывающей весь мой организм, я становлюсь отяжелевшим, сонным и ленивым[471].
Не последнее ли обстоятельство виной тому, что в дальнейшем письма Ромма становятся все более бедны информацией о его жизни в Петербурге?
Напротив, Ромм охотно поделился с друзьями своими впечатлениями о путешествии по России в 1781 г., в котором, как уже ранее говорилось, он вместе со своим воспитанником сопровождал графа А.С. Строганова и его двоюродного брата барона А.Н. Строганова в поездке, имевшей целью открытие в Пермском крае нового наместничества[472]. Впрочем, об этой поездке мы знаем не только из его письма Дюбрёлю, ошибочно датированного 8/18 декабря (правильно – либо 8/19, либо 7/18, так как разница между старым и новым стилями составляла тогда 11 дней) 1781 г., о котором речь пойдет ниже, но и из путевых дневников. Таковых сохранилось два, описывающих разные отрезки маршрута: от Петербурга до Москвы и от Нижнего Новгорода до Казани[473]. Тем не менее, несмотря на такое количество источников, относящихся к данному путешествию, оно породило больше всего противоречий в последующей исторической литературе.
В главе 1 я уже рассказывал о том, как название первого из путевых дневников Ромма – «Путешествие из Петербурга в Москву» – ввело литературоведа В.П. Семенникова в заблуждение, результатом коего стала выдвинутая данным автором в 1923 г. версия о знакомстве будущего монтаньяра с рукописью одноименного сочинения А.Н. Радищева. В наши дни эта гипотеза неоднократно и всякий раз убедительно опровергалась петербургским историком М.М. Сафоновым. Вместе с тем мне кажется далеко не бесспорной интерпретация М.М. Сафоновым высказываний Ромма в «Путешествии из Петербурга в Москву» о том, что русские крепостные находятся в лучшем положении, нежели французские свободные крестьяне:
Оценки Ромма озадачивали его биографов. <…> Однако никто не задавался вопросом, насколько оправданно отождествлять написанное Роммом с его внутренними убеждениями, без учета того, как, в каких обстоятельствах и с какими целями гувернеру пришлось высказываться о крепостничестве. Никто из ученых не соотносил высказывания Ромма с позицией его патрона А.С. Строганова в решении крестьянского вопроса. А в этом кроется ключ к верному пониманию его позиции. <…> Ученые не учитывали такого важного факта, что Ромм пересылал дневники путешествий Строганову-отцу и, следовательно, все оценки крепостного состояния предназначались для глаз русского вельможи и были тщательно согласованы со взглядами патрона. Невозможно поверить, чтобы Ромм был настолько ослеплен, что умудрился не заметить вопиющие факты крепостнического произвола в России. Конечно, в то время французский гувернер мало интересовался политическими вопросами, но даже простой наблюдательности пытливого ученого было достаточно для того, чтобы не пожелать Франции такого рабства, какое существовало в России. <…> Несомненно, речь должна идти не о глазе, а о пере французского гувернера. В данный момент оно выражало взгляды того круга, настроения которого Ромм, призванный служить ему, не мог не учитывать. А если это так, то мы должны признаться, что ничего не знаем о том, каково было действительное отношение Ромма к крепостному праву[474].
Выше я уже отмечал, что в источниках нет никаких сведений о том, что Ромм «пересылал дневники путешествий» А.С. Строганову. И уж тем более подобное предположение выглядит странным в связи с данной поездкой, которую оба совершили бок о бок. Трудно себе вообразить, что Ромм по пути фиксировал те или иные бросавшиеся ему в глаза природные и исторические объекты лишь для того, чтобы потом ознакомить с этими беспорядочными записями графа Строганова, который вместе с ним проделал весь маршрут и видел то же самое собственными глазами. Ну и совсем уж невероятно, что Ромм стал бы записывать для графа французский перевод русского слова «могилы» (moguilles). Хотя А.С. Строганов долгое время прожил за границей, едва ли он нуждался для понимания смысла русских слов в услугах такого переводчика, как Ромм. Иначе говоря, подобные заметки риомец мог вести исключительно для себя, занося в них собственные, достаточно разрозненные путевые впечатления и не догадываясь, что когда-нибудь их сочтут «выражением взглядов» некого круга лиц.
Впрочем, лучшим способом разрешить все сомнения и преодолеть расхождения в интерпретациях является ознакомление читателя с полным текстом данного источника, каковой здесь впервые публикуется в русском переводе.
Путешествие из Петербурга в Москву
11 июля 1781 г. отъезд из С.-Петербурга с г-ном доктором Палласом.
20 – прибытие в Москву
Могилы (moguilles), или захоронения, – это рассеянные по равнине земляные холмы разной величины, под которыми покоятся останки знаменитых людей.
Мы выехали из Петербурга 11 июля 1781 г. Компания доктора Палласа оказалась весьма кстати для того, чтобы мы, просвещаясь, не замечали тягот монотонной езды по мощенной бревнами дороге, проходящей через болотистую местность и окруженной мрачным лесом. Присутствие этого знаменитого путешественника заставляло нас быть столь сдержанными в своих замечаниях, что я, например, предпочитал вообще держать язык за зубами, опасаясь сказать какую-нибудь глупость. Рядом с ним я весь превратился в слух, мои глаза и руки настолько оцепенели, что я не позволял себе вести никакого путевого дневника от Петербурга до Москвы, ограничиваясь немногими разрозненными наблюдениями.
В Новгороде помнят о таком проявлении английской глупости, которое вполне достойно фигурировать в анналах нелепостей этой чудаковатой нации. Некий [англичанин] заключил пари на очень скромную сумму о том, что трижды проскочит между языком колокола и самим колоколом, когда в тот будут звонить. Он проскочил один раз и второй, а на третий ему размозжило голову языком колокола. Так он потерял и жизнь, и заклад, а его случай ничуть не больше послужил уроком для других, чем множество прочих, столь же экстравагантных и трагичных, как этот.
В Бронницах (Bronitsi) среди хорошо возделанной равнины находится холм конической формы. Эта возвышенность, поражающая своей правильной формой, состоит из плотно прилегающих друг к другу гранитных глыб. Кроме того, возле самой ее вершины есть колодец, постоянно на 3–4 фута наполненный водой. Физик, предположивший, что эта вода поступает сюда с соседних холмов через подземные пустоты, был бы тут весьма разочарован и убедился бы в недостаточности подобного объяснения, ибо в округе нет никаких других возвышенностей. Однако он бы мог заметить, как сразу же сделал я, что на вершине поверхность не строго горизонтальна, а весьма поката, что края колодца располагаются несколькими туазами ниже, чем самая высокая ее точка, что поверхность воды в нем еще на два с лишним туаза ниже этих краев и что, следовательно, выше уровня воды располагается довольно значительный пласт горной породы, а на ее уровне или немного ниже преобладает слой глины, настолько толстый, что из нее получилось достаточно кирпича для постройки большой церкви от фундамента до крыши. Печь для обжига кирпича и теперь можно еще заметить неподалеку. А потому все эти замечания не оставляют ни малейшего сомнения в том, что указанный колодец не является резервуаром для дождевой воды с соседних возвышенностей.
В Крестьцах (Krestestkoї) мы нашли гранит, дающий при разложении песчаник или мусковит (argent de chat)[475], а также красный гранит в округлой плите из полевого шпата. В нескольких верстах оттуда мы обнаружили могилы (moguilles), или захоронения, – рассеянные по равнине земляные холмы разной величины, под коими покоятся останки знаменитых людей. Главные находятся на берегу озера Веретье[476]. Некоторые из них, но очень немногие, вскрыты либо из любопытства путешественниками, либо из алчности теми, кто искал здесь сокровища, но большинство нетронуты. Странно видеть посреди возделанной равнины эти возвышенности, покрытые кустарником и дикими растениями. Пахарь из-за давнего благоговения смиренно огибает их бороздой, не трогая могил.
Возле Крестьцов (Krestestkoi) нас развлекла беседа с несколькими цыганами; она не заслуживала бы здесь упоминания, если бы не стала поводом для разговора с г-ном Палласом, в коем сей знаменитый ученый продемонстрировал то доверие, которое испытывает к хиромантии. Хотя он ничего не понимает в этом химерическом и лживом ремесле, тем не менее считает, что ему до некоторой степени можно верить. Он нам сказал, что много и часто изучал линии на руках и на лбу и всегда находил определенную их связь с судьбой человека. У нескольких преступников, осужденных на повешенье, он видел на лбу меж бровей четко выраженную поперечную линию (potence, т. е. перекладину виселицы). Я обменялся с ним своими соображениями и возражениями, чтобы побудить его подробнее познакомить нас с его взглядами на сей предмет.
В Зайцово[477], где находится почтовая станция, перед Крестьцовом мы нашли красный слюдяной песок, слой которого толст и обширен. Мы обнаружили также плотный песчаник (un grs roul), которой представляет собою не что иное, как спрессованный песок. Этот песчаник подобен олонецкому порфиру.
В 403 в[ерстах] от Пет[ербурга] и в 27 шагах от вымощенного камнем моста есть пласт гранита (un granit ruban) хорошего качества.
В 399 верстах прямо посреди дороги находится монолитная скала, покрытая черно-[нрзб.] узором; мы взяли несколько образцов этого камня.
В Вышнем Волочке мы видели канал, соединяющий реки Тверца (Tiverta) и Мста. Створы шлюзов весьма солидны и искусно выполнены. Чертеж[478] дает представление об их устройстве. Также там можно видеть деревянный мост в форме единой арки, перекинутый через канал. Он показался нам весьма прочным, почти как тот, что мы видели на Меттере в Германии, хотя последний длиннее и более сложной конструкции.
В 8 в[ерстах] от Выдропуска[479] в сторону Санкт-Пет[ербурга] на склоне мы оставили на скале слева от дороги три больших кремня или яшмы, которые заслуживают того, чтобы отвезти их в Санкт-Пет[ербург] для работы над ними.
Губернатор Твери, человек почтенный и стремящийся изо всех сил достойно исполнять свои обязанности, нам сказал, что на 13 000 жителей никогда не приходится больше 30 больных. Действительно, трудно найти где-либо более удачное сочетание целебного воздуха и чистых вод. Торговый оборот здесь доходит до трех миллионов рублей. Пески, увиденные нами при выезде из Твери, дали повод поговорить о песках Сибири, где бывают величайшие холода. Когда повсюду лежит покров льда и снега толщиной более аршина, пески скрыты под ним. Этот факт весьма заслуживает внимания и немного противоречит системе [нрзб].
18 июля мы проехали через Медное, бедную деревню, где, по словам г-на Палласа, должны были найти лед под дером даже посреди лета, однако мы его не нашли. Один из местных жителей заверил нас, что такой факт имел место лишь единожды в силу особых обстоятельств вроде несколько запоздавшей смены времен года.
При въезде в Торжок мы обнаружили много кремния, смешанного с окаменевшими раковинами. Мы также нашли камень, показавшийся нам похожим на трапп[480], но с вкраплениями серного колчедана, что является потрясающим фактом и может позволить натуралисту понять процесс формирования траппа.
Деревня Медное бедна, хоть и немаленькая. Среди крестьян, обязанных поставить нам лошадей, нашелся лишь один достаточно зажиточный и способный хорошо содержать свою конюшню. Этот добрый мужик (mousik) ничуть не стал из-за этого более заносчивым и менее благожелательным по отношению к своим односельчанам. В данном случае он предоставил в пользование самому бедному из наших извозчиков трех лошадей, взяв с него деньги лишь за одну. Эта черта весьма привлекательна и убеждает в том, что рабство русских крестьян не столь ужасно и что при нем они сохраняют ту свободу духа и искренность чувств, которые проявляются в их гостеприимстве и готовности услужить. Их сеньор имеет по отношению к ним не больше прав, чем государь по отношению к своим подданным. Последний может заставить себя любить или бояться, он делает счастливыми или несчастными тех, чей удел смиренно сносить его капризы, и если он правит сурово, то взимает со своих подданных более или менее обременительные подати. С этой точки зрения русские крестьяне находятся в таком же положении. Они выращивают, что хотят, и обретают плоды своего труда; они никогда не платят сеньору чего-либо, кроме ежегодного оброка, размер которого определяется скорее добротой или алчностью их хозяина, нежели реальным доходом. Среди них встречаются и низкие, раболепствующие существа, готовые непрестанно валяться в ногах своего хозяина, чтобы его лучше обманывать в его отсутствие, но разве нет таких среди нас? Дай-то Бог, чтобы рабство, подобное российскому, существовало повсюду и повсюду порождало такую же честность, такую же искренность и прямоту, которую мы здесь увидели.
Мы нашли Клин бедным городом, полным детей, которые с ранних лет разделяют нищету своих отцов. В тот же день мы прибыли в Давыдково (Davidkova), небольшое владение графа [А.С. Строганова]. Ситуация здесь нам показалась вполне благоприятной: почва плодородна, водоемы красивы и изобилуют рыбой, жители довольны и любят своего хозяина. Появление графа стало для них праздником, старики плакали от умиления и представляли ему своих жен и сыновей. Пять или шесть юношей попросили разрешения жениться, и граф дал им свое согласие. Они свободны выбирать себе жен в своей деревне или в соседних, но в последнем случае будущий муж дает 20 р. отцу девушки. Эти 20 р. выплачивает хозяин будущего супруга, и с этого момента женщина становится одной из тех, что принадлежат ему.
Каждая деревня обязана поставлять мужчин в рекруты – одного из 50. Если же в этой деревне не находится такого числа юношей, две деревни объединяются, чтобы получить число 50, из которого определяют рекрута жребием. Из двух юношей, живущих в разных деревнях, один отправляется служить, а другой должен выплатить ему определенную сумму денег. Если та для него оказывается слишком велика, то он возмещает недостающее своим трудом, работая на родителей рекрута. Отец одного такого доброго юноши бросился в ноги графу, оплакивая отсутствие своего сына. Граф, чтобы его дражайшего сына выкупить и вернуть к отцу, немедленно заплатил необходимую сумму, доходящую до 70 р.
20-го мы прибыли в Москву, где проведем около десяти дней. Этот огромный город, где насчитывается до 1600 церквей и более 500 000 жителей, предлагает иностранцу немало достопримечательностей. Однако, несмотря на уже достаточно долгое пребывание здесь, я не видел еще ничего, кроме колокола, известного своей величиной. По нашей оценке, он весит 1200 пудов (396 000 французских фунтов). Длина окружности по его нижнему краю составляет 642 дюйма, взятая по горизонтали толщина нижней части стенки – 18 дюймов, что дает в наиболее широком месте диаметр в 240 дюймов, или 20 футов[481].
Мысль о том, что положение русских крестьян, встреченных в этом путешествии автором данного путевого дневника, предпочтительнее положения тех селян, которых он наблюдал во Франции, Ромм, как мы увидим далее, повторит и в послании Дюбрёлю. Хотя подобный тезис противоречит существующим в исторической литературе стереотипам (свидетельством чему служит отмеченная выше бурная реакция современного исследователя на слова Ромма), тем не менее ситуацию, думаю, не стоит излишне драматизировать. Речь ведь идет всего лишь о сугубо индивидуальном опыте, каковой, разумеется, не может служить основанием для далекоидущих обобщений, хотя и подтверждает лишний раз то, что историческая реальность богаче любых стереотипов.
О том грустном впечатлении, которое произвело на Ромма во время его вояжа по окрестностям Парижа положение французских крестьян, мы можем судить по одному из посланий, написанных им еще до отъезда в Россию. Правда, тогда ситуация усугублялась стоявшей засухой:
Во время небольшого путешествия во владения г-жи графини д’Арвиль в Ля Трусс и в Лизи-сюр-Урк, возле Мо, я мог убедиться, что все луга пересохли и второго сенокоса провести не удастся. Деревья потеряли листву раньше, чем созрели фрукты. Повсюду распространились болезни, тем более опасные в деревне, что помощи там ждать не от кого, кроме как от невежественных врачей, коих следует бояться больше, чем самых жестоких недугов. Повсюду, мой дорогой друг, и у стен Версаля, и за сто лье от него с крестьянами обращаются столь варварски, что это переворачивает всю душу чувствительному человеку. Можно даже сказать с полным на то основанием, что здесь их тиранят больше, чем в отдаленных провинциях. Считается, что присутствие сеньора должно способствовать уменьшению их бедствий, что, увидев их несчастья, эти господа должны постараться помочь с теми справиться. Таково мнение всех, у кого благородное сердце, но не придворных. Они ищут развлечения в охоте с таким пылом, что готовы пожертвовать для этого всем на свете. Все окрестности Парижа превращены в охотничьи заповедники, из-за чего несчастным [крестьянам] запрещается выпалывать на своих полях сорняки, которые душат их хлеб. Им разве что разрешено бодрствовать ночи напролет, выгоняя из своих виноградников разоряющих их оленей, но не дозволено ударить никого из этих оленей. Работник, согбенный в рабской покорности, часто понапрасну тратит свое время и умение, служа напудренным и вызолоченным идолам, которые безжалостно гонят его, если только он вздумает попросить плату за свой труд[482].
Однако после такой инвективы Ромм считает необходимым смягчить сказанное, подчеркивая, что его заключения отнюдь не носят абсолютного характера:
Впрочем, такая черствость присуща отнюдь не всем сеньорам. Я не раз был свидетелем того, как тепло встречали некоторых из моих знакомых, когда они приезжали к своим вассалам. Радость и удовольствие выражались множеством самых разных способов. Доброта и благодетельность являются столь простыми достоинствами, дарующими столь чистые и столь подлинные радости, что трудно понять, почему они так редки![483]
Судя по дневнику путешествия из Петербурга в Москву, похоже, что именно к таким добродетельным сеньорам Ромм относил и А.С. Строганова. Жизнь селян, которую риомец имел возможность наблюдать в принадлежавших графу деревнях, очевидно, и в самом деле в лучшую сторону отличалась от вышеописанной картины быта крестьян в окрестностях Парижа, что и побудило Ромма отдать предпочтение положению первых. У нас нет никаких оснований подозревать его здесь в неискренности, потому что когда через три года, во время путешествия к Белому морю, он столкнется с совершенно иной ситуацией, то напишет о ней в своем путевом дневнике с той же откровенностью, как это делал во Франции:
Один из нас пошел к крестьянину, который нанялся за 20 рублей в год на работу на рудниках. Его застали евшим хлеб из еловой коры и из соломы. Как могут жить на свои 20 рублей в год эти несчастные рабочие, которым запрещают заниматься земледелием, хотя для них уже нет работы на рудниках. Для них-то, стало быть, и существует самая сильная нужда. Звание «слуг ее величества» обрекает их на величайший голод! Крестьяне, не работающие на казну, платят в виде оброка на межевание и за рекрут от 6 до 7 рублей[484].
Вернемся, однако, к большой поездке по России, совершенной Роммом и его воспитанником в 1781 г.
Из Москвы путешественники проследовали к Нижнему Новгороду. Описание Роммом этой части дороги, если таковое, конечно, существовало, до наших дней не дошло. А вот заметки о поездке по Волге от Нижнего до Казани, совершенной в «начале августа 1781 г.», в архиве Ромма сохранились, и даже в двух экземплярах, причем оба написаны его рукой. Хотя тексты по содержанию близки друг другу, однако не идентичны. Похоже, переписывая первоначальный вариант, Ромм его отредактировал и существенно дополнил. Впрочем, содержание обеих копий в своей главной части еще менее систематизировано, чем записки о путешествии из Петербурга в Москву. В основном Ромм перечисляет населенные пункты по правому и левому берегам Волги, указывая расстояние между ними в верстах. Любопытно, что почти все географические наименования, так же как и некоторые другие слова и словосочетания, он пишет печатными буквами по-русски – наглядное свидетельство прогресса в изучении языка. Этот перечень населенных пунктов время от времени дополняется краткими замечаниями о геологических особенностях ландшафта и растительного мира той или иной местности. Фрагменты же, имеющие этнографическое или историческое значение, лаконичны и немногочисленны:
Подноск остров 5 в[ерст]. от города [Нижнего Новгорода]. Здесь выращивают все виды овощей, но жителей нет. Русские, которые всегда строго блюдут предписанные церковью перед большими праздниками посты, хотя обычным нормам порядочности следуют отнюдь не столь часто, готовят [в пост] напиток и похлебку из обжаренной муки. Для изготовления напитка надо лишь разболтать такую муку в большом количестве воды, после чего это сразу можно пить. Брожение подобного напитка дает так называемый квас. Из той же самой муки, воды, соли и льняного масла готовят похлебку, которую едят, не варя. Ее называют толокно. Иногда туда кладут красные ягоды, коими весьма изобилуют леса по берегам Волги. Несколько раз добавляли уксус и несколько раз молоко, хотя в таком случае это совсем не постно. Я ел толокно. Оно, по-моему, хорошо для людей с отменным аппетитом. Я нашел его очень сытным[485].
Чебоксар – город в 40 в[ерстах] от Кузмодемянска и в 100 от Казани. Этот город, имеющий татарское название, – крупный центр торговли зерном, которое доставляется от чувашей и черемисов, продающих его по очень низкой цене. Возле него есть небольшая речушка Чебоксарская река[486].
Масло остров 10 в[ерст] от Илинсок [Ильинского]. Остров прежде Масло направо. Здесь Волга меняет свое русло, нанося песок на правый берег и подмывая левый. Время от времени на берегу видны лачуги чувашей – дикого народа, данника России. Он начинается почти напротив Илинска[487].
И только в своей завершающей части – при описании Казани – ранее хаотичные заметки Ромма приобретают характер вполне связного рассказа:
Протяженность реки Казанка около 200 верст. Вода в ней мутная и плохая. Пройти вверх можно только на баркасе, для барок слишком мелко. Устье ее находится в 7–10 верстах от Казани. Весной Волга более чем на 4 сажени покрывает равнину, отделяющую ее от города, который, будучи расположен на нескольких небольших холмах, не терпит от такого наводнения никакого ущерба. В это время ширина Волги достигает 9 верст.
Пугачев сжег несколько кварталов, но всё уже восстановлено и город стал краше прежнего. Императрица выделила городу 250 тыс. рублей для создания ссудной кассы, в которой каждый индивид, желающий строить, может легко взять заем. Власти выделяют место под строительство и дают беспроцентную ссуду на 10 лет, позволяя ежегодно гасить по 1/10 части долга. Частные дома должны вписываться в общую линию улиц, которые в заново отстроенной части совсем прямые. Кирпич стоит 2 рубля за тысячу, и кирпичный дом оказывается не дороже деревянного, но гораздо выгодней в плане пожароустойчивости. Проезжая, мы насчитали четыре большие улицы, застроенные кирпичными домами. Все остальные уже готовые кварталы имеют линейное расположение, но дома в них из дерева. Участок земли перед каждым домом, кое-где занятый газоном или посадками небольших деревьев, придает им простой и приятный вид. В центре города находится рынок, окруженный лавками, удачно расположенными и изобилующими товарами. Здесь можно понять, сколь многочисленно местное население.
Для ремонта стен цитадели используется труд каторжников, бесконечно идущих через Казань в Сибирь, где они осуждены работать в рудниках. Губернатор Казани задерживает здесь каждую партию каторжников до прибытия следующей. Большинство из этих несчастных подвергались бичеванию кнутом за тяжкие преступления. Эти мужчины и женщины работают и на власти, и на частных лиц, но под надзором нескольких солдат. Снаружи к цитадели пристроена тюрьма, однако пребывание в ней слишком тягостно для каторжников, чтобы они не предпочли ему работу в городе. Такой способ использования этих несчастных великолепен. Можно было бы с удовольствием смотреть, как их преступные руки, занимаясь полезным трудом, искупают свои прегрешения, если бы не докучал постоянный звон кандалов, коими отягощены ноги [заключенных]. Сие придает их конвоям варварский и отталкивающий вид, хотя подобная манера обращаться с ними [каторжниками] гораздо менее варварская и более полезная, чем заточать этих несчастных в сырых, темных и губительных для здоровья темницах, чем, удалив их с глаз властей, с гораздо большей вероятностью подвергнуть тысячам страданий. Всего их насчитывается три сотни.
Еще в цитадели можно увидеть мечеть бывших царей (rois) Казани, а также их дворец из двух очень хорошо сохранившихся зданий, архитектура которых проста и привлекательна. Возле цитадели, со стороны построек, возводимых для администрации, при земляных работах обнаружили некое круглое пространство, земля внутри которого очень рыхлая и, похоже, была набросана сюда, чтобы засыпать яму. Предполагается провести здесь раскопки, чтобы выяснить, что представляло собою сие отверстие. С этой точки открывается отличный вид: она доминирует над городом и над значительной частью окружающей местности.
Гимназия обустроена не так хорошо, как хотелось бы. Наиболее высокое жалование составляет в ней 200 рублей, а есть и 60. В интересах самих жителей увеличить бюджет этой школы, имеющей столь благородное предназначение. Каждый может отправить туда своих детей. Татарский язык является одним из преподаваемых предметов. Те 250 тыс. рублей, что составляют капитал ссудной кассы, используются не полностью. Вместо того чтобы лежать без дела, не могут ли они быть потрачены на гимназию? Подсчитано, что дом размером 13 х 8 сажень стоит не более 3 тыс. рублей, что очень немного.
Татары в этом городе занимают отдельный квартал, где могут свободно отправлять свой культ. У них есть несколько мечетей. Мы дважды присутствовали на их вечерней молитве, которая начинается лишь после захода солнца. Верующие в Магомета приглашаются на молитву имамом, который поднимается на самую высокую часть минарета и оттуда поет несколько священных гимнов. Мы вошли вместе с мусульманами в самую старую мечеть квартала, имеющую в силу этого право начинать молитву первой. Каждый мусульманин оставляет свои туфли на паперти. Мы этого не сделали и были неправы. С нами находились генерал-губернатор, губернатор, вице-губернатр и главные должностные лица города. Мечеть, в которую мы, миновав паперть, вошли через дверь, обращенную на восток, представляет собою квадратное помещение, освещаемое через окна – четыре с севера и четыре с юга. В восточной части находится кафедра, поддерживаемая колоннами. Здесь располагаются певчие. Напротив, стало быть в западной стене, находятся два окна и запертая дверь. Пол покрыт ковром. Стены совершенно голые и не имеют никаких характерных для этого места особенностей, кроме нескольких связок четок, висящих в разных местах по стене со стороны входа. Имам опускается на колени, садясь себе на пятки, лицом к этой запертой двери. Все мусульмане размещаются позади него несколькими тесными рядами. Имам произносит несколько молитв с разными модуляциями голоса, что походит на весьма монотонное пение. Принимаемые им различные позы повторяются всей мечетью. Можно видеть, как они все вместе касаются лбом пола, простираясь во весь рост, потом садятся на пятки, руки соединены, голова опущена. В следующий раз они все вместе поворачивают головы на север, потом на юг, или делают вид, будто что-то читают, держа у себя в ладонях, а затем прикладывают те к своим ушам, к лицу, после чего в беспорядке рассеиваются по всему залу и каждый, похоже, мысленно повторяет молитву, воспроизводя те же позы по своему усмотрению. Порядок, глубокая тишина и почтительность, которые соблюдаются ими в этом месте молитвы и от которых их здесь ничто не отвлекает, имеют в себе нечто величественное и возвышенное. Проникаешься уважением к людям, чья религия отличается от других лишь некоторыми обрядами и некоторыми [нрзб.], подобно большинству наших, которые все предназначены для выражения чувств почтения и смирения, столь же переполняющих христианина, как и мусульманина, перса, как и инка, при поклонении Богу, единому для всех наций. Все его признают, все его почитают, но каждый на свой манер, так же, как каждый приветствует соседа или господина, но одевается и ест по-своему. Различие между религиями столь же естественно для людей, как и различие одежд и языков, но [выражаемые ими] чувства так же схожи, как каждому разумному существу присущ человеческий облик. Молитва была короткой, и все молча разошлись.
Во второй раз я побывал там с моим учеником, но уже без г-на графа Строганова или кого-либо из видных людей города. Мы проявили там такую же любознательность и так же соблюдали тишину, как и ранее. Однако теперь мы предстали без внешних проявлений величия и могущества, и то, что польстило мусульманам в первый раз, не вызвав с их стороны никакого ропота, во второй было сочтено непочтительностью. После молитвы ко мне подошел старик и попенял мне, сначала мягко, а потом, видя, что я не могу ответить ему по-русски, с раздражением, на то, что я не оставил свою обувь при входе в мечеть и что теперь они все оказались осквернены нашим дерзким поступком и вынуждены будут совершить омовение, прежде чем вернутся в это святое для них место. Признаюсь, я был весьма огорчен тем, что обидел этих почтенных людей, поклоняющихся тому же Богу, что и я[488].
После Казани путешественники отправились на восток, но куда именно и как далеко – об этом в исторической литературе высказывались самые разные суждения.
Начало недоразумениям положил М. де Виссак, посвятивший путешествиям Ромма по России целую главу, которая начинается с сообщения о том, что конечной целью первого путешествия Ромма и его ученика была «азиатская Сибирь, родовое гнездо Строгановых»[489]. Собственно говоря, уже здесь у человека, знакомого с географией России, термин «азиатская Сибирь» не может не вызвать недоумения, поскольку, как известно, никакой другой Сибири – «европейской», например – не существует, а значит, подобное уточнение лишено смысла. Впрочем, далее мы увидим, что представления французов XVIII в. о границах Сибири были столь же широкими, сколь и неопределенными, а потому не будем предъявлять излишне строгие претензии к овернскому историку, тем более что уже в следующем своем пассаже он сообщает еще более удивительные вещи: «Это было восхитительное намерение – заниматься наблюдениями и исследованиями в таком путешествии от берегов Балтийского моря к Уральским горам, от Камчатского залива и Скандинавского полуострова до реки Амур, граничащей с Китаем»[490]. Увы, попытка перенести подобный маршрут на карту обречена на провал: если мы без труда можем провести линию от Балтики до Урала, то совместить Камчатский залив со Скандинавским полуостровом в качестве исходной точки движения к Амуру едва ли проще, чем вывести знаменитую квадратуру круга.
Любопытно, что описание М. де Виссаком самого путешествия столь же явно делится на две части: от Балтики до Урала и, скажем так, все остальное. Первая – рассказ о поездке к Уралу – выглядит вполне реалистичным и содержит упоминания о конкретных деталях, имеющих более или менее точную топографическую привязку. Ссылаясь на письма Ромма к мадемуазель Доде, М. де Виссак сообщает, что риомец описывал ей вишневые деревья города Владимира, берега Оки, покрытые цветущим шиповником и вероникой, богатые рыбой воды реки «Санша» (la Sancha). Последнюю мне идентифицировать не удалось. Ромм более чем свободно транскрибировал географические названия, особенно записанные со слуха. Да и М. де Виссак мог допустить ошибку в расшифровке далеко не самого разборчивого почерка своего героя, тем более что само название русской реки этому историку едва ли что-то говорило. Возможно, речь идет о реке Какша, впадающей в Ветлугу.
Далее М. де Виссак сообщает, что путешественники «вскоре» прибыли в село Ильинское (Ilimski-Clo), центр владений Строгановых на берегах Камы и Чусовой. Потом посетили Кунгур (Kankor)[491]. На этом конкретика в повествовании де Виссака заканчивается. Вторая часть рассказа овернского историка о «пути» его героя по своей красочности напоминает «Путешествие Синдбада-морехода», дополненное для придания некоторой реалистичности рядом географических названий с крупномасштабной карты Восточного полушария, которые, кстати, на сей раз воспроизведены безупречно:
От Уральских гор, где изобилуют аметисты, топазы, турмалины, гранаты, бериллы, халцедоны, ониксы, яшма, агаты, асбест и циркон, до Алтая, где расположены месторождения золота, при следовании через тот обширный регион, по одну сторону которого Россия и Европа, по другую – Манчжурия, Монголия и Татария, от Оби до Лены, от Енисея до вод Амура, от Байкала до соляных озер всё: от мельчайшего из четвероногих, землеройки, до крупнейшего из них, ископаемого мамонта, от соболей, горностаев и голубых песцов до бобров и самых маленьких водоплавающих – всё служило обучению и наставлению – наставлению, почерпнутому в великой книге природы, в той школе, где великим учителем и высочайшим воспитателем выступал Создатель[492].
Ни одного конкретного факта, свидетельствующего о том, что путешественники пересекли Уральские горы и побывали собственно в Сибири, де Виссак не привел. Неудивительно, что у российских исследователей, гораздо лучше овернского историка представлявших себе географические реалии своей страны, его рассказ доверия не вызвал. Уже П.И. Бартенев, анализируя книгу М. де Виссака, скептически заметил: «По уверению Роммова биографа, они доезжали до Алтая и Байкальского озера (в чем позволительно сомневаться)…»[493] Великий князь Николай Михайлович и К.И. Раткевич, знакомые с материалами личного архива Ромма, так же ни словом не обмолвились о каком-либо «путешествии в Сибирь»[494]. Западноевропейские же историки приняли на веру высокопарную риторику М. де Виссака, в результате чего утверждение о совершенном Роммом путешествии в Сибирь стало общим местом соответствующей историографии. Оно попало «рикошетом» даже в работу А. Галанте-Гарроне[495], хотя никаких фактов, пдкреплявших данный тезис, он не привел. А Р. Бускейроль и вовсе, следуя за де Виссаком, «отправил» Ромма на Байкал[496].
Так куда же все-таки поехал Ромм из Казани? Единственный известный на сегодня источник, из которого мы можем что-либо узнать об этом путешествии, – фрагмент письма самого Ромма Г. Дюбрёлю, которое автор ошибочно датировал 8/18 декабря 1781 г.:
И вот я, наконец, вернулся к вам, мои дорогие друзья. Я могу написать вам после шести месяцев молчания, которые были заняты долгим и трудным путешествием, когда я мог только думать о вас, не питая надежды сообщить вам свои новости или узнать ваши.
<…>
Возвращаясь в Петербург, я ожидал найти здесь несколько писем из Оверни, но не нашел ни одного. Вы осудили меня на забвение. Я так же далек от вас, как тогда, когда находился у ворот Азии, в этой Сибири, столь опороченной молвой, столь дикой, столь бесплодной, как считают наши французы, и столь достойной быть местом ссылки для всех злодеев империи. В изображении всех писателей она являет собою самую ужасную и самую печальную картину из всех известных на свете. Однако мы же нашли ее совершенно иной. Сибирь богата лесами в тех частях, где бедна людьми, но везде, не считая того, что находится выше 56–60° северной широты, почва исключительно плодородна и хорошо возделана повсюду, где для этого есть руки. А там, где она не обрабатывается, о ее плодородии свидетельствуют великолепные леса и растущие диким образом замечательные плоды, большинство из которых в нашем климате не известны. Мы видели дягиль высотой 7–8 футов, хмель, поднимающийся до самых высоких вершин деревьев, ягоды черной смородины величиной с лесной орех и т. д. на земле, которую никогда не бороздило железо. Реки удивляют своей шириной, красотой и густой порослью берегов, которые они, как Нил в Египте, удобряют во время ежегодных разливов. Обширные луга, после того как пять месяцев были покрыты снегом и один месяц водой, остальную часть года представляют собою самые тучные и изобильные пастбища, где жители оставляют свою скотину пастись на просторе, ограниченном только естественными преградами и договоренностями местных обитателей. Зима здесь долгая, но это время года отнюдь не является неприятным. Никогда воздух не бывает более чист и свеж. Это – время охоты для тех, кто ее любит, либо путешествий и завоза купцами припасов; всё становится одной большой дорогой, и, хотя природа спит, никогда человек не бывает более активен. Ледяной покров толщиной около 2–3 футов позволяет проехать в любое место; сообщение удобно и не столь дорого.
Крестьянин считается рабом, поскольку господин может его продать, обменять по своему усмотрению, но в целом их рабство предпочтительнее той свободы, коей пользуются наши земледельцы. Здесь каждый имеет земли больше, чем может обработать. Русский крестьянин, далекий от городской жизни, трудолюбив, весьма смекалист, гостеприимен, человечен и, как правило, живет в достатке. Когда он завершит заготовку на зиму всего необходимого для себя и своей скотины, он предается отдыху в избе (isba), если не приписан к какой-либо фабрике, каковых в этой области много благодаря богатым рудникам, или если не отправляется в путешествие по своим делам или по делам господина. Если бы здесь были лучше известны ремесла, у крестьян было бы меньше времени для досуга в тот период, когда они не заняты сельским трудом. И господин, и раб получили бы себе от этого пользу, но ни те, ни другие не умеют рассчитывать свою выгоду, поскольку еще недостаточно прочувствовали необходимость ремесел. Здесь царит простота нравов, и довольный вид никогда не покидал бы людей, если бы мелкие чинуши или крупные собственники не проявляли жадности и рвачества. Малочисленность населения области во многом является причиной изобилия всего, что необходимо для жизни. Продовольствие стоит так дешево, что, получая два луидора, крестьянин живет весьма зажиточно. Детей видно много, но до взрослого возраста доживают немногие из них. Высокую смертность вызывают оспа и привычка тесниться зимой в маленьких, низких, чрезмерно отапливаемых и почти герметично закрытых домах, что влечет за собой болезни, нередко весьма губительные. Прививки и чуть больше внимания к проветриванию изб позволили бы предотвратить многие несчастья и умножить население, когда-то весьма многочисленное в этих областях, где ранее обитали даки, иллирийцы, скифы, которых Дарий во главе 500 тыс. персов и Александр с 30 тыс. столь же храбрых греков [текст поврежден] завоевать. Земля сильно изменилась. Горсть людей [текст поврежден] без труда покоряет теперь потомков тех, кто так хорошо умел заставить самые могучие нации уважать себя.
Мы видели и с огромным удовольствием изучали небольшой народ [нрзб.] Народ невежественный, но мудрый своими нравами и своей простотой, аналога которой больше нигде не существует. Живя в полном единении, не зная ни судебных тяжб, ни споров, гостеприимные к иностранцам и помогающие друг другу в необходимом, они не знают ни тревог, ни бедности, ни проблем, связанных с излишествами. Религия у них не греческая, не римская, не магометанство, не иудаизм. Простое жертвоприношение [состоит из] нескольких [нрзб.] хлеба и меда, одну долю которых бросают в огонь, а остальное распределяют между присутствующими, свершающими вместе братскую трапезу после того, как возблагодарят за благодеяния Создателя природы и отдадут ему должное собранными плодами[497].
Это описание наглядно демонстрирует нам руссоистские убеждения Ромма с характерным для них культом природы и простоты не испорченных цивилизацией нравов, однако оно мало что говорит о географии его путешествия. Правда, Ромм дважды упоминает здесь «Сибирь», однако отсюда еще отнюдь не следует, что он действительно побывал в той части России, которую мы сегодня именуем тем же топонимом.
В XVIII в. представления французов о том, что следует называть Сибирью, были достаточно расплывчатыми. Это видно хотя бы по приобретшей широкую и во многом скандальную известность книге «Путешествие в Сибирь», изданной в 1768 г. аббатом Ж. Шаппом д’Отрошем (в литературе встречается также транскрипция его фамилии как «д’Отерош»). Казалось бы, уж кто-кто, а этот французский астроном, добравшийся в 1761 г. до Тобольска, чтобы наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца, должен был иметь более или менее четкое представление о том крае, где он побывал. Однако в его сочинении понятие «Сибирь» встречается в разных значениях. Так, в исторической справке о Тобольске он употребляет этот топоним в смысле, близком к современному, сообщая, что Уральские горы, которые он называет «Пояс Земной», отделяют Россию (мы бы сегодня сказали «европейскую часть России») от Сибири[498]. В записках же о собственном путешествии он придает термину намного более широкий смысл. Рассказывая о том, как неподалеку от «Клинова» (Хлынова, то есть Вятки), он потерял провожатых, Шапп восклицает: «Легко себе представить, каково было мое положение: затерянный во тьме ночной, в тысяче четырехстах лье от своей родины, среди снегов и льдов Сибири…» и т. д.[499] Поволжские народы – вотяки (удмурты), черемисы (марийцы), чуваши и татары – живут, по его словам, «у западных границ Сибири»[500]. Екатеринбург «являет собой средоточие всего горнорудного и железоплавильного дела Сибири»[501]. Иначе говоря, Шапп включает в «Сибирь» не только Зауралье, но и Урал и даже Предуралье.
Другой француз, П.И. Жам[502], хороший знакомый Ромма, подробно рассказывал тому в одном из своих писем о «поездке в Сибирь», совершенной им летом – осенью 1784 г. вместе с графом А.К. Разумовским, у которого Жам служил гувернером. На самом же деле путешественники добрались лишь до Уфы[503].
Причиной подобной путаницы в использовании французами термина «Сибирь» было, думаю, не только действительно слабое знание ими географии восточных областей России, но отчасти и практика применения данного топонима в XVIII в. самими русскими. В этом столетии наряду с географическим понятием «Сибирь», обозначавшим азиатскую часть Российской империи к востоку от Уральских гор, существовало также административное понятие «Сибирская губерния», появившееся в 1708 г. после введения Петром I нового административного деления государства. Территории, обозначаемые этими двумя понятиями, не совпадали: губерния помимо собственно географической Сибири включала в себя также ряд сопредельных областей Европейской России, в частности туда входили и Вятка, и Пермь, и Кунгур. И хотя уже в 1720-е гг. западная административная граница Сибирской губернии отодвинулась на восток, сблизившись с географической, те или иные сведения о временах, когда административная «Сибирь» начиналась немногим восточнее Волги, вполне могли дойти до наших французских путешественников, что едва ли сделало для них смысл данного топонима более ясным. А потому, приезжая в Вятку, которая с 1727 г. к Сибирской губернии не принадлежала, или в Уфу, которая и вовсе в нее никогда не входила, соответственно Шапп д’Отрош и Жам полагали, что уже находятся в знаменитой «Сибири». Поэтому вполне возможно, что та «Сибирь», о путешествии в которую пишет Ромм, на самом деле находилась где-то в окрестностях Кунгура. Ведь этот город, который, по словам М. де Виссака, он посетил, тоже до 1727 г. входил в Сибирскую губернию.
А мог ли Ромм побывать еще и в «настоящей» Сибири, пусть если не у Байкала, то хотя бы в окрестностях Тобольска? Однозначно ответить на данный вопрос имеющиеся у нас источники не позволяют. Возможно, когда будут найдены – в московском ли фонде Строгановых или в пермских архивах – новые документы об этой поездке, мое предположение будет опровергнуто, но пока же отрицательный ответ мне представляется более вероятным, нежели положительный. В пользу этого говорят простые подсчеты. Путешествие, по свидетельству Ромма, продолжалось 6 месяцев: действительно, 11/22 июля они выехали из Петербурга в Москву, а 7/18 или 8/19 декабря Ромм уже писал из Петербурга отчет друзьям о своих странствиях. И хотя этот срок на первый взгляд кажется вполне достаточным, чтобы добраться до самых отдаленных уголков страны, в действительности же его надо делить примерно пополам, так как в него входит время и на обратный путь. Итого три месяца, чтобы добраться до намеченной цели. Последняя известная нам хронологическая веха этого пути – «начало августа» – приводится в дневнике путешествия из Нижнего Новгорода до Казани. Стало быть, путь до Казани занял примерно месяц. Оставалось еще два, но и дорога впереди была гораздо труднее.
В свое время Шапп, боясь опоздать на прохождение Венеры, гнал лошадей дни напролет, ел и спал в санях и сумел добраться от Петербурга до Тобольска всего за месяц – скорость по тем временам едва ли не рекордная, чему во многом способствовало зимнее время года, когда, по замечанию Ромма, «всё становится одной большой дорогой». Но и у аббата 2/3 времени занял путь после переправы через Волгу.
Наши же путешественники не спешили так, как Шапп, не изнуряли себя ночлегом в санях (все-таки с ними был 9-летний ребенок) и не жалели времени на ознакомление со встречавшимися по пути достопримечательностями, а потому и ехали в три раза медленнее: если Шапп домчался от Петербурга до Волги за 10 дней, то у Строгановых и Ромма, как мы видели, на это ушел месяц. Если же они, подобно Шаппу, сразу от Волги поехали бы в Сибирь, то при таком соотношении скоростей у них на это ушло бы практически все оставшееся до возвращения время. Однако их путь лежал не в Тобольск, а в село Ильинское, находящееся в окрестностях Перми. Здесь А.С. Строганов принял участие в торжественной церемонии учреждения наместничества 18 октября 1781 г.[504] Если же состоялась еще и поездка в Кунгур, то времени на путешествие куда-либо за пределы пермских владений Строгановых у них, скорее всего, уже просто не осталось. Пора было возвращаться, тем более что наступала осенняя распутица. Таким образом, вероятность посещения Роммом даже прилегающих к Уралу территорий «настоящей» Сибири, на мой взгляд, не слишком велика, а уж его путешествие к Байкалу и вовсе следует отнести на счет фантазии М. де Виссака, если, конечно, тот сам не стал жертвой невольного заблуждения, приняв сделанные Роммом выписки из какой-либо книги по географии за его путевой дневник.
О последующих поездках Ромма по России мы знаем гораздо больше благодаря его достаточно подробным путевым заметкам, а также письмам как его самого, так и Павла Строганова. Соответственно никаких разночтений в исторической литературе относительно этих путешествий нет. Ознакомившись с публикуемыми ниже заметками Ромма о поездке в Выборг и к водопаду Иматра[505], которое он и его подопечный совершили в 1783 г., читатель может из первых рук узнать о том, что предстало там взору путешественников и какие мысли увиденное навеяло автору дневника.
Путешествие в Выборг и на Иматру
15 августа по ст. ст. 1783 г. мы покинули Петербург, чтобы осмотреть Выборгский водопад. Мы проехали по Финляндии с в[остока] на з[апад] 140 верст до Выборга. Отсюда мы отправились к водопаду, расположенному в 60 в[ерстах] на север. Таким образом, этот водопад, достойный внимания любознательных людей, находится в 200 верстах от Петербурга на широте, по очень приблизительным подсчетам, двумя градусами отличной [от петербургской]. Местность от Петербурга до Выборга идет вверх до середины пути, а затем понижается. Эту первую половину составляют несколько обширных равнин, слегка возвышающихся одна над другой. Изредка их пересекают русла немногочисленных ручьев. Там же видны несколько холмов и весьма многочисленные озера. Из большинства [этих озер], как можно заметить, не вытекают какие-либо потоки, несущие их воды к морю, что без труда объясняется составом здешней почвы.
Наклон первой половины пути – с запада на восток. Вторая половина, которая спускается к Выборгу с востока на запад, более неровная, и чем дальше продвигаешься вперед, тем более изрезанной выглядит поверхность земли. Сам город окружают обширные равнины, низменные и болотистые; они, похоже, служат основанием для холмов, крутые склоны которых вздымаются по всему их контуру. Поднимаясь по Карельской дороге от Выборга к водопаду, можно встретить еще много озер. Почва исчерчена множеством речушек, струящихся, иногда весьма живописно, среди лугов, покрывающих равнины этой части страны. Холмы, возвышающиеся здесь над равнинами, столь же высоки и круты, как и возле Выборга, но более многочисленны. В целом пересеченная нами местность походит на резервуар, стекавшая в который вода сохранилась лишь на самом дне, где образовала озера. Остальную часть резервуара составляют равнины, расположенные на разных уровнях. Такой характер [ландшафта] столь бросается в глаза, что даже человек, мало знающий о теориях физиков относительно прежнего строения земли, оказавшись в местности между Выборгом и водопадом, без труда определит, что здесь находилось раньше. Не консультируясь ни с физиком, ни с натуралистом, не углубляясь в анналы истории или географии, он скажет, что здесь был залив, а здесь – опасная теснина, там – остров, чуть дальше – перешеек, а та цепь скал образовывала берег. Тут море было глубоким, а там мореплавателю-варягу угрожали песчаная отмель или риф. И это первое впечатление подтверждается всем тем, о чем мы скажем далее.






