«Затоваренная бочкотара» Василия Аксенова. Комментарий Щеглов Юрий
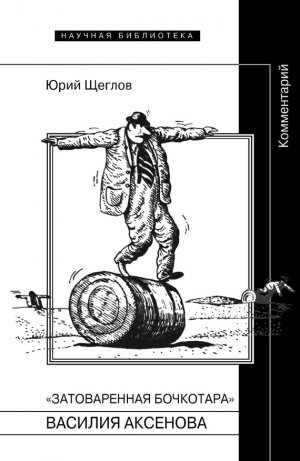
Ампутировать надо пальчик, ой-ей-ей, – участливо посоветовал Шустиков Глеб. – Человек пожилой и без пальца как-нибудь дотянет (стр. 41). – В совете Шустикова отражается утилитарная армейская философия: практицизм, экономия времени и средств, трезвость в расчете «life expectancy» и упрощенный подход к тонкостям такта и этикета, – хотя Глеб и применяет к старому человеку, как это принято в народе, вежливый эвфемизм «пожилой». Уменьшительное «пальчик» – видимо, элемент детской подкрашенности речевого стиля военнослужащих (см. ниже примечания к 1-му сну Глеба).
Скажи, Глеб, а ты смог бы, как Сцевола, сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал?.. (стр. 42). – Из стихов Михалевича, персонажа романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859): «Новым чувствам всем сердцем отдался, / Как ребенок, душою я стал: / И я сжег все, чему поклонялся, / Поклонился всему, что сжигал» (глава 25). Последние два стиха широко цитировались. Их источником является «История франков» Григория Турского (Ашукин, Ашукина 1986: 262).
Ирина смешивает цитату из Михалевича с рассказом о Муции Сцеволе («Левше»), римском воине, который, попав в плен к этрускам, положил на огонь правую руку, чтобы показать врагам свое бесстрашие (Тит Ливий).
Для людей с начальными познаниями типично переосмыслять случайно попавшие в их поле зрения культурные имена и понятия, неограниченно расширять их значение, превращать их в лейтмотивы своего мышления и ради придания миру связности сопрягать их друг с другом по произвольной ассоциации. (Принципом «чем меньше знаю, тем больше сравниваю» объясняется, как кажется, неубедительность многих из современных так называемых интертекстуальных сопоставлений в литературоведении.) Так, Ирина и Глеб делают случайно где-то встреченного Муция Сцеволу своим персональным героем и ничтоже сумняшеся ставят его в связь с другим понятием, подхваченным из советской риторики, – Наукой, которой они решают посвятить свою жизнь. Подобные неожиданные ассоциации из ограниченного набора понятий как часть процесса обучения – мотив, который мы во множестве находим в повести Л.И. Добычина «Город Эн» (1935). Среди прочего там показано, как для двух гимназистов, недавно прочитавших «Мертвые души», моделью «хорошего человека» и универсальной точкой отсчета на время становятся Чичиков и Манилов; целая полоса культурного развития этих подростков характеризуется тем, что они с большим энтузиазмом ставят все вновь встречаемое в связь с этими персонажами (см.: Щеглов 1993: 34–35; Щеглов 2012: 333–357).
…свившего себе уютное змеиное гнездо в наших лесах. <…> Надо развернуть повсеместно наглядную агитацию против пресмыкающихся животных, кусающих нам пальцы… (стр. 42). – 1-е лицо множественного числа («нам», т. е. советским людям), характерное для демагогических высказываний якобы от имени всего народа. Риторика типа «мы», «наше» (в оппозиции к чуждому «они», «их») хорошо знакома всем, жившим в советские годы. Весь текст Моченкина – образец стиля кляуз, доносов, разносных речей и статей того времени.
Шустиков Глеб предложил Ирине Валентиновне «побродить, помять в степях багряных лебеды»… (стр. 44). – Из стихотворения Есенина: «Не бродить, не мять в кустах багряных / Лебеды и не искать следа…» (1916). Фраза выдает продвинутую степень взаимной контаминации героев ЗБ: ведь цитаты из Есенина являются приметой персонального стиля Володи Телескопова.
«Красивая любовь украшает нашу жись передовой молодежью», – подумал [Моченкин] (стр. 44). – В корявом русском языке Моченкина ударение последнего слова падает на первый слог («млодежью»; так в журнальной публикации ЗБ – см.: Аксенов 1968: 54).
…вспомнил своего соперника-викария, знаменитого кузнечика из Гельвеции (стр. 44). – В журнальном тексте (Аксенов 1968: 54), а также в ряде последующих изданий [в том числе в цитируемом. – Прим. ред.] напечатано «кузнечника». Автор подтвердил, что это ошибка. И в самом деле, немного ниже читаем: «[Дрожжинин] думал <…> о всемирно знаменитом викарии, прыгающем по разным странам» (стр. 46).
Человек остается жить в своих делах, –глухо проговорил Вадим Афанасьевич в пику викарию (стр. 45). – Сентенция в духе насаждавшейся в ту эпоху бодрой, «жизнеутверждающей» философии жизни и смерти. Вспоминается широко известная в свое время пьеса С.И. Алешина «Все остается людям» (1959) – об умирающем академике (одноименный фильм с Николаем Черкасовым в главной роли – 1963). Стереотипы этого мировоззрения заметны также в линии Глеба Шустикова (см. примечание к стр. 23).
…химия-химия – вся мордеха синяя (стр. 45). – «Мордеха» стоит в ЗБ вместо нецензурного слова; фраза в целом существовала в послевоенном уличном фольклоре.
[Глеб] в преотличнейшем настроении поднялся на полынный холм к своей царице (стр. 47). – Свидания Глеба и Ирины происходят на возвышенном месте – пригорке, холме (см. также сцену с Романтикой, где Глеб стелет на бугре свой бушлат, стр. 26). Подъем, по Фрейду, – одно из «ритмических движений», входящих в символику полового акта в сновидениях.
Поэтический мотив вечернего любовного свидания на холме (возможно, с той же символикой) находим в начале «Тихого Дона» М.А. Шолохова (книга 1, часть 1):
Ребятишки <…> рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями, ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун [ср. бушлат Глеба] и на руках относил домой.
Аналогичное ночное свидание на горе – в стихотворении Роберта Фроста «Жена Поля Баньяна» («Paul’s Wife», 1921):
Следы их привели на Катамаунт – / Его вершину видно отовсюду. / <…> / За милю, над вершинами деревьев / Они сидели в нише на горе, / И девушка светилась, как звезда, / А Поль был темен, словно тень ее…
(перевод А. Сергеева; Новый мир. 1965. № 12. С. 94).
…взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне <…> вы говорили нам пора расстаться… (стр. 56). – Из «Письма к женщине» Есенина (1924): «Вы помните, / Вы все, конечно, помните, / Как я стоял, / Приблизившись к стене, / Взволнованно ходили вы по комнате / И что-то резкое / В лицо бросали мне. // Вы говорили: / Нам пора расстаться, / Что вас измучила / Моя шальная жизнь, / Что вам пора за дело приниматься, / А мой удел – / Катиться дальше, вниз».
Перерасхода бензина нету, потому что едем на нуле уж который день, и это, конечно, новаторский почин, сам удивляюсь (стр. 56). – Поездка приобретает все более зачарованный характер, теряя ориентацию во времени и пространстве. «Едем на нуле» – без бензина, с пустым баком. «Новаторский почин» – из лексикона советских средств информации и пропаганды. Означает инициативу коллектива или отдельного работника по повышению производительности труда, экономии материалов или горючего и т. д. О разного рода «починах» и «рационализаторских предложениях» пресса, радио и телевидение сообщали едва ли не ежедневно; многие из них носили фиктивный характер и фабриковались самими работниками средств информации.
...о весна без конца и без края, без конца и без края мечта… (стр. 60). – Из стихотворения А.А. Блока (цикл «Заклятие огнем и мраком», 1907): «О, весна без конца и без краю – / Без конца и без краю мечта! / Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! / И приветствую звоном щита!».
Я сверху-то все видел! Не имеете права в мудрую игру играть! (стр. 60). – Отзвук песни, упоминаемой также во сне пилота Вани Кулаченко (см. примечание к стр. 27). – Цитата не случайно употребляется вторично, так как хорошо выражает сказочно-мифическое отношение к пространству, типичное для аксеновской повести. В частности, в ЗБ нет разрыва между землей и воздушной (небесной) стихией: пилот Кулаченко с высоты двух тысяч метров ухаживает за Ириной, бросает ей букеты, с бреющего полета показывает фигу старику Моченкину (стр. 24, 38). Для его самолета-распылителя открыты весь околоземные и потусторонние сферы (см. его встречу с ангелами во сне). Мудрая игра – эпитет, подхваченный Володей из шахматного агитпропа.
…из-под [шляпы] свисала газета «Известия», защищая затылок и шею от солнца, мух и прочих вредных влияний (стр. 60). – «Вредные влияния», несомненно, имеют идеологический призвук и способствуют политизации образа Бородкина (см. ниже). Шутки такого образца – с пересечением политического и бытового терминов – всегда были характерны для советского юмора. Так, во времена продовольственных затруднений 1929–1931 годов острили: «масло, сахар и другие пережитки прошлого».
Десять ходов даю вам, дорогой товарищ, а на большее ты не рассчитывай (стр. 61). – Дорогой товарищ – обращение, принятое с 1920-х годов (отмечается как неологизм А.М. Селищевым в его известной книге 1928 года «Язык революционной эпохи» – см.: Селищев 1928: 127).
Цитируется «Девичья песня» («Не тревожь ты себя, не тревожь…», слова М. Исаковского; исп. К. Шульженко), кончающаяся словами: «А тебя об одном попрошу – / Понапрасну меня не испытывай, / Я на свадьбу тебя приглашу, / А на большее ты не рассчитывай».
Да, может, это Бородкин Виктор Ильич? (стр. 61). – К. Кустанович предполагает здесь намек на Ленина (Kustanovich 1992: 82). Подобный прием, когда персонажу игриво придаются одна-две черты реального и даже исторического лица, – кстати говоря, вовсе не обязывающие к дальнейшим параллелям и интерпретациям! – Аксенову не чужд (ср., например, его устное указание, что в «викарии из кантона Гельвеция» и в наезднике из 3-го сна Володи отразилась фигура Сартра).
Заметим, впрочем, и некоторые другие детали. Нарратор упоминает о том, что «в Гусятине, надо сказать, была своя особая шахматная теория» (стр. 61), и Бородкин, несомненно, один из ее создателей, как то видно из слов шахматистов: «Заманить его, Виктор Ильич, в раму, а потом дуплетом вашим отхлобыстать» (стр. 61). Чуть ниже (стр. 66–67) Виктор Ильич, чтобы поцеловать бочкотару, взбирается на колесо грузоика – не намек ли на хрестоматийный ленинский броневик? Кустанович усматривает элементы ленинского образа также в жилете и кепи пассажира экспресса 19.17 (Kustanovich 1992: 82).
Этап на Север, срока огромные… / Кого ни спросишь, у всех указ. – Взгляни, взгляни в лицо мое суровое. / Взгляни, быть может, в последний раз! (стр. 64) – Под «указом» подразумевались указы Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня и 10 августа 1940 года о прогулах и об устрожении ответственности за мелкие кражи и хулиганство, «пославшие в лагеря миллионы людей» (см.: Душенко 2002: 500).
Запертый в КПЗ (камеру предварительного заключения), Володя поет жестокий лагерный романс (полный текст в одном из его вариантов см.: Добряков 1997: 59). В автобиографической новелле Аксенова «Три шинели и Нос» (1996; действие происходит в 1956 году в Ленинграде в дни венгерского восстания) молодой герой, студент, вызывающе поет «Этап на Север…» в глаза стукачам и милиции. Некоторые другие строфы:
- В побег уйду я – за мною часовые
- Пойдут в погоню, зека кляня,
- И на винтовочках взведут курки стальные,
- И непременно убьют меня.
- Друзья накроют мой труп бушлатиком,
- На холм высокий меня снесут,
- И, помянув судьбу свою проклятьями,
- Лишь песню грустно мне пропоют.
- <…>
- Стоять ты будешь у той моей могилочки,
- Платок батистовый свой теребя.
- Не плачь, не плачь, подруга моя милая,
- Ты друга сердца отыщешь для себя.
Глеб, это похоже на арию Каварадосси (стр. 64). – Ирина имеет в виду арию из оперы Дж. Пуччини «Тоска» (1900), которую поет приговоренный к смерти художник, заключенный в римском замке Св. Ангела. Ария Каварадосси появляется также в густо-аллегорическом Эпилоге первом пьесы Аксенова «Всегда в продаже» (1965). Там ее пытается исполнять Старое Радио – символ культуры, подавленной тоталитаризмом.
Тут словно лопнула струна, и звук, таинственный и прекрасный, печальным лебедем тихо поплыл в небеса (стр. 66). – Кульминационный момент ЗБ ознаменован цитатой из чеховского «Вишневого сада». Во втором акте, согласно авторской ремарке, «вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный»[16]. Звук этот (повторяющийся и в финале пьесы) слышен всем героям, собравшимся в поле, и эмоционально их объединяет. Лирическое настроение в конце аксеновской повести сродни настроению комедии Чехова. Как и во втором акте пьесы, действие повести развертывается посреди «благодатных полей», в удалении от коррумпированной цивилизации. Героям ЗБ, слившимся в единую семью, предстоит расставание – как друг с другом, так и с символической бочкотарой, с которой они все сроднились, как чеховские герои со своей не менее многозначной усадьбой. Как и в чеховском последнем акте, в финале ЗБ происходит примирение «враждующих сторон» (Трофимова с Лопахиным, Моченкина с его спутниками).
Реминисценции из «Вишневого сада» сильны также в пьесе Аксенова «Цапля» (см. Вводную заметку, с. 6).
А яйцами можно, милок? – пискнула Степанида Ефимовна (стр. 66). – Шутка основана на литературной традиции, согласно которой допотопные старушки производят свои платежи натурой, обычно яйцами. В рассказе Тэффи «Взятка» (1913) такая старушка пытается подкупить судью, чтобы тот решил в ее пользу дело: «Яичек десяточек тебе принесла. И шито-крыто, и концы в воду, и никто не видал» (Тэффи 2000: 177).
Бородкин-младший, Виктор Ильич, никого не смущаясь, влез на колесо и поцеловал теплую щечку бочкотары. Володя Телескопов, хлюпая носом, целовал решетку <…> и все человечество (стр. 66–67). – О влезании Бородкина на колесо машины см. примечание к стр. 61. Примирение, взаимное прощение, добровольный отказ отрицательных персонажей от своих дурных привычек и от преследования положительных героев (отмена заключения и штрафа для Володи) происходят под знаком и под воздействием утильсырьевой бочкотары – разрешение сюжета, подобное утопическому финалу «Цапли», где «мало значащая»[17] птица, до этого презираемая и гонимая, вырастает в символ, объединяющий под своим крылом всех героев – добрых и злых. «Никого не смущаясь <…> поцеловал» – ср. этот штамп и параллели к нему в примечании к стр. 14.
В одном из окон стоял с сигарой приятный господин в пунцовом жилете… [и до слов: И так исчез из наших глаз загадочный пассажир, подхваченный экспрессом] (стр. 69). – Загадочный господин, для каждого из героев принимающий свой особенный облик, имеет типологические параллели в сказочно-демонологических повествованиях, где дьявол и его помощники (или какие-то иные волшебные существа) по-разному представляются разным наблюдателям. Элементы этого мотива мы находим в «Мастере и Маргарите»: «С котами [нельзя], вы говорите? А где же вы видите кота?» (глава 28, в торгсине). В романе Пьера Бенуа (1886–1962) «Прокаженный король» (три русских перевода – 1927; действие в колониальном Индокитае) королевскую охоту на кабана прерывает человек, как бы вырастающий из-под земли: «Те, то были очевидцами этой сцены, долго потом спорили о том, кто был этот человек. Одни говорили, что это был отшельник, другие, что простой нищий. Не сходились во мнениях относительно его возраста. Но все в один голос говорили, что он был прокаженный» (глава 3; Бенуа 1927: 109). Столь же двусмысленные фигуры дефилируют перед провинциальными обывателями в когда-то довольно известной повести Чарльза Г. Финни (1905–1984) «Цирк доктора Лао» (1935). Когда этот «воландовский» по своей природе цирк едет по улицам городка, среди зрителей разгораются споры о том, кто сидит в одной из клеток, человек или медведь? Наконец, в «Ожоге» самого Аксенова есть сцена, где трое обвиняемых в нарсуде спорят о личности судьи:
– Ну, вот и судья, – проговорил Патрик. – Узнаете, ребята? Это кельтское ископаемое божество из Британского музея.
– Ничего подобного, – возразил я. – Она работает кассиршей на нашей станции метро.
– Кончайте фантазировать, – оборвал нас Алик. – Перед нами председатель федерации классической борьбы, забыл фамилию.
(Аксенов 1994: 192)
Частота подобных персонажей, то расщепляющихся на ряд ипостасей, то сливающихся в одну персону, является, как мы знаем, отличительной чертой аксеновской поэтики («Ожог», ЗБ и др.; см. Вводную заметку, а также примечания к стр. 51–53 [3-й сон Вадима], стр. 54–55 [сон Степаниды] и к ряду других мест ЗБ). Это характерный для Аксенова разоблачительный прием «срывания масок» и выявления инвариантности, «массовидности» человеческой натуры за обманчивым разнообразием внешних форм.
Комментарии к снам
Сны героев ЗБ – отдельная сфера внутри повести, самостоятельный поэтический мир, имеющий имманентные структурные признаки. Сновидение избирает и наделяет неожиданной эмоциональной пронзительностью подсознательные мотивы – в том числе и такие, которые в дневной жизни приглушены, не считаются существенными, задвинуты на дальний план множеством более актуальных практических дел. Предметы в снах деформируются и сочетаются по своим собственным законам. Последние в ЗБ отчасти пересекаются с фрейдовскими принципами построения снов, но отнюдь не сводятся к ним одним. Отметим черты, общие для всех трех серий снов ЗБ.
(1) Сны – сфера символов и гипербол. Непременный момент всех снов – конфронтация героя, часто неоднократная, с непропорционально большими единичными предметами/существами, в которых материализованы либо какие-то важные моменты биографии героя, либо занимающие его проблемы, интересы, одержимости и фобии, либо лица, играющие большую роль в его жизни. Вспомним знаменитого монархиста Хворобьева из романа Ильфа и Петрова, которому снились, среди многого другого, членские взносы и огромная профсоюзная книжка («Золотой теленок», главы 8, 14). Сны персонажей ЗБ – это мир укрупненных образов-символов par excellence. Такими мегаобъектами являются, например, щенок величиной с корову и колоссальная фигура Хунты (1-й сон Дрожжинина), огромный клубень (1-й сон Моченкина), непомерно большие руки бабушки (1-й сон Селезневой), станок высотой в гору, гигантская Серафима на санном прицепе и «футбол[ьный мяч] здоровенный, как бы с ВДНХ» (1-й сон Телескопова), «внушительная стрекоза», которую пилот Ваня хватает за хвост в полете (сон Кулаченко), Серафима величиной с доменную печь (2-й сон Телескопова), гигантское пальто и огромный баран (2-й сон Моченкина), букет экзаменационных билетов (3-й сон Селезневой), «Лженаука огромного роста» (3-й сон Шустикова), огромные Физика и Химия (3-й сон Телескопова), шагающая посреди поля Характеристика (3-й сон Моченкина), рогатый «жук фотоплексирус-батюшка», которого Хороший Человек ведет за ручку (сон Степаниды). Там, где «многотысячная толпа присела на корточки в тени агавы и кактуса», где Володю бросают в огород под капусту и где Серафима и Сильвия сидят под тюльпаном (1-й сон Дрожжинина, 2-й и 3-й сны Телескопова), читателю предоставляется самому решать, что имеется в виду – исполинские растения или люди, низведенные до размера лилипутов.
Кроме укрупненных предметов, воплощающих страхи и чаяния героев, в снах встречаются и другие операции, придающие метафорам дополнительную эмфазу, как например, буквализация последних: Ирина копает лопатой яму для своих сокровищ, Володя вынимает из кармана тарифную сетку, а затем маленькую ложь и др. (1-й сон Селезневой, 2-й сон Телескопова).
(2) Большинство снов, по крайней мере в одной своей части, развертывается на фоне широких открытых пространств на глазах больших коллективов людей, часто в активном взаимодействии с ними. Герой вырывается за узкие пределы своей одолеваемой тревогой и сомнениями личной сферы, получает способность сверхъестественно быстро передвигаться в пространстве, летать[18]; вообще приобретает значительно большую, чем наяву, подвижность и в одиночку противостоит огромному загадочному, а порой и угрожающему миру. Другими словами, герой во сне неимоверно вырастает в собственных глазах, начиная ощущать свою личную ситуацию как имеющую общечеловеческое измерение. Эта пространственная масштабность, космичность и «соборность» происходящего с героем – не что иное, как продолжение упомянутой выше поэтики гипербол; при этом, как и мегапредметы, состав наблюдающей и соучаствующей толпы репрезентирует заботы и интересы спящего. Многотысячная масса «простых халигалийцев» внимает речам Вадима Афанасьевича (1-й сон Дрожжинина). Глеб стремительно перемещается из среды в среду, с высоты парашютного прыжка ему открывается полный сбор его знакомых девушек (1-й сон Шустикова). Заявления старика Моченкина рассматриваются авторитетной комиссией на открытом собрании в большой «двухсветной зале» (1-й сон Моченкина). Перед Ириной карнавалом дефилируют все ее знакомые мужчины, а с неба спускаются на нее, как опахала, «польские журналы всех стран» (1-й сон Селезневой). Володе видится сначала едущий (предположительно по полю) трактор с огромной Серафимой на прицепе, а затем футбольное поле с тысячами болельщиков (1-й сон Телескопова). Пилот Ваня летит над земными просторами, приветствуя «борющиеся народы Океании», принимая сигналы «со всех станций слежения» и беседуя с ангелами (сон Кулаченко). Володя позорно на глазах приглашенных изгоняется с праздника Серафимы (2-й сон Телескопова). Вадим летает по крышам и трубам Халигалии, посещая знакомых красавиц и разгоняя соперников; «скрипят рамы, повсюду открываются окна, повсюду они – прекрасные женщины Халигалии» (2-й сон Дрожжинина). Пальто для старика Моченкина строит «вся большая наша страна», огромные пальто и угрожающий баран возвышаются над широкими полями и рощами (2-й сон Моченкина). Ирина, окруженная своими поклонниками и преследователями, несется в вихре танца на колоссальном балу (3-й сон Селезневой). Глеб участвует в массовом соревновании, а затем борьба развертывается на аллеях парка культуры и отдыха (3-й сон Шустикова). Явившийся на ипподром Володя становится центром внимания зрителей; затем Володя с другом в виде лошадей скачут мимо знакомых мест и лиц, пролетая сквозь сонмы ангелов (3-й сон Телескопова). Вадим Афанасьевич вместе с двумя другими «патронами» Халигалии решает судьбу любимой страны на своеобразной всемирной конференции (3-й сон Дрожжинина). Погоня за моченкинской Характеристикой происходит на фоне полей, рек и оврагов (3-й сон Моченкина). Лаборант Степанида Ефимовна бродит посреди таинственного сказочного пейзажа, окруженная демоническими существами: «кочет кычет, сыч хрючет, игрец регочет» (сон Степаниды).
(3) Сны полны напряженной борьбы героев с чудовищами, воплощающими их заблуждения, одержимости и фобии, пытающимися их мучить и запугивать. Подробнее об этом будет идти речь в комментариях к сериям снов и к индивидуальным снам.
(4) В большинстве снов герои получают возможность видеть самих себя как бы со стороны, сталкиваясь либо с теми или иными формами собственного двойника, либо со своим отражением в зеркале. Этот мотив, очевидно, намекает на происходящую в героях авторефлексию, которая в конце концов приводит их к пересмотру ценностей и приоритетов и отказу от своего прежнего «я». Эти моменты встречи героев с самими собой будут далее отмечаться индивидуально в связи с каждым из снов.
(5) Согласно Фрейду, образы снов часто служат символическими репрезентациями подсознательных объектов. Такие замены нередки и в снах ЗБ. Так, Серафима сравнивается с огромной доменной печью (о печи как сексуальном символе снов см. примечание ко 2-му сну Телескопова); опасный для Ирины школьник Курочкин и его товарищи предстают в виде львов (еще один такой символ) и т. п. Для снов вообще характерен перевод абстрактных понятий в конкретную форму (Freud 1975) – и мы видим примеры этого во 2-м сне Володи, где «завалящая маленькая ложь» превращается в лягушку и весело скачет к луже.
(6) В снах постоянно возникают всевозможные странные гибриды. В частности, постоянно переплетаются, меняются атрибутами между собой и с другими персонажами фигуры пассажиров бочкотары. Так, в 3-м сне Дрожжинина его далекие конкуренты Сиракузерс и швейцарский викарий «хлещут “Горный дубняк”», что входит в признаки Володи Телескопова; в 3-м сне Шустикова гигантская Хунта – персонаж из мира Вадима Дрожжинина – является с рыбными консервами и бутылкой того же «Дубняка» в руке, т. е. опять-таки с атрибутами Володи. В конечном счете имеет сходство со сном и весь сюжет повести, в той мере, в какой он характеризуется слиянием героев – уже не только в их снах, но и в полуфантастической яви конца повести – в единую душу, движущуюся в направлении Хорошего Человека.
Перечислить, а тем более проанализировать все возникающие в снах «кентавроподобные» объекты было бы довольно трудно. Володя вытаскивает из кармана «красивую птицу – источник знаний»; работники райпотребкооперации съезжаются на Серафимин праздник верхом на белых коровах – вместо белых коней (2-й сон Телескопова). Гибридны восходящая к сказке Ш. Перро / братьев Гримм бабушка с огромными руками и лопатой (1-й сон Селезневой), а также, по-видимому, и «огненно-рыжий старичок» (3-й сон Селезневой, см. примечание к этому сну). У Генриха Анатольевича Допекайло, в чьем имени слиты начальники Глеба и Ирины, «на одном плече катод, на другом – анод»; спортсмен Моментальный подносит Ирине букет из экзаменационных билетов (3-й сон Селезневой).
Часто переходят от одних персонажей снов к другим словечки и фразеологические обороты. Этот речевой сдвиг чаще всего направлен в одну сторону – от водителя машины и «главного хранителя» бочкотары Володи Телескопова к другим персонажам (Глебу, Вадиму), которые то и дело начинают употреблять слова из Володиного лексикона, цитировать его любимого поэта Есенина и т. п. К этой однонаправленности мы еще вернемся ниже в связи с конкретными пассажами, где она представлена. Речь персонажей во сне характеризуется перестановками и гибридными словообразованиями: «Шельмуют в семье с жирами, жируют в шельме с семьями» (2-й сон Моченкина; стр. 35).
Помимо гибридов, т. е. частичного переноса атрибутов от одного персонажа (объекта) к другому, характерны случаи полной контаминации двух фигур, когда одна как бы просвечивает через другую, давая двойственный, колеблющийся образ. Таковы, например, «неуловимо знакомый подводник», оказывающийся Ириной, и Лженаука, «напомина[ющая] какую-то Хунту из какой-то жаркой страны» в 3-м сне Шустикова, равно как и «очень знакомый, членистоногий» председатель собрания в 1-м сне Моченкина. В самом старике Моченкине члены комиссии, они же колорадские жуки, опознают картофельный клубень: «Посмотрите на него внимательно, уважаемая комиссия, ведь это же картошка» (стр. 19). Двусмысленна в восприятии и снах Ирины фигура удивительного семиклассника Бори Курочкина, не то подростка, не то взрослого, обладающего одновременно «маленькой атлетической фигурой», широкими плечами, «детским носом», «детскими губами» и донжуанскими манерами. Володя и Андрюша в 3-м сне Телескопова – одновременно лошади и люди, а зрители небесного ипподрома оказываются ангелами.
Подобные двусмысленности характерны для сновидений и знакомы едва ли не каждому из нас. Фрейд объясняет их «конденсацией» при переходе от глубинных (подсознательных) элементов сна к его внешней структуре. Мы легко узнаем черты снов ЗБ в следующей фрейдовской характеристике конденсации:
Вспоминая свои сны, вы без труда найдете случаи слияния нескольких лиц воедино. Такая составная персона имеет внешность А, одета как Б, делает что-то, напоминающее о В, и в то же время мы знаем, что перед нами Г.
(Freud 1947: 189–190; перевод наш. – Ю.Щ.)
В ЗБ это обусловлено, помимо прочего, и специфической для повести сквозной линией слияния героев в единую душу. Иными словами, данная черта имеет двойную мотивировку, будучи оправдана как общими законами снообразования, так и специфически аксеновской тематикой этой повести.
(7) По содержанию сны представляют собой много общего: герои проходят в них через испытания, подвергаются мучительству, терпят символическую смерть и увечья ради своих временных, «ошибочных» интересов, убеждений и привязанностей – лишь для того, чтобы в конечном счете отречься от всего этого во имя нарастающей в них иррациональной любви к таинственной, практически бесполезной и никому в этом мире не нужной бочкотаре. В снах герои единоборствуют со своими антагонистами и соперниками, с существами, олицетворяющими их страсти, а иногда и с собственными творениями и орудиями, когда те оборачиваются против своих хозяев и создателей. Большую роль играет мотив воды – героям то и дело приходится плыть, попадать под проливной дождь, идти по мокрой траве или лужам (например, Глеб в 1-м и 3-м снах, Володя – во 2-м, Вадим и моченкинская Характеристика – в 3-м; в 4-м общем сне бочкотара плывет по волнам большой русской реки и т. п.). Частая встречаемость воды несомненно отражает центральность темы нового рождения героев: «Рождение регулярно выражается в снах через посредство воды: в воду погружаются, из нее выходят – это значит, или рождаются, или рожают» (Freud 1975: 145). Мы знаем, что в литературе символика воды выходит далеко за пределы сновидений и постоянно наблюдается наяву в метафорах или событийных моментах сюжета. В конце всех снов на помощь героям неизменно приходит Хороший Человек, который в первых снах обслуживает их раздельные амбициозные мечты, но по ходу повести начинает во все большей степени воплощать их стремление к новой, общей жизни, основанной на братстве и добре. Можно сказать, что решающие моменты эволюции героев ЗБ совершаются именно во время сна. Более подробную характеристику того, что снится, см. ниже, в связи с конкретными снами.
Первая серия снов
Первые сны всех героев – Вадима Дрожжинина, Глеба Шустикова, старика Ивана Моченкина, педагога Ирины Селезневой, Володи Телескопова – имеют явственный общий сюжет. Вначале каждый из них занят любимым делом, стремится к цели и ожидает близкого успеха; его ублажают наградами, угощениями, комплиментами. Но затем ветры начинают дуть в неблагоприятную для героя сторону; в результате случайности или вмешательства тех или иных враждебных сил он терпит неудачу. Как попытки, так и отпор локализуются в сфере интересов каждого героя: у Моченкина это учреждения, ведающие льготами, у Вадима – Халигалия, у Ирины – школа и институт, у Глеба – военная служба, у Володи – широкий разброс сфер (отношения с начальством, товарищами, машинами и т. п.) Кончается все катастрофой и «квазисмертью». Придя в себя, герой получает эпифанию в образе приближающегося к нему Хорошего Человека, чей облик соответствует его интересам на данном этапе (потом они будут изменяться).
Естественно считать, что этот эпизод метафорической смерти/возрождения во сне – первый, но не последний в повести – отмечает начало того перерождения менталитета, освобождения от фальшивых приманок («симулякров») советской культуры, обращения к первичным, хотя бы и несколько расплывчатым и утопическим неофициальным идеалам естественного бытия, беззаботности, терпимости и братства, которое составляет сквозную тему ЗБ.
Квазисмерть и перерождение – универсальный сюжетный архетип, типичный для повествований о моральной трансформации, рождении «нового человека». Его типичными моментами являются:
(1) попытка враждебных сил поглотить или иным способом уничтожить героя; его телесное увечье или тяжелая болезнь, часто с потерей сознания и амнезией; глубокий, порой летаргический сон;
(2) пожар, уничтожающий элементы прежней жизни;
(3) так или иначе вмешивающаяся в жизнь стихия воды;
(4) утрата традиционных наставников, чаще всего родителей, а на втором месте по частоте – утрата супруга (при несчастливом браке) или ложно почитаемого безжизненного идола; замена их новым руководителем на жизненном пути – «вторым отцом» или новой, более подходящей для героя подругой жизни;
(5) пребывание в одиночестве в «могилоподобных» или инфернальных помещениях – в темнице, сумасшедшем доме, под землей, под водой, в чреве чудовища и т. п.;
(6) блуждания по пустынным и диким местам;
(7) сбрасывание прежней одежды, нагота («костюм Адама»);
(8) перемена имени.
Эти моменты редко выступают в полном наборе; некоторые из них (например, (1), (2) и (3)) часто переплетаются в одном сюжетном событии (см.: Щеглов 1986).
Для первых снов, как и для последующих, типичны моменты раздвоения персонажа, когда он вдруг начинает видеть со стороны себя и собственные действия. Этот момент, связанный с рефлексией и самооценкой, можно в большом количестве наблюдать у Толстого, Достоевского и Чехова[19].
Начинается в первых снах и еще один процесс, затрагивающий личностную сторону героев, – постепенное переплетение, взаимопроникновение их персональных мотивов и стилей и (по крайней мере в проекции) отождествление каждого из героев со всеми другими. Таким образом, типичное для снов слияние нескольких лиц в одно используется писателем в тематических и сюжетных целях. Утопическим результатом этого в финале повести будет отказ героев от всего того, что первоначально определяло их и отграничивало друг от друга, нейтрализация в них всего разного (т. е. в конечном счете отказ от всего личностного, растворение в некой «мировой душе») и слияние в братском единстве вокруг символической бочкотары.
Сны всех трех серий завершаются появлением Хорошего Человека, который неизменно предстает как идущий «по росе» в сторону персонажа, видящего сон: «К нему по росе шел Хороший Человек…» (1-й сон Дрожжинина); «Посмотрел из-за кочана – идет, идет по росе Хороший Человек…» (2-й сон Телескопова); «Идет по росе Хороший Человек» (3-й сон Шустикова; см. стр. 17, 33, 50).
Интерпретаторы неоднократно связывали Хорошего Человека с фигурой Христа, и автор повести в интервью комментатору подтвердил правомерность такого толкования. И в самом деле, завершающий образ всех снов напоминает о картине А.А. Иванова «Явление Христа народу», где Христос изображен идущим на некотором отдалении в направлении группы персонажей первого плана. Автор отрицает влияние на него картины Иванова в момент создания повести, хотя и признал правильность параллели.
В 1-м своем сне В.А. Дрожжинин переносится в любезную его сердцу Халигалию и общается с «простыми халигалийцами».
Уже на этом этапе, в 1-м сне, личность Дрожжинина приобретает оттенок неполной определенности – первый симптом будущего слияния путешественников в одну коллективную персону. Сквозь Дрожжинина, каким он себя видит, просвечивают другие герои повести, оторваться от которых во сне ему стоит некоторых усилий: «Вадим Афанасьевич, или почти он, нет-нет, водителя отметаем и старичка отметаем, папа и мама не в счет, лично он влез на пальму и обсудил с простыми халигалийцами насущные вопросы дружбы с зарубежными странами» (стр. 17). Подчеркнем, что Вадим как бы наблюдает себя со стороны – одна из ранних примет той авторефлексии, которая будет играть заметную роль в эволюции всех героев ЗБ. Есть в 1-м сне и другие контаминации личностей – например, «тетя Густа», которая одновременно предстает как мать щенка Карабанчеля и как лошадь, фаворит национальных скачек (возможно, ранний намек на будущие бега Володи Телескопова в его 3-м сне).
Встреча Вадима Афанасьевича с народом прервана появлением угрожающей, чудовищной Хунты – первой из многих женских фигур, персонифицирующих различные заботы, страхи и упования героев ЗБ (далее в этом качестве появятся Наука, Лженаука, Романтика, Характеристика и т. п.). Спасаясь от Хунты, Дрожжинин попадает в типично потустороннее место – «болотистую местность Куккофуэго», где ему не дают спать «кровожадные халигалийские петухи и ядовитые гуси».
Встает солнце, и Вадим видит идущего к нему по росе Хорошего Человека – «простого пахаря с циркулем и рейсшиной».
Улица покрылась простыми халигалийцами. – «Простыми халигалийцами» – штамп советской пропаганды, с начала холодной войны (1940-е годы), обозначавший трудящихся капиталистических стран: «простые люди Америки», «простые чилийцы», «парни всей земли» и т. п. Его стыковка с языковым клише «улица покрылась…» преднамеренно комична, ибо выражение «покрыться некоторым х» обычно предполагает в качестве х не людей, а нерасчлененную однородную массу (покрыться снегом, травой, цветами), часто с неблагоприятной оценкой (покрыться сыпью, тьмой, саранчой и т. д.).
Далее в этом сне встречаем и другие клише советской внешнеполитической риторики: «…обсудил с простыми халигалийцами насущные вопросы дружбы с зарубежными странами <…> солнце все-таки встало над многострадальной страной» (стр. 17).
Дрожали под огромным телом колосса слабые глиняные ножки. – «Колосс на глиняных ногах» – образ из Библии (Дан. 2: 31–45), ходячая метафора в политическом дискурсе. Вавилонский царь Навуходоносор «увидел во сне огромного металлического истукана на глиняных ногах; камень, оторвавшийся от горы, ударил в глиняные ноги истукана и разбил их (символ его царства, которому суждено разрушиться)» (Ашукин, Ашукина 1986: 315; курсив наш. – Ю.Щ.). Выражение употреблялось применительно к большим, но уязвимым империям, чаще всего к России, а в XX веке – к СССР.
К нему по росе шел… – Роса – первое появление мотива «воды», который будет играть роль универсального фона в снах всех персонажей. Вода, пребывание в ней – многозначный символ, имеющий широкий спектр коннотаций, среди которых (пере)рождение, любовный акт, «творение и объединение жизни» и др.[20] Все сны заканчиваются появлением Хорошего Человека, идущего по росе[21]. Помимо этого, сны изобилуют мотивами морей, океанов, рек и плывущих по ним кораблей (также важный символ): народы Океании в сне пилота Кулаченко; «Сказка о рыбаке и рыбке» во 2-м сне Володи; подводное царство в 1-м сне Глеба; мотивы из песни «Варяг» в 1-м сне Ирины; мотив крейсера во 2-м сне Моченкина; «океан народных слез», а затем море, по которому плывут бочкотара и Вадим, в 3-м сне Вадима; наконец, большая река и дальние моря в последнем общем сне. Влажностью отличаются и инфернальные зоны – болотистая низменность Куккофуэго в 1-м и 2-м снах Вадима, «Квасная путята» в 1-м сне Моченкина. Другие водные образы в снах: благотворная промывка Володиного организма в его 1-м сне и ложь-лягушка, скачущая к луже, в его 2-м сне; Характеристика, бросающаяся в реку, в 3-м сне Моченкина (где и все действие, по-видимому, мыслится на фоне речного пейзажа). Вне снов сюда относится, конечно, профессия Глеба, постоянно связывающая его с морем, и плавания Володи на различных кораблях (а также, вероятно, многократные упоминания рыбы и консервов из нее как любимых блюд Володи). Следует заметить, наконец, что сама бочкотара, когда это необходимо, покидает кузов грузовика и превращается во что-то вроде плота или понтона: в 3-м сне Вадима и в последнем общем сне она сама, без помощи каких-либо плавучих средств, плывет в направлении Хорошего Человека.
Хороший Человек, простой пахарь с циркулем и рейсшиной. – Одной своей стороной эта фигура, несомненно, отражает народные корни Дрожжинина, о которых он сам хотел бы забыть – ср. его неловкость по поводу деревенских родственников и «подспудные надежды на дворянское происхождение» (стр. 7, 9). Эта, пока что слабая, аллюзия характерна для Хорошего Человека, чья роль в повести вообще состоит в том, чтобы отражать пробуждение в каждом из героев его естественного, лучшего «я». Другой намек на крестьянские истоки – народная примета, которую наяву Вадим, конечно, никогда бы не вспомнил, – может быть усмотрен в начале сна: Собаки к добру!
«Пахаря» некоторые комментаторы также связывают с евангельским сеятелем, что довольно правдоподобно, поскольку Хороший Человек вообще является «христоподобной» фигурой, как это признает и автор.
С другой стороны, циркуль и рейсшина как инструменты инженера и проектировщика, возможно, имеют отношение к мечтам Дрожжинина о постройке кооперативной квартиры в Хорошево-Мневниках (стр. 29). В более широком плане можно видеть в циркуле и рейсшине символ профессионализма, к которому стремился и которого добился Дрожжинин, и/или идею церебральной методичности, точного расчета, с помощью которых он строит свою карьеру и благосостояние.
Отдаленной, но возможной (особенно для сна) ассоциацией представляется нам циркуль на государственном гербе Германской Демократической Республики (ГДР), в те годы одной из «стран социалистического лагеря», откуда советский потребитель получал предметы культурного обихода – костюмы, грампластинки, радиоприборы, фармацевтику, периодику, книги, – пользовавшиеся широким спросом как суррогат желанных, но малодоступных изделий из «капстран». Ср. такую же роль «польских журналов всех стран» в 1-м сне Ирины. Напомним, что в мире аксеновских героев культура всякого рода престижных, «фирменных» предметов, по большей части зарубежных, занимает немалое место. Предполагаем, что циркуль во сне Дрожжинина может толковаться как намек на это компромиссное, «ближнее» западничество советских людей его поколения.
В случае Шустикова мотив квазисмерти оформлен наиболее благоприятным для героя образом, что соответствует его ясной, незамутненной сомнениями или травмами натуре. Тайные тревоги других героев отражаются в их снах в виде фигур могущественных антагонистов, в мотивах провалов и катастроф. Глеб научен смотреть на мир уверенно и превосходительно; если какие препятствия или проблемы и возникают в его снах, они носят характер мелких недоразумений и легко им преодолеваются. Гигантские противники возникают и перед Шустиковым, но в качестве советского супермена он под стать этим фигурам и не боится их, более того – приветствует их появление.
Начинается сон, как и у Дрожжинина, с картины активности героя в привычной и дружественной ему среде. В то время как Вадим проповедует халигалийцам, моряк Глеб занят физической тренировкой. Враждебные силы, мешавшие миссии Вадима Афанасьевича, во сне Шустикова отсутствуют. Единственное облачко на его горизонте может быть усмотрено в угрозе боцмана Допекайло в случае неудачного прыжка отправить Глеба «гальюны чистить». (Вспомним, что с нечистотами и экскрементами часто связывается в фольклоре «тот свет».) Что боцман является в принципе опасной фигурой, видно из его приравниваний к Рейнвольфу в снах Ирины, а также из последней сцены повести, где каждому герою в последний раз является в окне экспресса его персональный антагонист. В целом, однако, мир предстает как благоприятствующий герою: боцман хвалит моряка, премирует его пачкой сигарет и пончиками, а вокруг легкими тенями проносятся и гуляют под зонтами бесчисленные знакомые девушки Глеба.
Словами «…в подводное царство. Плывем с аквалангами…» (стр. 18) начинает подготавливаться характерный для смерти-возрождения мотив спуска в нижние сферы. К этому добавляются: прыжок с парашютом, падение в стог, ночное время и необычно длительный с дисциплинарной точки зрения сон в стоге («поспал минут шестьсот <…> добрал еще пару часиков»), а заодно и характерное упоминание о смерти, хотя и отрицаемой («от сна никто не умер»). Показательно для Глеба – «внутренне собранного», воспитанного в духе практичности, в любой обстановке помнящего инструктаж, – что он отказывается подчиняться ночному миру и хаотическим силам, запутывающим других героев: «Проснулся, определился по звездам» (стр. 18).
Под утро Глеб видит идущего по росе Хорошего Человека, в котором, как и следовало ожидать, угадываются формы педагога Селезневой.
Подъем, манная каша! – Манная каша – типичная детская еда. Армейский юмор, особенно в обращении с новобранцами, включает обыгрывание понятий, связанных с домом, детством и младенчеством. Армия – разрыв с детством и вступление в суровую взрослую жизнь; инициация молодого воина издавна сопровождалась ритуальным по своей сути дразнением, насмешками по адресу домашнего, «мамочкиного» воспитания, домашних изнеженных привычек. «Ты из киндербальзамов», – говорит начдив интеллигенту, желающему приобщиться к конармейской жизни, а тот среди жестоких инициационных издевательств мечтает о дыме домашнего очага (И. Бабель, «Мой первый гусь», 1924).
Армейские шутки по поводу детства, матери, родительского дома, домашних удобств не обязательно носят издевательский характер, но, как в данном случае у Аксенова, могут быть вполне благожелательными. В широком смысле игра в детство, шуточное приписывание закаленным бойцам инфантильных атрибутов (например, сладкоежества) может считаться характерной чертой армейского (флотского) дискурса. Кроме «манной каши» боцмана Допекайло к этому стилю относится чуть ниже награждение Глеба Шустикова пончиками («Кок, пончики для Шустикова!») и его разыгранная радость по этому поводу («Прямо с пончиком в зубах в подводное царство. Плывем с аквалангами, вкусные пончики»). В этой же сцене двойник Глеба «лыбится, как мамкин блин». Во время привала, где каждый вносит свой вклад в общую трапезу, железный Глеб, «немного смущаясь, достал мамашины творожники» (стр. 22). Стилизованный под детство энтузиазм по поводу лакомств, детское нетерпение звучат и в 3-м сне Глеба: «Всем двойное масло, двойное мясо, тройной компот. А пончики будут, товарищ мичман?» (стр. 48), а также в сцене, где путешественники собирают деньги на уплату штрафа, наложенного на Володю Телескопова: «Шапка по кругу! – гаркнул Глеб, вытягивая из тугих клешей последнюю трешку, припасенную на леденцы для штурмовой команды» (стр. 66).
Стоит обратить внимание на то, как характерность героев ЗБ проявляется в их отношении к пище и гастрономии. И Глеб, и Вадим получают от родных на дорогу сладкое (у первого – «мамашины творожники», а также пончики, компоты, леденцы; у второго – «мамины варенцы с драниками», разные сорта варенья). Но Вадиму его элитарные установки мешают наслаждаться традиционными народными лакомствами, он их стесняется и прячет от глаз: «Что мне делать с таким количеством конфитюра?» (его вкусам более соответствует кофе и яблочный пирог в «Национале», стр. 9–10), в то время как для Глеба, как мы видели, сладости являются частью стилизованной флотской культуры: «А пончики будут, товарищ мичман?» Впрочем, вне условно-флотского, ритуального контекста некоторое стеснение испытывает и Глеб: «немного смущаясь, вынул творожники» (для общего пикника). Все остальные путники тоже обнаруживают характерные гастрономические различия. У старика Моченкина на уме старорусская сельская кухня (запеченная щука, яичница, брага, квас, из сладостей – «узюму шашнадцать кило», но это все для себя, тогда как угощением для компаньонов служит у него неизменная «сушка» – стр. 22). Ирина Селезнева кладет на общий стол «плавленый сыр “Новость”, утеху ее девического одиночества» (стр. 22). Эта нарочитая бесцветность ее вкусовых интересов, безразличие к еде, видимо, отражают сосредоточенность внимания на других, более срочных проблемах (для которых несравненно важнее наряды – см. их обильный набор в ее дорожном чемодане, стр. 12). Наконец, для Володи характерен широкий диапазон консервированных рыб. Еще бы, разве может тот, кого непрерывно носит по свету, кто всю жизнь проводит на бегу, позволить себе что-либо кроме консервов и вообще fast food?
Светлого мая привет! – Из припева популярной в 1950-е годы песни «Ландыши» (слова О. Фадеевой; исп. Г. Великанова): «Ландыши, ландыши, / Светлого мая привет. / Ландыши, ландыши, / Белый букет». Ср. в этом же сне «операция “Ландыш”», «кафе “Ландыш”» – манерная орнаментация суровой морской службы мотивом нежного, сентиментального цветка, по своему характеру подобная употреблению мотивов детства (см. выше).
Следующий номер нашей программы – прыжок с парашютом. – Стандартная формула (здесь в шуточном смысле), которой в старом Советском Союзе конферансье (ведущий) эстрадного концерта объявлял следующее выступление, например: «Следующий номер нашей программы – трио баянистов».
Кто это рядом висит на стропах, лыбится, как мамкин блин? А, это Шустиков Глеб, растущий моряк. Как же, как же, видел его в зеркале в кафе «Ландыш». – Мы видим здесь то же раздвоение персоны героя, видящего себя со стороны, что и в 1-м сне Дрожжинина и (далее) в 1-м сне Моченкина. Мотив зеркала играет ту же роль. Лыбиться – улично-жаргонный вариант глагола «улыбаться».
В согласии с динамичной, гибкой, жизнерадостной натурой Глеба 1-й сон его композиционно выглядит как сложная система движений – плавных, колыхательных, переходящих друг в друга и из среды в среду, – чьи красота и замысловатость напоминают о цирке или феерической балетной пантомиме. Вначале он участвует в массовом заплыве в подводное царство, за этим следует парашютный прыжок, во время которого моряк замечает своего двойника, тоже парящего на стропах. Под ногами парашютиста раскачиваются листья ботанического сада, сменяют друг друга узоры разноцветных зонтиков; все в целом завершается безболезненным падением в стог и долгим сном среди поля, под звездным небом. Вокруг Глеба все время мелькают другие моряки, проплывают рыбы, камнем проносится боцман Допекайло. Яркую артистичность этого сна поддерживает выбор деталей и лексикона: серебряная дудка боцмана, сигареты «Серенада», конферансье, объявляющий номера эстрадной программы… Военно-морские термины непринужденно переплетаются со «светскими» мотивами joie de vivre, например «Ландыш» – одновременно название кафе, учебной операции и песни (см. выше). Композиционной изобретательностью, хитроумной музыкальностью построения отличаются и другие сны персонажей ЗБ. Их анализ мы, однако, предоставляем желающим читателям.
Зонтики раздвигаются, а под ними знакомые девушки: инженер-химик, инструктор роно, почвовед, лингвист… – Весьма характерна для культуры тех лет маркировка девушек (подруг, жен, невест) по профессии и роду занятий (даже скорей, чем по имени, как тонко подмечено в данном месте ЗБ). Эта манера особенно типична для амбициозных молодых людей, служа показателем профессионально-социальных уровней, на которых им удается «кадрить» девушек, а тем самым, косвенно, и своей собственной удачливости. Именование этого типа имеет формальный оттенок, выражающийся в том, что указывается не конкретное место работы подружки (скажем, «работает в Институте химии», что звучало бы теплее), а стандартизованный термин, как бы извлеченный из некой апробированной номенклатуры профессий, нечто такое, что можно предъявлять, как ярлык, в социальном обиходе. Для этой манеры именования характерна немаркированная форма мужского рода при обозначении лиц женского пола; нетипичны слова вроде «художница», «лингвистка»; «правильным» будет «инженер», «лингвист». (Ср., напротив, «старомодную» манеру женщины давать имя своей профессии в женском роде: «По специальности я учительница историчка» – Пастернак, «Доктор Живаго», книга II, часть 9, глава 14.)
Другие примеры этого речевого маньеризма – «педагог Селезнева», как постоянно именуется Ирина («Моряк подсадил педагога…», см. стр. 13), или в «Рандеву»: «…на него, туманясь лаской, смотрели глаза двух сестер, двух научных работников, Алисы и Ларисы» (Аксенов 1991: 288) – и далее, когда эти сестры представляются Малахитову: «я, филолог…», «я, химик…» (Там же: 289). Ср. ту же идею классификации любовных побед по их социальной престижности, выраженную в известном заглавии у Ильфа и Петрова: «Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина – зубной техник» («Золотой теленок», глава 35), а также у Беллы Ахмадулиной: «Ему за то и подают обед, / который он с охотою съедает, / что гостья, умница, искусствовед, / имеет право молвить: – Он страдает!» («Плохая весна», 1967); у нее же: «Жена литературоведа, / Сама литературовед» («Описание обеда», 1967) и др.
Эту манеру именования – по крайней мере в случае Глеба – можно считать продолжением такого феномена 1960-х годов, обильно отраженного в ранних аксеновских вещах, как культура этикеток, марок, сортов потребительских товаров, придирчивая иерархия их по степени дефицитности и престижа (см. примечание к стр. 8).
…подруги дней его суровых. – Из стихотворения Пушкина «<Няне>» (1826): «Подруга дней моих суровых, / Голубка дряхлая моя…».
Поспал минут шестьсот… – Как почти все фразы Глеба, это выражение клишировано. Оно идет от достаточно давних времен: комментатор в детстве слышал его от старших в размере четырехстопного ямба: «соснуть минуточек шестьсот».
…проснулся, определился по звездам… – подобно находчивому, прагматичному офицеру Жилину, герою рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» (1872), который все умеет, никогда не унывает и (пользуясь выражением Глеба) «умело борется за жизнь»: «Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти…» (глава 5).
Как и в других первых снах, герой в начале сна активно работает в своей естественной сфере. Для Моченкина такой деятельностью являются хлопоты о разного рода незаслуженных льготах и пособиях. Вначале дед Иван близок к исполнению своих заветных желаний: комиссия по рассмотрению заявлений готова разобрать его многочисленные жалобы, ему вручают «единовременный подарок сухим пайком», вводят в роскошные палаты, умащивают подсолнечным маслом.
Но потом, к его ужасу, оказывается, что комиссия состоит из колорадских жуков, которые принимают Ивана Александровича за картофельный клубень и немедленно приступают к его съедению. Спасение Моченкина напоминает о сюжетах с подземными помещениями: «Еле выбрался в щель подпольную, выскочил на волю вольную» (стр. 19). Мотив квазисмерти, общий для всех первых снов, решен через раздвоение героя – старику удается спастись, вместо него гибнет его двойник[22]: «В окно видал своими глазами – жуки терзали огромный клубень» (стр. 19). Как момент сходства с другими снами отметим авторефлексию – наблюдение героем себя самого в той или иной форме со стороны.
Ночь проведена Моченкиным «на Квасной Путяти в темени и тоске» – соответствие ночи Дрожжинина в болотистой местности Куккофуэго и ночи Шустикова в стоге сена. На месте дрожжининских ядовитых гусей и кровожадных халигалийских петухов фигурирует «ложный крокодил», из чьей кожи был некогда сшит моченкинский бюрократический портфель. Преследующие деда Ивана колорадские жуки (его специальность), а затем и его собственный портфель (регрессирующий из окультуренного состояния обратно в сферу дикой природы) напоминают о тех сюжетах, где «дичают», покидают героя, восстают против его власти предметы его ближайшего окружения – личные вещи, инструменты, животные (ср. «Федорино горе» Чуковского (1926)). Такого рода мстительных, враждебных чудовищ в линии Моченкина немало (ср. хотя бы огромного барана во 2-м сне или Характеристику в 3-м).
Хороший Человек предстает как «Хороший Алимент», он же адвокат, который поможет старику взыскать с сыновей деньги на свое содержание.
И вот увидел он богатые палаты с лепным архитектурным излишеством… – Вероятная реминисценция из «Сказки о рыбаке и рыбке» (1833): «Старичок к старухе воротился. / Что ж? Он видит царские палаты». Сказка эта, с ее постоянным фоном близкого моря, тематически важным для ЗБ, не раз возникает в повести (и главным образом в линии Володи). Архитектурные излишества (plurale tantum, здесь в ед.ч.) – ходячее клише из дискуссий и статей середины 1950-х годов, когда помпезная, безвкусная архитектура поздней сталинской эпохи стала мишенью организованной свыше критики. Как примеры архитектурных излишеств приводились новая станция метро «Арбатская», гостиница «Ленинградская», высотное здание на Котельнической набережной, знаменитое кинотеатром «Иллюзион» и богатое памятью о множестве живших там знаменитостей, и другие монументальные здания начала десятилетия (Паперный 1985: 286).
Все три сна старика Моченкина начинаются одинаково: «И вот увидел он…» – и содержат другие инверсии и элементы сказово-былинного стиля.
Нате вам сала шашнадцать кило, нате урюку шашнадцать кило, сахару для самогонки шашнадцать кило. – Повторение числа «16» в моченкинских вычислениях отражает старые корни его мышления (традиционная мера пуд равнялась 16 кг), а также придает его пожеланиям былинный ритм. Связи Моченкина с былинами можно исследовать и дальше, они многочисленны. Пронизанный бюрократическим менталитетом и речевыми штампами сталинизма, старик Моченкин во многом остается продуктом еще дореволюционной эпохи и носителем фольклорной стилистики.
Председатель из себя солидный, очень знакомый, членистоногий – батюшки светы, Колорадский Жук. По левую, по правую руку жучата малые, высокоактивные. – В председателе проступает постоянный антагонист Моченкина – местный администратор Фефелов Андрон Лукич. Уже в первой серии сновидений начинается обмен индивидуальными мотивами между пассажирами ЗБ, их взаимовлияние и слияние – в данном случае моченкинские «жучата» перекликаются с «львятами мал-мала меньше» Ирины Селезневой в ее 3-м сне (стр. 48). В то же время в них несомненен отголосок непокорных сыновей самого Моченкина – «высокоактивных, работящих умельцев» (стр. 10).
В этом сне проходят перед читателем различные преследователи педагога Селезневой, совмещающие вызов по интеллектуальной линии (самое слабое место Ирины Валентиновны) с сексуальным заигрыванием: староста студенческого потока рыжий Сомов, который был некогда приставлен к ней как к плохо успевающей, посреди учебных занятий нашептывает ей легкомысленные стишки; еще какие-то мужчины, в порядке флирта бросающие ей цитаты из популярных в 1950-е – начале 1960-х годов авторов; нынешние ее ученики, «маленькие львы с лукавыми глазами», от которых не укрылась женская слабость их учительницы и чьи дерзкие заигрывания ее смущают; руководитель ее практики, демонический Генрих Анатольевич Рейнвольф, тоже ведущий с ней «вумные» разговоры в духе тех лет; и все это на фоне попурри из модных радиопесенок, романсов, фильмов и танцевальных мелодий эпохи оттепели. Тон всего происходящего во сне типичен для педагога Селезневой – это радостный страх, трепетное ожидание необыкновенных событий, бьющая фонтаном восторженность с легкой примесью тревоги и беспокойства и, конечно, с сильной сексуальной подоплекой.
Все это подводит к ключевому моменту квазисмерти: появляется сказочный волк (чьим предвестником был, очевидно, Рейнвольф) в образе бабушки, подманивающий Красную Шапочку, чтобы ее съесть. Угрожающие намерения волка переплетаются с эротическими волнениями и страхами Селезневой. Согласно Фрейду, дикие животные во сне означают страсти и страстных мужчин, и в данном случае зверь соседствует с мотивом лопаты, которой Ирине под симфонию песенок и танцев приказывают рыть яму для своих «сокровищ». На этот раз закапывание сокровищ имеет не метафорический, а устрашающе-буквализованный характер, но в этой своей зрительной конкретности содержит очевидные эротические символы (лопата, яма, процесс копанья). Подтверждая такое понимание, звучит разухабистая частушка о романе волка и молодой девицы. Напротив, призыв «Прощайтесь, гордо поднимите красивую голову» (стр. 20) наделен уже не по-селезневски возвышенной и патетической интонацией.
Спасение приходит в образе Хорошего Человека – молодого моряка.
Она давно уже подозревала существование не включенной в программу главы Эластик-Мажестик-Семанифик… – Подозрения, опасения, предчувствия – постоянный настрой душевного мира Ирины. Не включенной в программу – деталь, отражающая типичный для Селезневой лейтмотив школы, института, экзаменационных билетов, беспощадных преподавателей. Как часто тревожат нас во сне мотивы необходимости вновь сдавать давно сданные экзамены, невозможности подготовиться, ужаса перед провалом – знает всякий; и героине ЗБ, в чьих снах постоянно сплетаются школьно-институтские и эротические треволнения, это свойственно в особенно сильной степени. Эластик – чулки (см. сборы Ирины в дорогу, стр. 12); мажестик (англ. majestic – «великолепный», фр. majestueux), семанифик (фр. c’est magnifique – «замечательно») – слова искусственные.
Это староста первого потока рыжий Сомов взял ее на буксир как плохоуспевающую. – В метафоре «взял на буксир» слышится мотив воды, а также отдаленное предвестие судьбы Ирины – моряка Глеба.
Помните, у Хемингуэя? Помните, у Дрюона? Помните, у Жуховицкого? – Знаки эпохи оттепели, когда среди советской интеллигенции, быстро наверстывавшей упущенные культурные достижения, ценились утонченность вкуса, умная парадоксальность, начитанность в современной литературе. Одни и те же отечественные и переводные авторы читались всеми, соответствующие цитаты и намеки понимались с полуслова. Одним из кумиров был Э. Хемингуэй, чей «черный» гослитиздатовский двухтомник 1959 года (Хемингуэй Э. Избранные произведения: В 2 т. / Сост., вступ. ст., примеч., ред. пер. И.А. Кашкина. М., 1959) был настольной книгой во всех «лучших домах». Роман «Сильные мира сего» (русский перевод – 1965) и исторические циклы Мориса Дрюона переводились и пользовались популярностью начиная с 1960-х годов. Прозаик и драматург Леонид Аронович Жуховицкий (р. 1932) был одним из самых читаемых, «смелых» и «проблемных» авторов своего поколения. «Помните?» – характерное словечко в разговорах передовых людей тех лет.
…за какой-то коктейль «Мутный таран» я все должна помнить. – Ирина имеет в виду подававшийся в московских «коктейль-холлах» коктейль «Таран», чье название, намекающее на «пробивную силу» напитка, видимо, было скалькировано с американского коктейля «камикадзе». Во время войны советские пилоты не раз «таранили» своими машинами вражеские самолеты. Презрительный эпитет «мутный» добавлен Ириной, сетующей на скупость мужчин: ожидая от девушки знания наизусть современных культурных кумиров, они в качестве стимула предлагают ей лишь посредственный коктейль. Сколь характерен для нее слабый интерес к этим кумирам! Всегда и во всем Ирину занимает и служит ей призмой для всего остального лишь самое элементарное, исконно женское начало – романы и секс.
А сверху, сверху летят, как опахала, польские журналы всех стран. – Советские читатели в 1950–1960-е годы имели весьма ограниченный доступ к иностранной периодике. В газетно-журнальных киосках и на стендах библиотек можно было видеть лишь прессу так называемых социалистических стран, а из капиталистического мира – только коммунистические и левые издания («Юманите», «Либерасьон», «Дейли уоркер» и лучшие из всех – «Унита» и «Паэзе сера»). Среди стран советского лагеря Польша всегда позволяла себе наибольшую степень свободы и западничества. Ее тонкие массовые еженедельники («Przekrуj», «Ekran» и др.), пестрые, изящные, с раскрашенными в ненавязчивые пастельные цвета фотографиями, напечатанные на простой, неглянцевой бумаге, с необрезанным краем, проникнутые веселым космополитизмом и какой-то приподнятой и легкой, специфически польской духовностью (столь далекой, заметим сравнения ради, от ядовитой продукции консьюмеризма и секса, распространяемой в мире массовыми средствами Америки), служили для многих советских людей передатчиком информации о текущей жизни и веяниях на Западе. С их страниц смотрели на нас многие популярные лица, в первую очередь актеров польского кино, чьи фильмы были в СССР широко известны и любимы. Для многих это была маленькая отдушина в широкий мир – волнующая хроника красивой и культурно насыщенной жизни совсем неподалеку от нас, – которую, как боялись, вот-вот обнаружат, закроют, законопатят… Результатом был большой успех польских журналов в СССР, особенно среди интеллигентной молодежи, независимо от степени владения польским языком. Видно, что для Ирины «польские» означает скорее жанр или тип изданий, нежели место их публикации. По ее представлениям, в любой стране должны быть свои «польские», т. е. легкие, занимательные, полные сенсаций из жизни кинозвезд, новинок моды, забавных карикатур «картунов» и невинного секс-апила журналы.
Всех стран не может не вызывать у отечественного читателя и другой ассоциации – с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
«Сверху летят, как опахала…» – вероятная перекличка с теми моментами линии Ирины, где пилот Ваня Кулаченко с воздуха бросает ей «букетики полевых и культурных цветов» и «небесные одуванчики», к которым она не остается равнодушна (стр. 25, 38). На Ирину, живущую в ожидании событий и чудес, сюрпризы сыплются буквально с неба. «Опахала» можно соотнести с последующим образом Ирины как «царицы Восточного Гиндукуша» (стр. 46).
Встали маленькие львы с лукавыми глазами. – Так рисуются Ирине семиклассник Боря Курочкин и другие ее ученики, чье внимание тревожит ее легковозбудимую женственность. Дикие животные во сне репрезентируют «в первую очередь страстных мужчин, а затем дурные инстинкты и страсти вообще» (Freud 1975: 143).
Ой, вспомнила – это лев Пиросманишвили. Если вы сложный человек, вам должны нравиться примитивы. Так говаривал ей руководитель практики Генрих Анатольевич Рейнвольф. – Сентенция руководителя практики – отзвук интеллектуальных веяний 1950–1960-х годов, парадокс в духе той несколько надуманной и по нынешним меркам наивной «умной сложности» (sophistication), к которой многие стремились в ту пору, когда советская культура оттаивала после долгой спячки и с жадностью смотрела на Запад. Молодое поколение училось искусству «современного», с парадоксами разговора, который часто был лишь имитацией и бутафорией подлинной интеллектуальности. Комментатору запомнились кое-какие фразы, типичные для его студенческой юности, например: «Там очень интересно сняты следы на песке» (о новом фильме; слышано от молодого физика) или «Ты ведь знаешь, что артистов балета и пантомимы принято подбирать по голосу» (слышано от красивой и интеллигентной сокурсницы в совхозе осенью 1955 года).
Чуткий к веяниям эпохи, Аксенов дает и другие черточки тогдашней «тоски по мировой культуре» и зачарованности неофитов малейшими крупицами современной «умной сложности». В «Апельсинах из Марокко» группа молодежи обсуждает польский фильм «Мать Иоанна от ангелов» (1961), многими виденный уже по два-три раза: «Там есть один момент… – Помнишь колокола? Беззвучно… – И женский плач… – Масса находок… – Неореализм трещит по швам… Но итальянцы…» и т. д. (глава 2; Аксенов 1964: 149–150). В «Рандеву» супермен Малахитов дает яркий пример деланно-непринужденной «вумной» болтовни того времени, жонглирующей крупными именами и квазиглубокими мыслями, но бессодержательной по существу: «Все возвращается на круги своя, старики, но жизнь – серьезная штука. <…> Вот Ортега-и-Гассет пишет, что возникает новая реальность, отличная и от природной неорганической реальности, и от природной органической реальности, однако мы находим у Энгельса: “Жизнь есть форма существования белковых тел”, и мысль завершена…» (Аксенов 1991: 286) и т. д.
Нико Пиросманишвили (1862–1918) – знаменитый грузинский художник-примитивист, расписывал духаны (рестораны), писал коммерческие вывески, картины из повседневной жизни, изображения животных.
Гули-гулюшки-гулю-я-тебя-люблю-на-карнавале-под-сенью-ночи… – Контаминация популярных песенок эпохи оттепели, из которых многие имели невинный налет заграничности, будучи позаимствованы из фольклора и эстрады дружественных «стран народной демократии»: Чехословакии, Польши, ГДР. Первая из цитируемых здесь песенок начиналась словами «Как у нас в садочке…» (2 раза), и за словами «я тебя люблю» в ней пелось: «Красную розочку, красную розочку я тебе дарю». Вторая песенка (начиная с «На карнавале…») восходит к старому фокстроту «Lady from Manhattan» (1935, сообщено Аксеновым). Комментатор хорошо помнит эти мелодии своей студенческой юности.
…кружились красавцы в полумасках на танцплощадке платформы Гель-Гью. – Гель-Гью – топоним из романтической прозы Александра Грина. На танцплощадке платформы… – ср. сцену из «Анны на шее» Чехова (остановка поезда на полустанке), где об Ирине напоминают как общий характер заглавной героини, так и ее эйфорическое настроение, когда она выходит на платформу и видит гуляющих и танцующих людей.
Бабушка, а зачем тебе такие большие руки? Чтобы обнять тебя. – Цитата из сказки братьев Гримм «Красная Шапочка», где девочка говорит волку, прикидывающемуся бабушкой: «Ах, бабушка, какие у тебя большие уши (глаза, руки и т. п.)»; ответы: «Это чтобы лучше слышать тебя» и т. д.). Когда она доходит до рта, волк отвечает: «Чтобы съесть тебя» – и проглатывает Красную Шапочку. Временное пребывание в брюхе чудовищ – частый момент «инициационных» сюжетов; в линии Ирины он соответствует болотистым низменностям, замкнутым помещениям, подводному царству других первых снов.
На маленькой опушке, / Среди зеленых скал, / Красивую бабешку / Волчишка повстречал. – Текст песенки сочинил сам автор (сообщено Аксеновым).
Бери лопату, копай яму, сбрасывай сокровища! – Лейтмотив Селезневой – во сне и наяву – о «зарываемых сокровищах» (ср. его же при первом появлении Ирины на страницах повести: «Вот уже год, как после института копала она яму для своих сокровищ здесь, в глуши районного центра» (стр. 11) – и во многих других местах) находит вполне сообразное ее характеру толкование у Фрейда, согласно которому «ямы, шахты, пещеры, вазы, бутыли, всевозможные формы ларца и ящика и иные полости, куда что-либо можно поместить» суть символические репрезентации женских половых органов. «Шкатулка с драгоценностями – один из символов женского генитального аппарата; драгоценность, сокровище во сне суть ласки, предназначенные для возлюбленной» (Freud 1975: 141). Коннотации именно волка как сексуального хищника отложились во французском идиоматическом выражении «avoir vu (connu) le loup», которое словарь «Petit Robert» объясняет: «Se dit d’une jeune fille qui n’est plus novice».
Следует сделать важную оговорку в связи с сексуальной символикой по Фрейду, не раз констатируемой в наших комментариях, особенно когда дело касается снов. Толкования эти следует принимать с осторожностью. Даже когда элемент сна или яви в художественном произведении правдоподобно возводится к сексуальной тематике, это не всегда равносильно тому, чтобы «накоротко» приписывать ему соответствующее значение. Такая расшифровка сводила бы поэтический символ к прямолинейному иносказанию. Собственно сексуальное значение в ходе исторического бытования мотива может в различной степени (в какой – следует смотреть отдельно в каждом конкретном случае) выветриваться, оставляя на своем месте лишь силовое поле некой таинственной значительности, глубинности, «исконности», толкающее на множественные интерпретации. Сторонником такого обобщенного понимания функций архетипических элементов был С.М. Эйзенштейн, предостерегавший против слишком определенной их семантизации, особенно против прикрепления к фрейдовскому «полустанку сексуализма» (Иванов 1976: 68). Тенденцию однозначного и ультраконкретного прочтения литературных мотивов (в лице В.В. Розанова и И.Д. Ермакова) резко критикует и А. Белый, говоря, что «надо быть павианом, чтобы видеть в образах Гоголя чертежи всяких физиологических невкусиц» (Белый 1934: 61).
Прощайтесь, гордо поднимите красивую голову. – Видимо, здесь уже налицо перекличка с линией Глеба Шустикова, с которым постоянно связываются прямолинейно позитивные эпитеты: «хороший, чистый голос», «красивое лицо», «красивый лицом и одеждой», «портретно-плакатный профиль». Не исключен также отзвук известной матросской песни «Варяг», где есть сходные мотивы: «Последний парад наступает <…> Врагу не сдается наш гордый “Варяг” <…> Настала минута прощанья…» и т. п. (ср. в романе «Ожог»: «Ну вот, пришла минута прощаться» (Аксенов 1994: 74)).
Состоит из разнообразных приключений и соблазнов предшествующей Володиной жизни: промывание врачами желудка от алкогольного отравления, материальные поощрения с целью удержать Володю на заводе (в которых, видимо, отражается желание отца и других «взрослых» против воли Володи сделать из него человека, т. е. потомственного рабочего), роман с Серафимой, поездка с приятелем на футбол и наконец ответственная миссия отвоза в Коряжск «нервной, капризной» бочкотары. Как видим, все пока складывается для него многообещающе, как и для других героев, видящих свой первый сон.
Машина терпит аварию, и происходящее с пассажирами содержит в сжатой форме типичные моменты квазисмерти: «Тяпнулись, потеряли сознание, очнулись» (стр. 21). Все это происходит и во сне, и наяву: как мы узнаем тремя строками позже, пассажиры и на самом деле вывалились на землю.
Появляется Хороший Человек в образе любимого Володиного поэта – Сергея Есенина.
Дать товарищу Телескопову самый наилучший станок величиной в гору. – Эти распоряжения директора завода, вслед за промыванием Володиного желудка врачами, восходят к тому, что Володя рассказывает о себе Глебу в начале повести (стр. 6): «…И он зовет меня, директор-падло, к себе на завод, а я ему говорю, я пьяный, а он мне говорит, я тебя в наш медпункт отведу, там тебя доведут до нормы[23], а какая у меня квалификация, этого я тебе, Глеб, не скажу…» Станок величиной в гору – видимо, начинающееся выравнивание сновидений героев ЗБ: во 2-м сне старика Моченкина тому строят колоссальное пальто, которое «выси[тся] над полями и рощами, как элеватор» (стр. 35). Имеет моченкинские оттенки и сама фигура директора, который «с печки слез, походил вокруг в мягких валенках» (стр. 20).
Э, нет, – говорю, – ты мне сначала тарифную сетку скалькулируй. – Выгодная тарифная сетка была целью желаний так называемых летунов, постоянно меняющих место работы. В журнальных карикатурах конца 1920-х годов, например, изображался летун в виде бабочки, которую руководители предприятий ловят с помощью тарифной сетки. Володя, в общем, подходит под определение летуна, хотя актуальность самого словечка и относится к более ранней эпохе – к Володе применяется более современный термин «текучая рабочая сила» (стр. 62).
Трактор идет, Симка позади, очень большая, на санном прицепе. – Образ Серафимы в снах Володи призван внушать представление о чем-то вроде древней каменной бабы – о тяжело движущемся, грозящем раздавить женском существе. Ср. немного ниже «Симка навалилась», а также сравнение Серафимы с доменной печью им. Кузбасса во 2-м сне. Они бесспорно относятся к группе гигантских идолов, репрезентирующих фобии героев (Хунта, огромный баран и т. д.). Видимо, следует ассоциировать их и с мотивами «Сказки о рыбаке и рыбке», где ситуация деспотичной женщины и ее робкого, забитого супруга напоминает о взаимоотношениях Серафимы и Володи (см. примечание ко 2-му сну Телескопова).
Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. – Из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» (1837). Свои переживания и неудачи Володя склонен облекать в высокие поэтические формы, обычно слитые с мотивами массовой культуры. Другой пример – ария Каварадосси, которую он поет, будучи посажен за решетку (стр. 64; так кажется Ирине; на самом деле поет он блатную песню).
Бобан <…> бацнул «сухого листа», да промазал. Иван Сергеич тут же его под конвой взял на пятнадцать суток. – Сухой лист – особый сложный удар в футболе, придающий мячу вращение вокруг наклонной оси. Пятнадцать суток ареста, с обязанностью выполнять общественно-полезные работы вроде подметанья улиц, – широко принятая в хрущевско-брежневскую эпоху мера наказания за мелкое хулиганство. Из данного места можно видеть интенсивность футбольных страстей, а также произвол местного начальника, сгоряча дающего пятнадцать суток футболисту за то, что тот «бацнул “сухого листа”, да промазал» и тем подвел свою команду и ее болельщиков. Неуточняемый «Иван Сергеич» – одна из многочисленных «фигур взрослых», несущих карающую и изгоняющую функции, в длинной цепи Володиных приключений (см. примечание к стр. 15, монолог Володи).
В лайковой перчатке узкая рука. – Из стихотворения Есенина (цитату см. в примечании к стр. 14). «Узкая рука» вместо «смуглая рука» – видимо, смешение с блоковским «И в кольцах узкая рука» («Незнакомка», 1906).
Примыкающий к первой серии единственный сон пилота Кулаченко – короткий этюд, в котором, как и в снах Володи, Вадима, Моченкина, гиперболизируются масштабы достижений героя. На своем крошечном распылителе суперфосфатов Ваня совершает нечто вроде космического полета над Землей, принимает приветствия со станций слежения, посылает «привет борющимся народам Океании»[24]. Навстречу пилоту летит Ангел со словами поощрения и с обещанием помощи в ухаживании за Ириной.
Кончается полет аварией и квазисмертью: выйдя на посадку, Кулаченко врезается в землю (описано ранее, на стр. 23). Хороший Человек имеет неясные очертания: «то ли учительница, то ли командир отряда Жуков».
Переклички с мотивами других персонажей: «Разноцветными тучками кружили над землей нежелательные инсекты» (Моченкин); «В перигее над районом Европы поймал за хвост внушительную стрекозу» (возможно, отзвук деятельности Степаниды Ефимовны и ее «Стрекозьего леса»).
Мне сверху видно все, ты так и знай! – Цитируется песня «Пора в путь-дорогу» («Дождливым вечером…») из фильма «Небесный тихоход» (1945) – кинокомедии о жизни и боевых делах женской авиационной эскадрильи во время Великой Отечественной войны. Песню создали композитор В. Соловьев-Седой, впоследствии автор всемирно известных «Подмосковных вечеров», и поэт С. Фогельсон. Песня, которую поют летчики своим остающимся на земле подругам, имеет припев: «Пускай судьба забросит нас далеко – пускай! / Ты в сердце только никого не допускай. / Следить буду строго – / Мне сверху видно все – ты так и знай!».
Бога видите, товарищ Кулаченко? – Бога не вижу <…> Ура! Бога нет! Наши прогнозы подтвердились! – А ангелов видите, товарищ Кулаченко? – Ангелов как раз вижу. – Ср. у Маяковского: «Небо осмотрели и внутри и наружно. / Никаких богов, ни ангелов, не обнаружено» («Летающий пролетарий», 1925).
Чем занимаетесь в обычной жизни, товарищ Кулаченко? <…> Дело хорошее. Это мы поприветствуем. – Ангел поаплодировал мягкими ладошками. – Личные просьбы есть? – Меня, дяденька Ангел, учительница не любит. – Знаем, знаем. Этот вопрос мы провентилируем. Войдем с ним к товарищу Шустикову. – По лексике и тону, а также по употреблению формы «мы» ангел безошибочно опознается как советский вельможа, высокопоставленный бюрократ, дающий аудиенцию простому смертному. «В обычной жизни», «поприветствуем», «провентилируем», «личные просьбы есть?» – все это штампы бюрократического языка, равно как и выражение «войти к такому-то с таким-то вопросом». Два раза повторенной глагольной приставкой по– (поприветствуем, поаплодировал; обозначает ограниченный «квант» действия) передается важность мины чиновника, скупо отмеряющего свои похвалы и аплодисменты. «Дело хорошее» – общесоветский штамп, ср. его же у Глеба Шустикова (стр. 47). Ср. известную песню Н. Богословского на слова Б. Ласкина – «Спят курганы темные…»: «На работу славную, на дела хорошие / Вышел в степь донецкую парень молодой».
Вторая серия снов
Во вторых своих снах герои преисполнены больших надежд и ожиданий. Предметы их желаний и амбиций оказываются почти что у них в руках. Для всех спящих, однако, это кончается неудачей и бесславным изгнанием из мест, где они ожидали удовлетворения.
Вслед за этим, как всегда, каждому является его собственный Хороший Человек. Он приоткрывает перед героями (за исключением Моченкина) новые возможности взамен нереализованных, приглашает их к акциям иного типа – пусть более скромным, но более «идеалистическим» по своему характеру и нацеленным на общее благо.
Ирина Селезнева и Глеб Шустиков в эту ночь снов не видят (так в первой печатной редакции); в авторской версии и в английском переводе (Wilkinson, Yastremski 1985: 56) их любовная встреча отражается в совместном сновидении, изображенном с помощью сложной графической конфигурации.
Это большой день для Володи – день рождения Серафимы, в праздновании которого он намерен принять участие наряду с важными персонами района – «шишками райпотребкооперации». Володя, однако, обеспокоен непрезентабельностью своей внешности – подбитым глазом. Для этого «фонаря» он пытается найти уважительную причину, причем поиск этот буквализован – Володя шарит в карманах, вытаскивая оттуда всякую рухлядь, в которой отражается беспорядочность его бродячей жизни. Наконец он находит за подкладкой «маленькую завалящую ложь»: «А это у меня еще с Даугавпилса. Об бухту троса зацепился и на ящик глазом упал» (стр. 32).
Володиному объяснению не верят, и он не допущен на праздник Серафимы, которая, к вящему его унижению, имеет монументальные размеры: «стоит в красном платье, смеется, как доменная печь имени Кузбасса» (ср. аналогичные размеры станка и той же Серафимы в 1-м сне Володи, пальто во 2-м сне старика Моченкина). Телескопов пытается храбриться и даже угрожать, но его уносят идущие мимо дружинники (члены «народной дружины», как назывались тогдашние общественные группы по охране порядка). При этом, как и герои первых снов, Володя раздваивается: одну его ипостась дружинники доставляют в универмаг ДЛТ, другую – бросают под капусту в огород.
Появляется Хороший Человек в образе Вадима Дрожжинина. Тот Володя, которого бросили под капусту, открывает ему свое тайное беспокойство о судьбе Серафимы и приглашает к действию: «Але, Хороший Человек, пойдем Серафиму спасать, баланс подбивать, ой, честно, боюсь, проворуется!» (стр. 33).
Вытащил <…> красивую птицу – источник знания. – См. выше примечание к стр. 31–32 основного текста.
Вытряслось <…> тарифной сетки метра три… – Тарифная сетка – предмет забот летуна (см. примечания к 1-му сну Телескопова); здесь буквализована, как это часто бывает во сне, и каламбурно сцеплена с мотивом рыбки из сказки Пушкина.
…в ней премиальная рыба – треска-чего-тебе-надобно-старче… – «Чего тебе надобно, старче?» – слова рыбки из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», обращенные к рыбаку, выловившему ее сетью из моря. Ср. возможное эхо той же сказки в начале 1-го сна старика Моченкина. Помимо важности этой сказки как морского фона повести, можно усмотреть параллелизм между нею и ситуацией Телескопова, который – как и старик старухе – подчинен своей подруге Серафиме, боится ее и состоит у нее на посылках. Рыбные консервы – любимое лакомство Володи, ср. «углубленный в банку ряпушки» (стр. 6); «рожа вся в кильках маринованных, лапы в ряпушке томатной» (1-й сон, стр. 21; отметим инверсию, обязательную для товарных номенклатур). Телескопов шутливо превращает цитату из сказки в название рыбы (очевидно, консервированной трески), полученной по месту работы в качестве премии за те или иные трудовые достижения.
…возвратной посуды бутылками на шестьдесят копеек, банками на двадцать (живем!)… – Сдача посуды (стеклотары) в государственные приемные пункты – немаловажный источник дохода при безденежье, например перед зарплатой. Конечно, носить столько всякого добра в кармане полупальто возможно лишь при его бездонности, т. е. во сне. «Живем!» – бодрое восклицание, означающее «все в порядке, ресурсы есть, не пропадем».
…сборник песен «Едем мы, друзья, в дальние края». – Заглавие книги – цитата из массовой песни о комсомольцах, переселяющихся в восточные районы СССР, главным образом в Казахстан, для «освоения целинно-залежных земель». Музыка Вано Мурадели (автора оперы «Великая дружба», прославленной в 1948 году разгромным постановлением ЦК, а впоследствии песни «Партия – наш рулевой») на слова Э. Иодковского (1954):
- Мы пришли чуть свет
- Друг за другом вслед.
- Нам вручил путевки
- Комсомольский комитет.
- Едем мы, друзья,
- В дальние края –
- Станем новоселами
- И ты, и я!
Верхом на белых коровах приехали приглашенные – все шишки райпотребкооперации. – Белые коровы вместо белых коней – типичная для сна контаминация (см. вступительную заметку к снам).
А Симка стоит в красном бархатном платье, смеется, как доменная печь имени Кузбасса. – Фрейд относит печь к числу образов сна, нагруженных сексуальной символикой (символ женщины, ее матки и чрева – см.: Freud 1975: 147).
Ворюги, позорники, сейчас я вас всех понесу! – Позорник, понести – слова с оттенком арго; «понесу» значит «смету с пути, разгромлю, рассею». По поводу «ворюг» можно предположить, что Володя не имеет иллюзий относительно честности работников райпотребкооперации (ср. его страхи в конце этого сна, что и его подруга Серафима проворуется).
Как раз меня и вынесли, а мимо дружина шла. – Доставьте молодчика обратно в универмаг ДЛТ или в огороде под капусту бросьте. – ДЛТ означает «Дом ленинградской торговли». Как пояснил комментатору автор, во сне Телескопова проявляется его озабоченность историей собственного появления на свет: то ли кто-то купил его в универмаге (куда его и возвращают за ненужностью), то ли, в соответствии с известной легендой, он был оставлен аистом на капустной грядке… Первая версия сводит Володю к вещи, напоминая этим мотив Пиноккио-Буратино; вторая версия более «человечна», хотя и она рисует Володю как младенца и легковеса. И в самом деле, при всей своей невесомости и внешней беззаботности Володя испытывает глубокую неуверенность относительно себя и своего места в жизни: как мы узнаем из другого места повести, он задается вопросами типа «откуда мы, кто мы, куда мы идем?» (см. его разговор с Вадимом, стр. 44–45). Моменты авторефлексии, как мы знаем, возникают и в снах других героев, как и мотив раздвоения. Но нигде они не приобретают столь продвинутую форму сомнений в своей личности (identity), какая с самого начала имеется у Володи.
В нем выплывают на поверхность эротические вожделения героя, в обычной жизни им самим не осознаваемые, надежно вытесненные его второй натурой безупречного англизированного интеллектуала: «Он был холост и бесстрастен. Лишь Халигалия, о да – Халигалия» (стр. 9). Сон, безусловно, навеян поразившим Вадима рассказом Володи о его романах с халигалийскими женщинами. Последний навел Вадима на размышления «о коварной Сильвии Честертон <…> вообще о странном прелестном характере халигалийских ветрениц…» (стр. 32). Второй сон позволяет догадываться об истинной подоплеке привязанности Вадима Афанасьевича к Халигалии, которая служит субститутом его далеко отодвинутой сексуальности.
Донжуанские подвиги Вадима в далекой стране достигают фантастических размеров; подобно коту, гуляет Вадим по черепичным крышам города Полис, проникая в спальни местных красавиц, доселе знакомых ему только по переписке. Корчится от досады его халигалийский соперник, атлет Диего Моментальный – еще одна, вдобавок к Сиракузерсу и викарию, фигура антагониста, наметившаяся только сейчас и не получившая в ЗБ большого развития. Кончается все это, однако, пробуждением «в полной тоске» в уже знакомой нам по первому сну болотистой низменности Куккофуэго.
Появляющийся Хороший Человек голосом Володи Телескопова предлагает Вадиму в утешение за его халигалийские любовные разочарования «свидание с подшефной бочкотарой», предметом все возрастающей любви и заботы всех путешественников.
Гаснут дальней Альпухары золотистые края. – Из серенады Дон Жуана в одноименной драме А.К. Толстого (1859–1860). Положена на музыку П.И. Чайковским. Серенада, памятная строками «От Севильи до Гренады / В тихом сумраке ночей…», часто цитируется в литературе: обычно ее вспоминают мужчины во фривольных контекстах, в разговорах о своих галантных победах или в ожидании любовной встречи. Так, в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова мотивами из серенады Дон Жуана сопровождаются романтические поползновения Ипполита Матвеевича Воробьянинова – пожилого бывшего «льва», надеющегося завоевать сердце комсомолки Лизы (часть II, глава XX «От Севильи до Гренады»). Ту же песенку напевает один из омолодившихся пациентов профессора Преображенского в «Собачьем сердце» Булгакова (1925), а также игриво настроенные мужчины в ряде других произведений. Здесь, конечно, мы имеем в точности этот контекст.
Дышала ночь восторгом сладострастья… – Популярный городской романс на слова В. Мазуркевича (1900). Положен на музыку рядом композиторов; входил в репертуар известной цыганской певицы Вари Паниной.
Хороши весной в саду цветочки… – В памяти Вадима всплывают слова популярной в 1940-е годы песни композитора Б. Мокроусова и поэта С. Алымова (1946):
- Хороши весной в саду цветочки,
- Еще лучше девушки весной.
- Встретишь вечерочком
- Милую в садочке –
- Сразу жизнь становится иной.
Стесняющийся своего деревенского происхождения, Дрожжинин явно смущен этим вторжением в его любовные напевы, вслед за «Альпухарой» и «Дышала ночь…», советской массовой песни: «Это еще что, это откуда?»
Стефания Сандрелли, случайно попавшая в ряд халигалийских пассий Вадима, – итальянская киноактриса (р. 1946), советскому зрителю тех лет известная по фильму «Развод по-итальянски» (1961).
Клятвы, мечты, шепот, робкое дыхание… – Вторая половина фразы – из общеизвестных стихов А.А. Фета: «Шепот, робкое дыханье, / Трели соловья, / Серебро и колыханье / Сонного ручья…» (1850).
Как связать свою жизнь с любимыми? Ведь не развратник же, не ветреник. – Остроумно подмеченная интонация (включая опущенное подлежащее «я») хорошо передает стиль мысли совестливого, наивного и пропитанного советскими штампами (в том числе исповедально-психологическими, как здесь) Вадима, которому, конечно, ни в коей мере не грозит опасность стать «развратником и ветреником». Источники этой неотразимо характерной по тону медитации, вероятно, можно найти в массовой лирической и песенной продукции тех лет.
Я тебе, Вадик, устроил свидание с подшефной бочкотарой. – Невзрачной, лишенной секс-апила бочкотаре предстоит вытеснить из сердца Вадима всех халигалийских красавиц, с которыми он только что пускался в столь отчаянные романы, а в конце пути – и самое Халигалию. Посредником, устраивающим свидание, естественно оказывается Володя – главный покровитель и защитник интересов бочкотары в этом путешествии.
Как всегда, Телескопов накоротке с советской административной терминологией. Подшефное учреждение (колхоз, завод, школа, армейская часть) – значит состоящее в постоянной связи с каким-то другим, «шефствующим» учреждением. «Шефы», располагая более широкими возможностями (например, находясь в центре, имея влиятельные связи, обладая специальными знаниями и средствами), оказывали «подшефным» (обычно маломощным, расположенным на периферии, далеким от источников власти) всевозможную помощь, регулярно переписывались и встречались с ними, приезжали в подшефное учреждение с концертами и спектаклями (если шефом был театр или филармония) и т. п. Бочкотара – как раз образец слабого, ограниченного в своих возможностях, нуждающегося в «шефстве» начала.
Эротическим подвигам Вадима Афанасьевича соответствуют по широте масштаба достижения старика Моченкина во 2-м его сне. Вся страна мобилизуется на строительство моченкинского пальто (можно, если угодно, видеть здесь во много раз увеличенную версию башмачкинской шинели). Проект называется «Пальтомоченкинстрой», в духе всенародных предприятий эпохи индустриализации, свидетелем которых был дед Иван в свои молодые годы, – Днепростроя, Метростроя, Магнитостроя и т. п. (было много тройных и более сокращений, как Севморпутьстрой, Беломорканалстрой). Монументальное пальто «высится над полями и рощами, как элеватор», воротником уходя в облака.
На пути старика, идущего на примерку, возникает столь же огромный «неохолощенный баран», первое предостережение Моченкину в его амбициозных планах. Всю свою трудовую жизнь Иван Александрович «охолащивал мелкий парнокопытный скот» (стр. 10), колоссальный представитель которого теперь грозит старику возмездием. (Прошлая жизнь вообще восстает против Моченкина, тревожа его нечистую совесть: так, в 1-м сне кусал его «ложный крокодил» портфеля, в котором он развозит кляузы.) Справедливо боясь барана, Моченкин обходит его «как бы стороной, как бы между прочим» (стр. 35).
На месте стройки деда Ивана ждет разочарование. Вечная «немезида» Моченкина, Андрон Лукич Фефелов, преграждает ему вход. В его пальто ныне организован краеведческий музей, где он видит и самого себя в качестве заспиртованного экспоната (опять раздвоение, как в большинстве снов). Недостроенное сооружение сталинской эры, переоборудуемое в музей или бассейн (как ранее превращение церквей в склады, дворянских собраний – в клубы, гостиниц – в учреждения и т. п.), – исторически характерная черта, понятная каждому, кто пережил геологические сдвиги XX века, распад одряхлевших империй и возникновение «новых прекрасных миров» на месте и из обломков старого мира.
Бесславно покидая место своих несбывшихся планов, Моченкин в отчаянии призывает на помощь «деву Юриспруденцию» (на память приходят пресвятая Дева-Богородица, упоминаемая Моченкиным в 1-м сне, и Дева-Обида из «Слова о полку Игореве»).
Слышатся тяжелые шаги Хорошего Человека, но облик его не виден.
Надо бы жирности накачать под такое пальто <…> ввожу в себе крем-бруле, студень, лапшу утячаю, яичнаю болтанку – ноль-ноль процента результата, привес отсутствует, хоть вой! – В отчете Моченкина о работе над собой смешиваются диалектальные формы (ввожу в себе, утячаю и т. д.) и хозяйственно-бюрократический язык (ноль-ноль процента, привес и т. д.). Жалобы Моченкина звучат как отголосок рассказа Зощенко «Мелкий случай из личной жизни» (1933), где герой в сходной манере рассказывает о своих попытках улучшить свое здоровье и внешний вид: «Я покупаю масло и колбасу. Я покупаю какао и так далее. Все это ем, пью и жру прямо безостановочно…» – и без всякого результата (Зощенко 1994: 138). Между прочим, в рассказе Зощенко фигурирует и пальто, покупаемое в рамках той же программы самообновления (затем оказывающееся краденым и, как и в случаях Моченкина и гоголевского Башмачкина, утрачиваемое). В словах ввожу в себе возможен также отзвук 13-й главы «Золотого теленка» Ильфа и Петрова: «Но больной [Лоханкин, объявивший голодовку] не думал вводить в организм ни компота, ни рыбы, ни котлет, ни прочих разносолов».
Етта баран товарный, мутон натуральный, етта диаграмма качественная с абсциссом и ординатом, а етта старичок маринованный в банке, ни Богу свечка, ни черту кочерга – узнаете? – Случайность набора предметов типична для описаний провинциальных музеев. Ср. у Ильфа и Петрова о музее среднеазиатского городка: «В музее было только восемь экспонатов: зуб мамонта, <…> картина маслом “Стычка с басмачами”, два эмирских халата, золотая рыбка в аквариуме, витрина с засушенной саранчой, фарфоровая статуэтка фабрики Кузнецова и, наконец, макет обелиска…» («Золотой теленок», глава 31). Музеи, где – почти как в ЗБ – главными экспонатами были скелет и несколько диаграмм, были реальностью (см., например: Идзон М. «Дядя Санпросвет идет…» // Огонек. 1930. 10 марта. № 7. С. 13). В рассказе Добычина «Хиромантия» (1931) упомянут «показательный музей “Наука” с отделениями гинекологии, минералогии и Сакко и Ванцетти» (Добычин 1989: 187).
Третья серия снов
Третьи сны исполнены драматизма и борьбы. Путешественники принимают вызовы враждебных сил, вступают в прямую конфронтацию со своими соответственными антагонистами, соперниками, объектами давних страхов и антипатий; оказываются втянуты в состязания, эксцентрические погони, вихри танца… По ходу сна они продолжают обмениваться чертами и частично контаминироваться друг с другом. Наступает момент, когда все кажется потерянным: в воздухе носится угроза, желанные цели ускользают от героев; они видят друзей, слышат их голоса, взывают к ним о помощи, но друзья ничем не могут им помочь и исчезают из картины. В кульминационной точке испытаний некоторым из героев (Вадим, Глеб) эпифанически является бочкотара, к которой они проникаются чувствами преданности и покровительства.
Утомленные борьбой, герои выходят на свободное, открытое во все стороны пространство и переводят дух. Затем, как всегда, они издали видят приближающегося Хорошего Человека с благоприятными атрибутами, соответствующими мечтам каждого из героев на данном этапе их эволюции.
Вероятно, следует рассматривать третью серию снов как последний, отчаянный пароксизм всего старого в путешественниках, всего, что причиняет им беспокойство и страх, мешает радоваться жизни, – как, например, ненужное соперничество, погоня за сомнительными ценностями, мстительность, зависть, разного рода фобии – перед окончательным их очищением от всего этого «наследия прошлого» и умиротворенным слиянием в любви к символической бочкотаре, выражением чего будет их последний, общий сон.
Сон полон напряженности и тревоги. На бедную, не блистающую умом учительницу сыплются невыполнимые требования, ей в лицо летят вызовы один страшнее другого… К Ирине, кружащейся «в вихре танца» на скользком полу, подлетают в ритме вальса один за другим ее многочисленные искусители, педагоги, преследователи, поклонники, отчасти слитые с соответствующими антагонистами других персонажей. Танец наряду с верховой ездой и восхождением входит в число ритмичных движений с сексуальным подтекстом (см.: Freud 1975: 142). Среди партнеров Селезневой – бывший руководитель практики демонический Г.А. Рейнвольф «на сатирических копытцах», с катодом и анодом на плечах, с невероятными задачками из смеси дисциплин (он контаминирован с боцманом из снов Глеба: «Генрих Анатольевич Допекайло», а также с бабушкой-волком из 1-го сна Ирины); чемпион мира Диего Моментальный из снов Дрожжинина, но с букетом… экзаменационных билетов – в общем, «чемпионы мира, мужчины и женщины, преподаватели-экзаменаторы приставучие» (стр. 48; стоит обратить внимание на этот нарочито школьный, девический эпитет).
Несмотря на опьяняющую атмосферу бала, Ирина испытывает страх: ей кажется, что все танцующие собрались, чтобы обличить ее в некомпетентности, и она тщетно призывает на помощь Глеба. Страх ее отзывается бюрократическим стилем старика Моченкина: «Ждали юрисконсульта из облсобеса – он должен был подвести черту». Вот, наконец, и он – «огненно-рыжий старичок» на коньках. Сужая круги, он требует от Ирины подать «заявление об увольнении с сохранением содержания».
Почему рыжий? Возможно, в силу еще одной контаминации: рыжий цвет – это, по традиции, цвет льва (fulvus leo), львами же или львятами не раз именуются в повести ученики Селезневой во главе с постоянно смущающим ее семиклассником Борей Курочкиным. Рыжая шевелюра старичка – единственное, что пока напоминает об этих подростках, хотя мы знаем, что в волнениях и беспокойствах педагога Селезневой они играли отнюдь не последнюю роль. В финале сна эти преследователи Ирины появятся и собственной персоной. В жизни Ирины был и еще один рыжеволосый преследователь – староста студенческого потока Сомов, занимавшийся с нею как с отстающей (см. ее 1-й сон). Заметим также, что «рыжие глаза» имеет чудовищная Химия в 3-м сне Телескопова. Во всех случаях рыжий цвет враждебен герою/героине.
Селезневой удается в последний момент вырваться из танцевального зала на открытое место: «Повсюду был лед, гладкий лед, раскрашенный причудливым орнаментом» (стр. 48).
Идущий «в необозримой дали по королевским мокрым лугам» Хороший Человек – это, очевидно, Глеб Шустиков. Королевские луга можно соотнести с характеристикой Ирины как «царицы Восточного Гиндукуша» в предыдущей сцене их с Глебом любовного свидания. Хороший Человек идет, сморкаясь и кашляя от луговой сырости – вспомним, что Глеб не раз проводил ночи с Ириной на траве, отдавая ей свой бушлат; впрочем, см. также конец 3-го сна Глеба, где его кашель и насморк объясняются иначе. Он ведет на цепочке «мраморных львят мал-мала меньше». Следует помнить, что в предыдущей сцене Глеб поймал четырех школьников вблизи места свидания. По наущению Курочкина они отправились было в велопробег «Знаешь ли ты свой край», в погоню за Романтикой, в подтексте же – за Ириной (стр. 47). Глеб покровительственно разговаривает с ними и в некотором смысле «приручает» молодых львят, пресекая их поползновения дальше преследовать Ирину. Отныне дерзкие школьники не будут более волновать ее своим настойчивым вниманием. Этот успокоительный для Ирины результат и находит эмблематическое отражение в образе львят на цепочке.
Жить спокойно, жить беспечно, в вихре танца мчаться вечно. – Ария Виолетты: «Sempre libera degg’io folleggiare di gioia in gioia…» из оперы Дж. Верди «Травиата» (1853) (русский текст: «Жить свободно…»).
Ой, Глеб, где же ты? – Призывание друзей, типичное для большинства третьих снов (ср. сны Глеба, Володи, Вадима, Степаниды).
В пятнадцатом билетике пятерка и любовь, в шестнадцатом билетике расквасишь носик в кровь, в семнадцатом билетике копченой кильки хвост, а в этом вот билетике вопрос совсем не прост. – Образец школьного фольклора, сочиненный самим автором (сообщено Аксеновым).
Хотя Глеб Шустиков уже и так являет собой совершенный продукт «боевой и политической подготовки», он стремится стать еще совершеннее, при каждом удобном случае оттачивая в себе идеальные качества военного моряка: подтянутость, физическую и моральную собранность, политическую грамотность, владение техникой, постоянную готовность к бою. Мышление и речь Глеба целиком сформированы армейской философией и моралью; на каждую житейскую проблему находится у него сентенция, точным, хотя и не всегда уловимым образом отражающая дух уставов, политпропаганды и военно-патриотической мифологии. Каждая реплика Глеба либо является прямой цитатой из идеологизированного военного дискурса, либо отражает более широкие, общегражданские установки эпохи «зрелого социализма».
Эта доминирующая роль военно-политических мотивов в речи Глеба позволяет каким-то краем сблизить его с теми фигурами сатирической литературы, которые мыслят в армейских терминах и переводят в них всю действительность, – вроде Бригадира, Цыфиркина, Скалозуба, Фаддея Козьмича Пруткова и т. п. Но Шустиков Глеб отнюдь не забавен, как они, а способен скорее вызвать беспокойство, да и степень сложности его образа намного выше, чем у этих карикатурных героев. Советское и армейское мировоззрение, и само по себе отнюдь не простое, располагается у Глеба на более глубоком уровне, оно у него «растворено в крови». Преломления этого комплекса советских установок в речи и манерах Глеба гораздо менее прямолинейны и очевидны, более разветвленны и тонки, порой представляя вызов исследовательским стараниям объяснить и вывести все их из какого-либо единого «нервного центра».
Один из идеалов Глеба, как и его товарищей по команде, – физическое совершенство; его отличительные черты – высокая дисциплинированность и упорство в достижении цели. 3-й сон начинается с курьезно специализированной тренировки мускулов: «Стою возле койки – даю нагрузку мускулюс дельтоидеус. Ребята занимаются кто чем, каждый своим делом – кто трицепсом, кто бицепсом, кто квадрицепсом. Сева Антонов мускулюс глютеус качает – его можно понять» (стр. 48).
Программа этого дня включает «финальное соревнование на перетягивание канатов с подводниками» – первое из двух состязаний этого сна (ср. погони, бега и схватки соперников во всех других снах третьей серии). После состязания, окончившегося вничью, Глебу встречается «неуловимо знакомый подводник», в котором мерцают черты Володи, Вадима и других; в конце концов подводник оказывается Ириной, но с чертами легендарного Муция Сцеволы, предмета бесед Шустикова с Ириной.
Начинается второе состязание – на этот раз Глеб бежит за Сцеволой, поднимая вверх подожженную руку. На пути, в темном туннеле, Глебу встречаются «империалисты»: «На бегу сую им горящую руку в агрессивные хавальники. Воют» (стр. 49). Из небесных сфер доносится голос Ирины, предлагающий Глебу посвятить себя Науке. Тут же обнаруживается и сама Наука, имеющая облик бочкотары: она стонет и жалуется, но какие-то добрые люди уже укутали ее одеялами и брезентом.
Конфронтация с враждебными силами продолжается – перед героями, мечтающими о Науке, появляется Лженаука, похожая на «Хунту из какой-то жаркой страны. В одной руке кнут, в другой – консервы рыбные и бутылка “Горного дубняка”» (стр. 49; атрибуты соответственно империалиста-колонизатора и Володи Телескопова). В ответ тренированный Глеб пускает в ход свои профессиональные умения: «Автоматически включаю штурмовую подготовку. <…> [Лженаука, она же Хунта] Размахивается кнутом. Это мы знаем. Носком ботинка в голень – в надкостницу! Тут же – прямой удар в нос – ослепить!» (стр. 49–50).
Ср. столь же специализированные подвиги никогда не теряющегося, всесторонне оснащенного юного героя повести «Мой дедушка – памятник»: «Вспомнив уроки скалолазанья, которые когда-то в Крыму преподал ему папа Эдуард, Геннадий стал карабкаться вверх»; «[Геннадий и Доллис] уже давно говорили по-английски. Вот где пригодились мальчику его усердные занятия этим языком»; «Изумленная Доллис увидела, как [Геннадий] молниеносным приемом дзю-до сбил с ног огромного парня…»; «…он засунул голову в воду и несколько раз позвал друга [дельфина] ультразвуком» и т. п. (Аксенов 1972: 83, 87, 89, 168).
Лженаука-Хунта терпит поражение, но победитель чудовища утомлен и находится не в лучшей форме[25]. Здесь, как кажется, имеет место определенная перекличка с мотивом из первой серии снов – «квазисмертью», предшествующей спасению. «Хлынул тропический ливень – ядовитый. Кашляю и сморкаюсь. Гаснет моя рука. Бегу по комнате смеха – во всех зеркалах красивый, но мокрый…» (стр. 50; курсив наш. – Ю.Щ.). Ср. болотистую низменность Куккофуэго с ее ядовитыми гусями в тропической Халигалии, где оказывается в 1-м сне Дрожжинин, а также падение в стог самого Глеба после не вполне удачного прыжка с парашютом. Глеб видит себя в зеркалах – момент авторефлексии, также знакомый по первым снам.
Подобно Ирине, Володе и Вадиму в их третьих снах, Глеб в конце концов вырывается из замкнутых помещений на простор: «Пробиваю фанерную стенку и вижу…» (стр. 50).
Встает солнце, приближается Хороший Человек с чертами Ирины.






