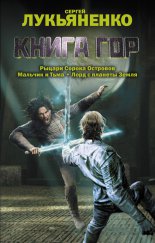Дети Хурина. Нарн и Хин Хурин Толкин Джон

И повели изгои старого гнома в свой жалкий лагерь; по пути бормотал он что-то себе под нос на странном языке, хриплом от застарелой ненависти, но когда связали ему ноги, разом притих. Видели часовые: всю ночь просидел он молча и недвижно, как камень; лишь бессонный взгляд посверкивал во мраке, как озирался гном по сторонам.
Перед самым рассветом дождь перестал и в кронах зашелестел ветер. Утро выдалось ясным — вот уже много дней такого не видели; легкое дуновение с юга отворило небеса, светлые и ясные, навстречу встающему солнцу. А Мим все сидел, не двигаясь, точно мертвый; сейчас тяжелые веки его не размыкались, и в лучах зари отчетливо видно было, как сморщился он и усох от старости. Встал Турин и поглядел на него сверху вниз.
— Теперь света довольно, — промолвил он.
Мим открыл глаза и молча указал на свои путы, когда же развязали его, исступленно проговорил:
— Затвердите вот что, дурни! Не смейте связывать гнома! Гном этого не простит. Я не хочу умирать, но то, что вы сделали, распалило мне сердце. Я сожалею о своем обещании.
— А я — нет, — отозвался Турин. — Ты отведешь меня к своему дому. До тех пор о смерти разговора не будет. Такова моя воля. — И он твердо посмотрел на гнома, глаза в глаза, и Мим сдался; воистину мало кто мог выдержать взгляд Турина, непреклонный либо гневный. Очень скоро гном отворотился и встал.
— Ступай за мной, господин! — промолвил он.
— Хорошо! — кивнул Турин. — Теперь добавлю я к сказанному вот что: гордость твоя мне понятна. Может статься, ты и умрешь, но связывать тебя больше не станут.
— Не станут, — откликнулся Мим. — Но идем же!
И с этими словами он повел изгоев к тому месту, где его захватили в плен, и указал на запад. — Вон мой дом! — промолвил он. — Не раз и не два видели вы его, сдается мне, ибо высоко вознесся он. Шарбхунд называли его мы, пока эльфы не дали всему свои имена. — И увидели изгои, что указывает он на Амон Руд, Лысый холм: его безлесная вершина, словно часовой, несла стражу над обширными дикими пустошами.
— Видеть-то видели, но ближе не подходили, — заметил Андрог. — Ибо что за надежное прибежище можно там обрести, не говоря уж о воде или обо всем прочем, нам потребном? Вот так я и знал, что без плутовства не обойдется. Разве пристало людям прятаться на горных высотах?
— Хороший обзор надежнее потаенного укрытия, — возразил Турин. — Далеко видно с горы Амон Руд. Что ж, Мим, я пойду погляжу, чем ты можешь похвастаться. Долго ли нам, неуклюжим увальням, добираться туда?
— Весь день до сумерек, если пустимся в путь, не мешкая, — отвечал Мим.
Вскорости отряд выступил на запад; Турин шагал впереди бок о бок с Мимом. Выйдя из-под прикрытия леса, дальше двинулись они крадучись, но вокруг царило безмолвие — казалось, все вымерло в тех краях. Изгои миновали каменные завалы и стали карабкаться вверх, ибо холм Амон Руд стоял на восточной окраине высокого верескового нагорья, что поднималось между долин Сириона и Нарога, а над каменистой пустошью у основания нагорья гребень его вознесся на тысячу футов и выше. С восточной стороны неровная местность постепенно повышалась до скальных гряд, среди которых тут и там укрепились в камне купы берез и рябин, и векового боярышника. А дальше, на пустошах и по нижним склонам Амон Руд густо рос аэглос; но крутая серая вершина оставалась голой, лишь алый серегон плащом одевал камень.
День уже клонился к вечеру, когда изгои приблизились наконец к подножию горы. Подошли они с севера, как вывел их Мим, и луч заходящего солнца озарил гребень Амон Руд, а серегон был весь в цвету.
— Глядите! Кровью обагрена вершина, — воскликнул Андрог.
— Пока еще нет, — возразил Турин.
Солнце садилось; в лощинах угасал свет. Теперь гора нависала прямо над ними, и гадали изгои, зачем нужен проводник, если веху столь приметную и без того не пропустишь. Но Мим повел их дальше, и, взбираясь по последним крутым подъемам, приметили они, что гном следует еле заметной тропкой, отыскивая ее по тайным знакам либо в силу давней привычки. Теперь тропа петляла туда-сюда, и, озираясь по сторонам, видели путники, что справа и слева разверзаются темные ложбины и расщелины, либо склоны резко понижаются, переходя в загроможденные каменными завалами пустоши, где среди зарослей ежевики и терновника таились обрывы и ямы. Без проводника изгои проблуждали бы тут не один день, карабкаясь по неприступным склонам в поисках дороги.
Наконец вышли они к подъему более крутому, зато ровному. Прошли они под сенью вековых рябин и углубились в галереи длинных стеблей аэглоса — в полумрак, напоенный сладким благоуханием. И вдруг воздвиглась перед ними каменная стена, гладкая и отвесная, около сорока футов в вышину — хотя на глаз не определишь, ибо небо терялось в сумерках.
— Это и есть двери твоего дома? — спросил Турин. — Говорят, гномы любят камень. — И он шагнул ближе к Миму, опасаясь подвоха.
— Не двери дома, но ворота во внутренний двор, — возразил Мим.
И прошел он вдоль основания утеса направо, а через двадцать шагов внезапно остановился, и увидел Турин расщелину — непогода либо руки мастеров придали ей такую форму, что две каменные грани как бы перекрывали друг друга, а проем между ними уводил налево. Вход занавешивали длинные вьющиеся растения, пустившие корни в трещинах сверху, а внутри начиналась крутая каменистая тропа — и уводила она вверх, в темноту. Было там промозгло и сыро; вниз по тоннелю тонкой струйкой сочилась вода.
Один за другим изгои поднялись по тропе. Дойдя до верха, дорога свернула направо и снова на юг, и через заросли терновника вывела путников на зеленую поляну, пересекла ее и нырнула в тень. Так пришли они в жилище Мима, Бар-эн-Нибин-ноэг, память о котором сохранили разве что древние предания Дориата и Нарготронда, а увидеть его своими глазами не доводилось доселе никому из смертных. Уже сгущалась ночь, на востоке высыпали звезды, и разглядеть, как устроено это странное место, до поры не удавалось.
Гору Амон Руд венчал скальный гребень: каменная громада, похожая на заостренный колпак с голой, плоской верхушкой. На северной его стороне выдавался уступ, ровный, почти квадратный; разглядеть его снизу было невозможно: сзади его стеной прикрывал гребень, а на западе и востоке каменная площадка заканчивались отвесными обрывами. Только с севера, откуда и пришли изгои, можно было с легкостью подняться сюда — если знать дорогу. От «ворот» вела тропинка — очень скоро она ныряла в рощицу карликовых берез на берегу прозрачного озерца в каменной чаше. Питал озеро ручей — пробившись из-под каменной стены, он струился по промытому желобку и белой нитью переливался через восточный край уступа. Под прикрытием деревьев, подле источника, промеж двух высоких каменных опор зиял вход в пещеру. Казалась, это — всего-то навсего неглубокий грот с низким полуразрушенным сводом, но дальше пещера углублялась и расширялась: далеко пролегли туннели, прорубленные в скале неспешными руками Малых гномов за долгие годы, что прожили они здесь — пока не докучали им Серые эльфы лесов.
В густеющих сумерках Мим провел своих спутников мимо озерца, в котором уже отразились неяркие звезды среди теней березовых крон. У входа в пещеру он обернулся и поклонился Турину.
— Добро пожаловать, господин! — промолвил он. — Добро пожаловать в Бар-эн-Данвед, Дом-Выкуп. Ибо так отныне и зваться ему.
— Может статься, что и так, — отозвался Турин. — Но сперва погляжу я на него.
И Турин вошел внутрь вместе с Мимом, а остальные, видя, что вожак не побоялся переступить порога, поспешили следом: даже Андрог, который не доверял гному более прочих. Вскоре оказались они в непроглядной темноте, но Мим хлопнул в ладоши и из-за угла выплыл огонек — из коридора в глубине внешнего грота появился еще один гном с факелом в руках.
— Ха! Вот так я и думал, что промахнулся! — посетовал Андрог. Мим же быстро переговорил со вторым гномом на своем собственном резком и хриплом языке. Вести, похоже, немало его встревожили или рассердили: он опрометью кинулся в коридор и исчез. Теперь и Андрог всецело склонялся к тому, чтобы идти вперед.
— Нападем первыми! — воскликнул он. — Там их, чего доброго, целый улей; зато они ростом не вышли.
— Там их только трое, сдается мне, — отозвался Турин и пошел вперед; изгои пробирались следом — ощупью, водя руками по шероховатым стенам. Не раз и не два коридор резко сворачивал то туда, то сюда; наконец впереди забрезжил тусклый свет, и изгои вышли в небольшую, но величественную залу, слабо освещенную светильниками, на тонких цепочках подвешенными к потолку, что терялся во мраке. Мима там не было, однако слышался его голос; идя на звук, Турин приблизился к дверям во внутренние покои, что открывались в глубине чертога. Он заглянул внутрь: Мим стоял на коленях на полу. Рядом с ним безмолвно застыл гном с факелом, а на каменном ложе у дальней стены лежал еще один гном.
— Кхим, Кхим, Кхим! — стенал старый гном и рвал на себе бороду.
— Не все твои стрелы пролетели мимо, — промолвил Турин Андрогу. — Но может статься, злом обернется твой выстрел. Бездумно спускаешь ты тетиву; боюсь, и не успеешь ты набраться ума-разума, ибо не заживешься на этом свете.
Покинув остальных, Турин неслышно вошел в покой, приблизился к Миму и заговорил с ним:
— В чем беда, хозяин? — спросил он. — Я владею искусством целительства. Не могу ли я помочь тебе?
Мим обернулся; в глазах его пылал алый отсвет.
— Не можешь; разве что в твоей власти повернуть время вспять и поотрубать жестокие руки твоим людям, — отвечал он. — Это сын мой. В грудь ему попала стрела. Он никогда уже не заговорит. Он умер на закате. Вы же связали меня и не пустили к нему, и не смог я исцелить его.
Долго подавляемая жалость вновь захлестнула сердце Турина — словно родник забил из камня.
— Увы! — промолвил он. — Я бы отозвал эту стрелу, кабы мог. Теперь дому сему и впрямь зваться Домом Выкупа, Бар-эн-Данвед. Ибо поселимся мы здесь или нет, я почитаю себя твоим должником; и если когда-нибудь обрету богатство, заплачу я тебе данвед полновесным золотом за смерть сына, в знак моей скорби, пусть золото и не порадует более твоего сердца.
Тогда поднялся Мим и долго глядел на Турина.
— Я выслушал тебя, — сказал он. — Ты говоришь как гномий владыка древних времен: дивлюсь я тому. Теперь поостыло мое сердце, хотя и нет в нем радости. Свой собственный выкуп выплачу я: вы вольны жить здесь, коли хотите. Но вот что прибавлю я: тот, кто выпустил стрелу, пусть сломает лук свой и стрелы и положит обломки к ногам моего сына, и впредь да не возьмет он в руки стрелы и да не согнет лука. Если же нарушит он запрет, то от лука и стрелы и погибнет. Такое проклятие налагаю я на него.
Устрашился Андрог, услышав о проклятии, и сломал лук свой и стрелы, и сложил их к ногам убитого гнома, пусть и с превеликой неохотой. Но, выходя из покоя, злобно оглянулся он на Мима и пробормотал себе под нос:
— Говорят, проклятие гномов не теряет силы; ну так и проклятие человека порою сбывается. Да сдохнет он со стрелой в глотке!
Той ночью расположились они в зале и забылись беспокойным сном под причитания Мима и Ибуна, второго его сына. Никто не понял, когда именно стихли стоны; но когда пробудились наконец изгои, гномы куда-то исчезли и вход во внутренний покой был завален камнем. День опять выдался погожим; под лучами утреннего солнца изгои вымылись в озерце и сготовили скудный завтрак; а пока утоляли они голод, перед ними предстал Мим.
Гном поклонился Турину.
— Он ушел; все сделано как надо, — промолвил он. — Он лежит рядом со своими праотцами. Время вернуться к жизни, как бы ни был короток отпущенный нам срок. По сердцу ли вам дом Мима? Уплачен ли выкуп и принят ли?
— Уплачен и принят, — отвечал Турин.
— Тогда все здесь ваше, обустраивайтесь как хотите, с одной лишь оговоркой: покои, ныне закрытые, никому не должно открывать, кроме меня.
— Мы слышим тебя, — отозвался Турин. — Что до нашей жизни здесь; убежище кажется безопасным, однако ж нужна нам пища и многое иное. Как нам отсюда выйти; более того, как нам сюда вернуться?
К вящей тревоге разбойников, Мим расхохотался гортанным смехом.
— Уж не боитесь ли вы, что последовали за пауком в самое сердце его паутины? — спросил он. — Нет, Мим людей не ест. Да и не совладать пауку с тридцатью осами разом. Видите, вы во всеоружии, а я стою тут с пустыми руками. Нет, нам придется все делить поровну, вам и мне: кров, и снедь, и костер, а может, и иную какую добычу. Дом, сдается мне, вы станете стеречь и держать в секрете ради своего собственного блага, даже когда узнаете входы и выходы. Со временем вы их заучите. А до тех пор, ежели соберетесь выйти, так Мим либо Ибун, сын его, будет вам провожатым; кто-то из нас отправится с вами и с вами же и вернется — либо дождется вас в каком-либо хорошо знакомом вам месте, что сумеете вы отыскать без нашей помощи. С каждым разом все ближе и ближе к дому будет такое место, сдается мне.
Согласился Турин с гномом и поблагодарил его; и порадовались изгои в большинстве своем, ибо в утреннем свете, в разгар лета, жилище это радовало глаз. Недоволен был один лишь Андрог.
— Чем скорее овладеем мы входами да выходами и станем сами себе хозяева, тем оно лучше, — проворчал он. — Не бывало того прежде, чтобы, отправляясь на вылазку, таскали мы за собою пленника, тем паче затаившего обиду.
Весь день изгои отдыхали, начищали оружие и чинили снаряжение; запаса снеди у них оставалось на день или два, а Мим принес им еще. Три вместительных котла для стряпни ссудил он гостям, снабдил их дровами; приволок и мешок.
— Мелочь, безделица, — хмыкнул он. — Не стоит и красть. Дикие коренья, и только-то.
Будучи вымыты, коренья оказались под кожицей белы и мясисты, а в сваренном виде весьма вкусны, вроде хлеба; порадовались им изгои, ибо хлеба давно не видали, вот разве что изредка удавалось ограбить какой-нибудь дом.
— Дикие эльфы таких не знают; Серые эльфы не нашли их, а гордецы из-за Моря слишком надменны, чтобы рыться в земле, — промолвил Мим.
— Как они называются? — спросил Турин. Мим глянул на него исподлобья.
— Нет у них названия, кроме как на языке гномов, а ему мы не учим, — промолвил он. — Не учим мы людей и отыскивать эти коренья. Жадны люди и не бережливы, дай им волю, так все растения изведут под корень, ни одного не оставят; ныне же, блуждая в глуши, проходят они мимо. Более ничего вы от меня не узнаете; но оделю я вас в избытке, пока разговариваете вы учтиво, не подсматриваете за мною и не воруете. — И вновь рассмеялся гном гортанным смехом. — То великое сокровище! Дороже золота эти коренья в голодную зиму, их можно запасать впрок, как белка — орехи; ибо они уже начали созревать, и мы ныне пополняем кладовые. Но глупцы вы, ежели полагаете, что не расстался бы я с невеликой ношей даже ради спасения жизни.
— Я слышу тебя, — проговорил Улрад, который заглянул в мешок, когда захватили Мима. — И все ж не пожелал ты с нею расстаться; тем больше дивлюсь я тому после твоих слов.
Мим обернулся и мрачно воззрился на него.
— Такого дурня, как ты, весной не оплачут, коли и не переживешь ты зимы, — промолвил он. — Я дал слово и непременно вернулся бы, добровольно либо против воли, с мешком или без, и пусть бесчестное ворье думает что хочет! Однако не по душе мне, когда злые люди отбирают у меня добро мое силой, будь то хоть ремешок от башмака. Думаешь, не помню я, что и твои руки в числе прочих связали и скрутили меня, так что не мог я уйти и перемолвиться словом с моим умирающим сыном? Когда стану оделять я вас земляным хлебом из своих запасов, тебя обойду я, а ежели и вкусишь ты его, так милостью своих сотоварищей, но не моей.
И ушел Мим; Улрад же, оробевший пред его гневом, бросил ему вслед:
— Красно говорит! Однако ж старый плут хранил в мешке и кое-что другое, сходного вида, да только потверже и потяжелее. В глуши, верно, и помимо земляного хлеба встречается такое, чего эльфы не нашли и о чем людям знать не положено!
— Может, и так, — отозвался Турин. — Однако ж в одном гном не солгал — назвав тебя дурнем. Так ли тебе надо вслух говорить все, что думаешь? Коли учтивые слова застревают у тебя в горле, так лучше молчи — всем нам оно пойдет на пользу.
День прошел мирно; никто из изгоев наружу не стремился. Турин расхаживал туда-сюда по полоске зеленого дерна, от одного края уступа до другого, глядя на восток, и на запад, и на север, и дивился тому, сколь далеко видно в прозрачном воздухе. На севере он различал зеленый лес Бретиль, поднимающийся вверх по склонам холма Амон Обель, — казалось, до леса того рукой подать. Туда Турин поневоле устремлял взгляд снова и снова, сам не зная почему; ибо сердцем стремился он скорее на северо-запад: там, за бессчетными лигами у самой кромки небес он словно бы различал Тенистые горы и границы родного края. Но вечером, когда закат окрасил небеса, взгляд Турина обратился к западу: багровое солнце склонялось к горизонту, погружаясь в туманную дымку, нависшую над далеким побережьем, а между ним и морем тонула во мраке долина Нарога.
Так поселился Турин, сын Хурина, в чертогах Мима, в Доме-Выкупе, Бар-эн-Данвед.
Долгое время новая жизнь приходилась изгоям куда как по нраву. В пище они недостатка не испытывали; притом обрели и надежное убежище, в тепле и сухости, где места было достаточно и в избытке; в пещерах, как оказалось, при необходимости разместилась бы сотня обитателей и даже более. В глубине обнаружился еще один зал, поменьше. С одной стороны там располагался очаг, а над ним в скале прорубили дымоход: его выходное отверстие искусно упрятали в трещине на склоне холма. Было там множество других комнат, доступ в которые открывался либо из залов, либо из коридора между ними; одни служили жилыми покоями, другие — мастерскими или кладовыми. Делать запасы впрок Мим умел — не чета изгоям; было у него немало сосудов и каменных и деревянных сундуков, по виду весьма древних. Но почти все покои стояли ныне пустыми; топоры и прочее снаряжение ржавели и пылились в оружейнях; полки и ниши были голы, и в кузницах не пылал огонь. Кроме одной, в комнатушке, примыкавшей к внутреннему чертогу; тамошний горн использовал ту же отдушину, что и очаг в общей зале. Там порою работал Мим, никого к себе при этом не подпуская; и ни слова не сказал он о потайной лестнице, что выводила из его дома на плоскую вершину Амон Руд. Лестницу эту случайно обнаружил Андрог: проголодавшись, искал он Мимовы кладовые и заблудился в пещерах; но никому о своей находке не поведал.
До конца года изгои не совершали более крупных вылазок, а если и выходили наружу — поохотиться либо пополнить запасы снеди — то по большей части маленькими отрядами. Нескоро научились они находить дорогу назад; помимо Турина, лишь шестеро и не более овладели этой премудростью. Однако ж, видя, что искусные следопыты способны добраться до убежища и без помощи Мима, изгои стали выставлять стражу и днем, и ночью у расщелины в северной стене. С юга врагов они не ждали: с той стороны на гору Амон Руд никто бы в жизни не вскарабкался; однако в течение дня на гребне почти всегда дежурил часовой, озирая окрестности. Как ни крут был гребень, подняться на вершину труда не составляло: грубые ступени, вырубленные в камне к востоку от входа в пещеру, вели вверх по склону, где человек мог взобраться наверх без посторонней помощи.
Так тянулся год — не зная тревог и бед. Но вот дни сделались короче, потускнела стылая заводь, облетели березы и вновь зарядил проливной дождь, — теперь изгои поневоле больше времени проводили в убежище. Вскорости опостылела им темнота пещер и тусклый полусвет залов, и многие полагали, что жизнь стала бы отраднее, кабы не приходилось ютиться бок о бок с Мимом. Слишком часто появлялся гном нежданно-негаданно из какого-нибудь темного угла или дверного проема, когда все думали, что нет его поблизости; а при Миме беседа не клеилась. Ныне изгои говорили друг с другом не иначе как шепотом.
Однако ж — и весьма дивились тому изгои — с Турином было иначе; он все ближе сходился со старым гномом и все более прислушивался к его советам. С приходом зимы Турин часы напролет беседовал с Мимом, внимая гномьим преданиям и рассказам о его жизни; и не одергивал гнома, ежели тот дурно отзывался об эльдар. Мим, по всему, был тем немало доволен и к Турину весьма благоволил; его одного порою допускал он в свою кузню и там толковали они промеж себя вполголоса.
И вот минула осень, и настала лютая зима, и пришлось изгоям несладко. Еще до Йоля с Севера налетела вьюга: таких метелей не знали доселе в речных долинах; в ту пору, по мере того, как росла власть Ангбанда, зимы в Белерианде делались все суровее. Гора Амон Руд потонула в снегу; теперь лишь самые стойкие осмеливались покидать пещеры. Многие занедужили; всех мучил голод.
Однажды в пасмурных сумерках в день середины зимы объявился внезапно промеж них некто — с виду человек могучего сложения и высокого роста, закутанный в белый плащ, с надвинутым на глаза капюшоном. Часовые его не заметили; и вот подошел он к костру, не говоря ни слова. Все в страхе повскакали с мест, а гость рассмеялся и откинул капюшон, и увидели изгои, что перед ними — Белег Могучий Лук. Под широким своим плащом принес он тяжелый тюк, а в нем — немало всего в помощь людям.
Вот так возвратился Белег к Турину, уступив любви вопреки мудрости. Весьма возрадовался Турин, ибо часто сожалел о своем упрямстве, а теперь сбылось заветное желание его сердца без того, чтобы пришлось ему унижаться или смирять свою волю. Но Андрог, в отличие от Турина, не обрадовался ничуть, равно как и некоторые другие из числа разбойников. Думалось им, что вожак их втайне от отряда загодя сговорился с Белегом; ревниво глядел Андрог, как эти двое, устроившись поодаль, беседовали промеж себя.
Белег принес с собою Шлем Хадора, ибо надеялся, что при виде него Турин обратит свои помыслы к целям более достойным, нежели прозябать в глуши главарем жалкого отряда.
— Возвращаю тебе добро твое, — сказал он Турину, доставая шлем. — На северных границах оставлен он был мне на хранение, однако хотелось бы верить, не позабыт.
— Почти позабыт, — посетовал Турин, — но вновь того не случится.
И замолчал он, устремившись мысленным взором в далекую даль, — как вдруг приметил, как в руках у Белега блеснуло еще что-то. То был дар Мелиан; в свете костра серебряные листья казались алыми. Турин разглядел печать — и глаза его потемнели.
— Что это у тебя? — спросил он.
— Величайший из даров той, что любит тебя и поныне, — ответствовал Белег. — То — лембас-ин-элид, дорожный хлеб эльдар, коего никто из людей доселе не пробовал.
— Шлем моих отцов принимаю я — и благодарю тебя за то, что сохранил мне его в целости, — промолвил Турин. — Но отвергаю я дары из Дориата.
— Тогда отошли назад меч свой и снаряжение, — промолвил Белег. — Верни и то, чему учили тебя в юности, и кров, и стол, и заботу, коей тебя окружали. И пусть твои люди, которые, по твоим же собственным словам, хранят тебе верность, умрут в глуши, в угоду твоей прихоти! Однако ж этот дорожный хлеб подарен не тебе, а мне, и я вправе распорядиться им так, как пожелаю. Не ешь его, если застревает он у тебя в горле; остальные, возможно, изголодались сильнее, и гордыни в них меньше.
Вспыхнули глаза Турина, но поглядел он в лицо Белега, и погас в них огонь, и потускнели они, и произнес он еле слышно:
— Дивлюсь я, друг, что счел ты нужным возвращаться к такому невеже. От тебя приму я все, что угодно, даже укор. Отныне и впредь станешь ты меня наставлять во всем и всегда, вот только речи о возвращении в Дориат не заводи более.
Глава VIII
ЗЕМЛЯ ЛУКА И ШЛЕМА
В последующие дни Белег немало потрудился на благо отряду. Он лечил раненых и недужных — и те быстро исцелялись. Ибо в те дни Серые эльфы все еще оставались высоким народом и обладали великим могуществом, и мудры были во всем, что касается жизни и всего живого; и хотя уступали в мастерстве и мудрости Изгнанникам из Валинора, владели многими искусствами, людям недоступными. Более того, в народе Дориата мало кто мог сравниться с Белегом Лучником; силен и могуч был он, и прозорлив столь же, сколь зорок, а в час нужды являл великую воинскую доблесть, полагаясь не только на быстрые стрелы своего длинного лука, но и на могучий свой меч Англахель. И с каждым часом все росла злоба в сердце Мима, который, как говорилось выше, ненавидел всех эльфов и ревнивым оком глядел на дружбу Турина и Белега.
Когда же миновала зима и наступило пробуждение, и расцвела весна, настала изгоям пора взяться за суровые ратные труды. Пришла в движение мощь Моргота; словно длинные пальцы шарящей во тьме руки, передовые отряды его армий нащупывали пути в Белерианд.
Кому ведомы ныне тайные помыслы Моргота? Кто сумеет постичь сокровенные думы того, кто некогда был Мелькором и обладал великим могуществом среди Айнур Великой Песни, а теперь восседал темным властелином на темном троне Севера, взвешивая на весах злобы вести из внешнего мира, к нему приходящие через лазутчиков и предателей, прозревая мысленным взором и постигая куда глубже дела и намерения своих недругов, нежели опасались мудрейшие из них. Лишь королева Мелиан оставалась для него недосягаема. К ней часто обращалась мысль его — но наталкивалась на непреодолимую преграду.
Посему в тот год злоба его обратилась к землям западнее Сириона, где еще оставались силы противостоять ему. Еще держался сокрытый Гондолин. Про Дориат Моргот знал, хотя войти в него пока не мог. Еще дальше находился Нарготронд, одно имя которого внушало страх; потаенная крепость народа Финродова, куда прислужники Моргота до поры не сыскали путей. А далеко с юга, из-за белых березовых лесов Нимбретиля, от побережья Арверниэна и устьев Сириона доходили слухи о Корабельных Гаванях. Туда Морготу не добраться было, пока не падут все прочие твердыни.
Ныне орки стекались с Севера все в большем числе. Через Аннах явились они и захватили Димбар, и заполонили все северные границы Дориата. Прошли они вниз по древней дороге, что пролегала через протяженную теснину Сириона, мимо острова, где высился некогда Минас Тирит Финрода, через земли между Малдуином и Сирионом, а затем и далее через окраины Бретиля к Переправе Тейглина. Оттуда встарь дорога уводила на Хранимую равнину, а дальше, вдоль подножия нагорий, над которыми нес стражу Амон Руд, сбегала в долину Нарога и выходила наконец к Нарготронду. Но до поры орки не осмеливались заходить так далеко по этой дороге; ибо теперь в глуши поселился потаенный ужас, и с красного холма следили за ними бдительные глаза, о коих не предостерегали захватчиков.
Той весной Турин вновь надел Шлем Хадора, и порадовался Белег. Поначалу в их отряде было менее пятидесяти человек, однако благодаря лесной науке Белега и доблести Турина враги полагали, что имеют дело с целой армией. Отряд охотился за орочьими разведчиками, отыскивал их стоянки, а если выступали орки в путь большими силами, в какой-нибудь узкой теснине из-за скал или из-под деревьев появлялись внезапно Драконий Шлем и его люди, статные и свирепые. Вскорости при одном только звуке Туринова рога в холмах содрогались от страха орочьи вожаки, и враги обращались в бегство еще до того, как просвистит стрела и блеснет меч.
Как уже говорилось, когда Мим уступил свое потаенное убежище на Амон Руд Турину с его отрядом, он потребовал: тот, кто выпустил стрелу, убившую его сына, должен сломать лук и стрелы и сложить их к ногам Кхима; а человеком тем был Андрог. С превеликой неохотой исполнил Андрог повеление Мима. В придачу Мим потребовал, чтобы Андрог никогда более не брался за лук и стрелы, и проклял его, говоря: ежели однажды ослушается он, то сам погибнет от этого оружия.
Весной же того года Андрог презрел проклятие Мима и в очередной вылазке из Бар-эн-Данвед вновь взялся за лук; и в вылазке этой ранен был отравленной орочьей стрелой; и назад принесли его умирающим от боли. Но Белег исцелил его рану. Теперь еще сильнее возненавидел Мим Белега, ибо тем самым эльф снял проклятие; ну да «оно еще ужалит», посулил гном.
В том году по всему Белерианду, через леса и реки, и горные перевалы, разнеслись слухи о том, что Лук и Шлем, поверженные в Димбаре (как казалось) паче чаяния объявились вновь. Тогда многие, как эльфы, так и люди, утратившие своих вождей, обездоленные, но неустрашенные, — те, кто уцелел в битвах и при разгроме, и при разорении земель, вновь воспряли духом и отправились к Двум Вождям, хотя где их крепость, до поры не знал никто. Турин охотно принимал всех вновь пришедших, однако по совету Белега не допускал новобранцев в убежище на Амон Руд (что ныне именовалось Эхад и Седрюн, «Стан Верных»); путь туда знали только воины Старого Отряда, прочим же вход был заказан! Но вокруг выросли новые укрепленные лагеря и форты: в лесах к востоку, и в нагорьях, и на южных заболоченных пустошах, от Метед-эн-глад (Лесного предела) к югу от Переправы Тейглина до Бар-эриб в нескольких лигах южнее горы Амон Руд в некогда плодородной земле между Нарогом и Заводями Сириона. Из всех этих мест хорошо просматривалась вершина Амон Руд; и с помощью сигналов воинам сообщали новости и приказы.
Вот так еще до исхода лета число сподвижников Турина умножилось до великого воинства, и отброшена была мощь Ангбанда. Вести о том дошли даже до Нарготронда, и многие преисполнились нетерпения, говоря, что если какой-то изгой способен чинить Врагу такой урон, так что же под силу Владыке Нарога? Однако Ородрет, король Нарготронда, не желал ничего менять. Во всем следовал он примеру Тингола, с которым обменивался тайными посланцами; был он мудрым правителем — сообразно мудрости тех, кто в первую очередь помышляет о благе собственного своего народа и о том, как долго выстоит он против алчности Севера, сохранив и жизнь, и богатства. Посему никого из своих подданных не отпустил он к Турину и послал к нему гонцов сообщить: что бы ни делал он и ни задумывал в ходе этой войны, запрещается ему переступать границы Нарготронда и загонять туда орков. На иную помощь, кроме как вооруженными воинами, Двое Вождей могут рассчитывать, буде возникнет у них нужда (на это, по слухам, подвигли его Тингол и Мелиан).
До поры Моргот сдерживал свою руку; хотя то и дело предпринимал ложные атаки, дабы благодаря легким победам уверенность мятежников обернулась самонадеянностью. Так оно и вышло. Ибо теперь Турин дал название Дор-Куартол всем землям между Тейглином и западными пределами Дориата; и, объявив себя владыкой того края, взял себе новое имя — Гортол, Грозный Шлем, и вновь воспрял духом. Белегу же казалось ныне, что Шлем произвел в Турине иную перемену, нежели уповал он; и, заглядывая в будущее, встревожился эльф в сердце своем.
Однажды, на исходе лета, они с Турином отдыхали в крепости Эхад после долгого сражения и перехода. И молвил Турин Белегу:
— Отчего печален ты и задумчив? Разве не все идет хорошо с тех пор, как ты ко мне вернулся? Или замысел мой не обернулся во благо?
— Все хорошо ныне, — отвечал Белег. — Враги наши напуганы, ибо их застали врасплох. И впереди у нас хорошие дни — до поры до времени.
— А что потом? — спросил Турин.
— Зима, — отозвался Белег. — А после — следующий год, для тех, кто доживет до него.
— А потом?
— Ярость Ангбанда. Мы обожгли кончики пальцев Черной Руки — не более того. Она не отдернется.
— Не к тому ли стремимся мы — привести Ангбанд в ярость? Разве не в радость это нам? — промолвил Турин. — Чего еще ты от меня хочешь?
— Ты отлично знаешь чего, — отозвался Белег. — Но о той дороге запретил ты мне поминать. Однако выслушай меня ныне. У короля или предводителя огромного воинства нужд немало. Ему необходимо надежное убежище, а также и богатство; а также и множество тех, кто живет трудами рук своих, а не войной. С численностью приходит нужда в пище: ее требуется куда больше, нежели способны промыслить в глуши охотники. А значит, приходится позабыть о скрытности. Амон Руд хорош для немногих — есть там и глаза, и уши. Однако гора стоит особняком, видно ее издалека, и окружить ее возможно с небольшими силами — разве что защищает вершину целая армия, гораздо более многочисленная, нежели наша — как она есть или какой со временем станет.
— Тем не менее хочу я возглавлять собственную армию, — молвил Турин, — а если паду я — значит, паду. Ныне стою я на пути у Моргота, и пока стою — южной дорогой он не воспользуется.
Вести о Драконьем Шлеме, что объявился в земле к западу от Сириона, быстро достигли слуха Моргота, и расхохотался он, ибо вновь выдал себя ему Турин, столь долго скрывавшийся среди теней и под завесой Мелиан. Однако ж устрашился Моргот, как бы Турин не обрел такое могущество, что проклятие, на него наложенное, утратит силу и избежит он участи, ему назначенной, либо, чего доброго, отступит в Дориат и вновь станет недосягаем для его взора. Посему теперь задумал Моргот захватить Турина и истерзать его мукой так же, как и отца, и подвергнуть его пытке, и поработить его.
Прав был Белег, когда говорил Турину, что они лишь опалили пальцы Черной Руки и что она не отдернется. Но Моргот скрывал свои замыслы и до поры довольствовался тем, что слал к горе самых своих опытных разведчиков; и очень скоро Амон Руд окружили соглядатаи — затаились они незамеченными в глуши и ничего не предпринимали против отрядов, что входили и выходили из крепости.
Однако ж Мим знал о том, что земли вокруг Амон Руд наводнены орками; и ненависть, что питал он к Белегу, подтолкнула его в озлоблении сердца к недоброму умыслу. Однажды на исходе года гном сообщил людям в Бар-эн-Данвед, что вместе с сыном Ибуном уходит собирать коренья для зимних запасов; на самом деле затеяли они отыскать прислужников Моргота и отвести их к убежищу Турина.[25]
Тем не менее Мим попытался навязать оркам свои условия, а те лишь посмеялись над ним. И сказал Мим, что плохо они знают Малых гномов, ежели рассчитывают чего-либо добиться от него пытками. Тогда спросили орки, каковы его условия. И объявил Мим свои требования: пусть ему за каждого убитого и пленного заплатят железом по его весу, а за Турина и Белега — золотом; пусть дом Мима, будучи очищен от Туринова отряда, останется хозяину и самого его никто не тронет; пусть Белега связанным передадут Миму на расправу; Турина же отпустят восвояси.
На эти условия посланцы Моргота охотно согласились, отнюдь не собираясь выполнять ни первого, ни второго. Вожак орков подумал про себя, что судьбу Белега вполне можно препоручить Миму; что до Турина, приказ гласил: «доставить живым в Ангбанд». Соглашаясь на требования гнома, орки тем не менее взяли Ибуна в заложники; тут-то испугался Мим и попытался пойти на попятную либо сбежать. Однако сын его остался в плену у орков, так что Миму волей-неволей пришлось проводить орков к Бар-эн-Данвед. Так был предан Дом-Выкуп.
Выше говорилось, что Амон Руд шапкой венчала каменная громада с голой и плоской верхушкой, но как бы ни круты были склоны, на вершину не составляло труда подняться по ступеням, вырубленным в камне, что уводили вверх от уступа или террасы перед входом в дом Мима. На вершине несли стражу часовые: они-то и предупредили о приближении врага. Орки же, ведомые Мимом, вышли на ровный уступ у дверей и оттеснили Турина с Белегом ко входу в Бар-эн-Данвед. Несколько его людей попытались вскарабкаться по ступеням в скале, и были убиты орочьими стрелами.
Турин с Белегом отступили в пещеру и завалили проход тяжелым камнем. В этот бедственный час Андрог сообщил им о потайной лестнице, которая выводила к плоской вершине Амон Руд: тот случайно обнаружил ее, заплутав в пещерах, как говорилось выше. По этой лестнице Турин и Белег и еще многие поднялись на вершину, и напали врасплох на немногочисленных орков, что уже взобрались туда по внешним ступеням, и сбросили их в пропасть. Некоторое время смельчаки обороняли высоту, не давая врагам вскарабкаться наверх, но негде было укрыться на голой вершине, и многих застрелили снизу. Доблестнее прочих сражался Андрог, пока не пал, смертельно раненный стрелой, на верхней ступени наружной лестницы.
Тогда Турин и Белег, и еще десятеро уцелевших, отступили к середине вершины, где высился стоячий камень, и, встав вокруг него кольцом, защищались, пока не погибли все, кроме Белега и Турина; а на этих двоих орки набросили сети. Турина связали и уволокли прочь; связали и раненого Белега, и оставили его лежать на земле, прикрутив за запястья и лодыжки к железным кольям, вбитым в скалу.
И вот орки, отыскав то место, где начиналась потайная лестница, спустились с вершины в Бар-эн-Данвед, и осквернили его, и разграбили. Мима они не нашли: тот схоронился в пещерах; когда же ушли орки с горы Амон Руд, на вершину поднялся Мим и, приблизившись к недвижно распростершемуся на земле Белегу, злорадно воззрился на него и принялся точить нож.
Но Мим с Белегом были на каменистой вершине не одни. Андрог, невзирая на смертельную рану, прополз между трупами к ним и, схватив меч, ткнул им в гнома. Визжа от страха, Мим бросился к краю утеса и исчез; он сбежал вниз по крутой козьей тропе, известной только ему. Андрог же из последних сил перерезал путы на руках и ногах Белега и освободил его; и, умирая, молвил:
— Раны мои слишком глубоки, даже тебе не исцелить их.
Глава IX
СМЕРТЬ БЕЛЕГА
Белег искал Турина среди погибших, дабы предать прах земле, но так и не отыскал. Тогда понял он, что сын Хурина жив и уведен в Ангбанд. Поневоле оставался Белег в Бар-эн-Данвед, пока не исцелились его раны. А тогда отправился он в путь, почти не надеясь дознаться, куда ушли орки, и нашел их следы близ Переправы Тейглина. Там орки разделились: одни двинулись вдоль окраин Бретильского леса к броду Бритиах, а прочие свернули на запад; и ясно стало Белегу, что надо догонять тех, которые спешат прямиком в Ангбанд и направляются к перевалу Анах. Потому прошел он дальше через Димбар и поднялся к перевалу Анах в горах Ужаса, Эред Горгорот, и оттуда — к нагорьям Таур-ну-Фуин, Лесу под покровом Ночи, средоточию страха и темных чар, морока и отчаяния.
В этой недоброй земле Белега застала ночь, и случилось так, что увидел он слабый отблеск среди дерев, и пойдя на свет, обнаружил эльфа, спавшего под раскидистым сухим деревом; в изголовье его стоял светильник, с которого соскользнул покров. Белег разбудил спящего и разделил с ним лембас, и спросил, что за судьба привела его в это гиблое место, и тот назвался Гвиндором, сыном Гуилина.
Скорбя, взирал на него Белег, ибо Гвиндор превратился ныне в согбенную, робкую тень своего былого обличья и былой удали — в Битве Бессчетных Слез этот знатный эльф из Нарготронда пробился к самым вратам Ангбанда и там был взят в плен. Захваченных нолдор Моргот редко предавал смерти — ибо нолдор искусны были в горном промысле: умели добывать руды и драгоценные камни. Потому не убили Гвиндора, но отправили в копи Севера. Эти нолдор владели множеством Феаноровых светильников: то были кристаллы, оплетенные сеткой из тонких цепочек, и сияли те кристаллы, не угасая, внутренним голубым светом, что чудесным образом помогал отыскивать дорогу в ночной темноте или в туннелях; тайна светильников эльфам была неведома. Так многие из эльфов-рудокопов спаслись из мрака рудников, сумев проложить путь наружу. Гвиндор же получил короткий меч от одного из тех эльфов, что работали в кузнях, и, будучи отправлен с другими в каменоломню, внезапно набросился на стражников. Ему удалось спастись, хотя вражеский клинок отсек ему кисть; и теперь лежал он, измученный, под высокими соснами Таур-ну-Фуин.
От Гвиндора Белег узнал, что небольшой отряд орков впереди них, от которого беглец прятался, не ведет с собою никаких пленников и движется быстро; то, верно, авангард спешил с сообщением в Ангбанд. При этом известии отчаялся Белег, ибо предположил, что след, свернувший на запад за Переправой Тейглина, оставило войско более многочисленное, которое, как водится у орков, задержалось разграбить окрестные земли, промышляя еду и добычу, а теперь, чего доброго, возвращается в Ангбанд через «Узкую землю» — протяженную теснину Сириона гораздо дальше к западу. Если так, то единственная его надежда состояла в том, чтобы вернуться к броду Бритиах, а оттуда идти на север к острову Тол Сирион. Но едва Белег принял решение, как послышался шум — это приближалась через лес с юга огромная армия. Схоронившись в ветвях дерева, эльфы смотрели, как проходят мимо прислужники Моргота в сопровождении волков, медленно и неспешно, тяжело нагруженные чужим добром и ведя за собою пленников. Был там и Турин: руки его сковывала цепь, и гнали его вперед плетьми.
Тогда Белег открыл Гвиндору, что привело его в Таур-ну-Фуин; Гвиндор же попытался отговорить смельчака от его затеи, уверяя, что и Белег попадет в руки врагов и разделит с Турином боль и муки. Но тот отказался бросить друга на произвол судьбы и, отчаявшись сам, зажег надежду в сердце Гвиндора: вместе пустились они в путь по следам орков и вышли, наконец, из леса, оказавшись на высоких склонах, что спускались к бесплодным дюнам пустыни Анфауглит. Там, в виду горы Тангородрим, орки встали лагерем в безлесной лощине и расставили поверху волков-часовых. И предались они пьяному разгулу, и набили животы награбленной снедью; и, поиздевавшись над пленниками, большинство забылось пьяным сном. К тому времени день сменился ночью и сгустилась непроглядная тьма. С Запада надвигалась великая буря, вдали рокотал гром; и Белег с Гвиндором незамеченными прокрались к лощине.
Когда в лагере все уснули, Белег взял лук и под покровом тьмы бесшумно перестрелял четверых волков-часовых на южном склоне — одного за другим. Тогда, подвергая себя страшной опасности, эльфы пробрались в лагерь и отыскали Турина: тот был скован по рукам и ногам и привязан к дереву. Повсюду вокруг него в стволе торчали ножи: мучители, развлекаясь, швырялись ими в пленника, однако тот нимало не пострадал: Турин словно впал в забытье во власти дурманного оцепенения либо забылся сном от безмерной усталости. Белег с Гвиндором перерезали путы, привязывающие его к дереву, и вынесли Турина из лагеря. Однако слишком тяжел он был, и с ношей своей добрались эльфы недалеко — только до зарослей терновника высоко по склону над лагерем. Там уложили они спасенного наземь; а гроза между тем вот-вот готова была разразиться, и вспышки молний озаряли Тангородрим. Белег извлек меч свой Англахель и рассек оковы Турина; но над днем тем тяготел рок, ибо клинок Эола Темного эльфа скользнул в сторону и уколол Турина в ступню.
Сей же миг Турин разом очнулся от сна и преисполнился ярости и страха; и увидев, что склоняется над ним во мраке неясная фигура с обнаженным мечом в руке, вскочил он с громким криком, полагая, что это орки вернулись истязать его; и, схватившись с противником во мгле, отнял Англахель и зарубил Белега Куталиона, почитая его за врага.
Так стоял он, оказавшись вдруг на свободе и готовясь дорого продать свою жизнь в схватке с воображаемыми недругами, как вдруг в небесах ярко сверкнула молния, и в мгновенной вспышке Турин различил лицо Белега. И застыл он на месте, неподвижный и безмолвный, точно каменное изваяние, в ужасе глядя на убитого и осознавая, что содеял; столь жутким показался лик его в свете мерцающих вокруг молний, что Гвиндор в страхе припал к земле и не смел поднять глаз.
Тем временем в лагере внизу всполошились орки, потревоженные грозой и криком Турина, и обнаружили, что пленник исчез; но искать его не стали, ибо ужас внушал им гром, донесшийся с Запада, и полагали они, будто насылают на них грозу великие Недруги-из-за-Моря. Поднялся ветер, полил проливной ливень, с высот Таур-ну-Фуин хлынули водяные потоки; и хотя Гвиндор взывал к Турину, предостерегая его о неминуемой опасности, Турин не отвечал: не двигаясь, не рыдая, он сидел подле тела Белега Куталиона, что лежал в темном лесу, сраженный той самой рукою, с которой только что снял оковы рабства.
Настало утро, буря пронеслась над Лотланном на восток; взошло яркое и жаркое осеннее солнце; орки же ненавидели его почти столь же сильно, как гром. Полагая, что Турин уже далеко от этих мест и все следы его бегства смыло дождем, они в спешке покинули лагерь, торопясь вернуться в Ангбанд. Видел Гвиндор издалека, как уходят орки на север по влажным курящимся пескам равнины Анфауглит. Вот так вышло, что возвратились орки к Морготу с пустыми руками, оставляя позади сына Хурина, а он так и не сдвинулся с места; обезумев от горя, не сознавая, где он и что с ним, сидел он на склоне Таур-ну-Фуин, и бремя его было тяжелее орочьих оков.
Тогда Гвиндор заставил Турина помочь ему похоронить Белега, и тот поднялся, двигаясь, словно во сне; вместе опустили они тело убитого в неглубокую могилу, а рядом положили Бельтрондинг, его могучий лук из черного тисового дерева. Но грозный меч Англахель Гвиндор забрал, говоря, что лучше пусть мстит клинок прислужникам Моргота, нежели без дела ржавеет в земле; забрал он и лембас Мелиан, дабы поддержать силы в глуши.
Так погиб Белег Могучий Лук, самый верный из друзей, искуснейший из следопытов, что находили приют в лесах Белерианда в Древние Дни — погиб от руки того, кого любил превыше прочих; и скорбь оставила неизгладимый отпечаток на лице Турина, и вовеки не утихло его горе.
А к эльфу из Нарготронда вернулись отвага и силы; и, покинув Таур-ну-Фуин, он повел Турина далеко прочь. Ни разу не заговорил Турин за все время долгого, нелегкого пути; отрешенно брел он вперед, словно во сне, не зная куда и не желая знать; а год между тем близился к концу и в северном краю настала зима. Но Гвиндор неизменно был рядом с Турином, оберегая и направляя его; так прошли они на запад через Сирион и добрались наконец до Прекрасной Заводи и Эйтель Иврин, родников под горами Тени, где брал начало Нарог. Там Гвиндор обратился к Турину, говоря:
— Очнись, Турин, сын Хурина! Над озером Иврина не умолкает смех. Неиссякаемые ключи питают кристальную заводь; Улмо, Владыка Вод, создавший красоту озера в Древние Дни, хранит его от осквернения.
И Турин опустился на колени, и отпил озерной воды; и внезапно бросился он наземь, и слезы, наконец, хлынули из глаз его, и исцелился он от своего безумия.
Там сложил Турин песнь о Белеге, и назвал ее «Лаэр Ку Белег», «Песнь о Могучем Луке», и запел ее во весь голос, не задумываясь об опасности. Гвиндор же вложил ему в руки меч Англахель, и понял Турин, что меч тяжел и мощен, и заключена в нем великая сила; но потускнело черное лезвие, и края его затупились. И молвил Гвиндор:
— Странный это клинок; не похож ни на один из тех, что видел я в Средиземье. Он скорбит по Белегу, как и ты. Но утешься: я возвращаюсь в Нарготронд, где правит Дом Финарфина, где родился и жил я, до того, как постигла меня беда. Ты пойдешь со мной — там обретешь ты исцеление и возродишься к жизни.
— Кто ты? — вопросил Турин.
— Эльф-скиталец, беглый раб, получивший от Белега помощь и утешение, — отвечал Гвиндор. — Однако некогда, до того, как отправился я на битву Нирнаэт Арноэдиад и стал рабом в Ангбанде, называли меня Гвиндор сын Гуилина, и числился я среди нарготрондской знати.
— Тогда ты, верно, видел Хурина, сына Галдора, воина Дор-ломина? — молвил Турин.
— Видеть не видел, — отвечал Гвиндор. — Но слухами о нем полнится Ангбанд: говорят, будто до сих пор не покорился он Морготу, и Моргот наложил проклятие на него и на весь его род.
— В это мне легко верится, — произнес Турин.
И поднялись они, и, покинув Эйтель Иврин, направились на юг вдоль берегов Нарога; там захватили их эльфы-дозорные и привели как пленников в потаенную крепость.
Так Турин пришел в Нарготронд.
Глава X
ТУРИН В НАРГОТРОНДЕ
Поначалу Гвиндора не признал собственный народ его — уехал он молодым и исполненным сил, теперь же, вернувшись, мог сойти за смертного, изнемогшего под бременем лет: так изменили несчастного пытки и непосильный труд; к тому же стал он калекой. Однако Финдуилас, дочь короля Ородрета, узнала его и приветила, ибо любила его встарь, до Нирнаэт, — были они помолвлены; Гвиндор же, преклоняясь пред красотою Финдуилас, нарек ее Фаэливрин, что значает «солнечный отблеск на заводях Иврина».
Так Гвиндор вернулся домой; и ради него Турина впустили вместе с ним; ибо сказал Гвиндор: то — доблестный воин, близкий друг Белега Куталиона из Дориата. Когда же Гвиндор собирался уже назвать его имя, Турин знаком велел ему умолкнуть и ответил сам:
— Я — Агарваэн, сын Умарта (что значит Запятнанный кровью, сын Злосчастья), лесной охотник.
И хотя догадались эльфы, что принял гость эти имена затем, что убил друга, об иных причинах они не ведали и не расспрашивали его более.
Искусные кузнецы Нарготронда перековали для него заново меч Англахель, и черное лезвие клинка замерцало по краям бледным огнем. Турина же стали называть в Нарготронде Мормегилем, Черным Мечом, ибо разнеслась молва о деяниях, свершенных им с помощью этого клинка; а сам Турин дал мечу имя Гуртанг, Железо Смерти.
Благодаря своему воинскому искусству и доблести в сражениях с орками Турин обрел благоволение в глазах Ородрета и был допущен на совет. Не по душе пришелся Турину нарготрондский способ ведения войны: засады, и уловки, и стрела в спину; и призывал он отказаться от скрытности, и атаковать прислужников Врага большими силами, и открыто выйти на бой, и обратить их в бегство. Но Гвиндор неизменно возражал Турину на королевских советах, говоря, что побывал в Ангбанде и видел малую толику мощи Моргота, и отчасти представляет себе его замыслы.
— Мелкие победы в итоге окажутся никчемны, — убеждал он, — ибо так прознает Моргот, где укрылись храбрейшие враги его, и соберет достаточно сил, чтобы их уничтожить. Всей мощи эльфов и эдайн едва хватило, чтобы сдержать его и взять в осаду, дабы настал мир; да, надолго — но лишь до тех пор, пока Моргот, выждав своего часа, не прорвал кольца; и вновь не создать уже такого союза. Лишь затаившись, выживем мы. Пока не придут Валар.
— Валар! — воскликнул Турин. — Они бросили вас на произвол судьбы, а людей презирают. Что толку глядеть за бескрайнее Море на догорающий на Западе закат? Есть лишь один Вала, с которым приходится нам иметь дело, и Вала этот — Моргот; и ежели в конечном счете не сумеем мы одолеть его, то хотя бы причиним ему вред и помешаем его замыслам. Ибо победа есть победа, даже малая, и ценна победа не только последствиями. Равно как и не безвыгодна. Таись не таись, в конечном счете что в том проку? Лишь сила оружия — заслон от Моргота. Ежели не пытаться обуздать Врага, немного лет минет прежде, чем весь Белерианд подпадет под его тень, и тогда одного за другим выкурит он вас из подземных нор. И что тогда? Жалкая горстка уцелевших бежит на юго-запад и схоронится на побережье, словно в ловушке, между Морготом и Оссэ. Не лучше ли стяжать великую славу, пусть и ненадолго, — ибо конец один. Ты говоришь о необходимости затаиться — что в ней-де единственная надежда; но можешь ли ты заманить в засаду и подстеречь всех до единого соглядатаев и лазутчиков Моргота, чтобы никто не возвратился с вестями в Ангбанд? Однако ж так Моргот прознает, что вы живы, и догадается, где вас искать. И вот что еще я скажу: пусть краткая жизнь отмерена смертным в сравнении с эльфами, они охотнее расстанутся с ней в битве, нежели обратятся в бегство или покорятся. Стойкость Хурина Талиона — великий подвиг; и пусть Моргот убьет героя, но самого деяния ему не отменить. Деяние это почтят даже Владыки Запада, и разве не вписано оно в историю Арды, что не зачеркнуть ни Морготу, ни Манвэ?
— О высоком говоришь ты, — отвечал Гвиндор, — видно, что жил ты среди эльдар. Но тьма в душе твоей, если ставишь ты рядом Моргота и Манвэ и говоришь о Валар как о недругах эльфов и людей; ибо Валар никого не презирают, менее всего — Детей Илуватара. И неведомы тебе надежды эльдар. Живет среди нас пророчество, что однажды посланец из Средиземья пробьется сквозь сумрак и тени в Валинор, и выслушает его Манвэ, и смягчится Мандос. Не должно ли нам до тех времен попытаться сохранить род нолдор и эдайн? Кирдан живет ныне на юге, и строятся там корабли; но что тебе ведомо о кораблях или о Море? Думаешь ты лишь о себе и о собственной славе, и велишь всем нам поступать так же; однако следует нам помыслить и о других, помимо себя, ибо не всем дано сражаться и пасть в бою: их надлежит нам защитить от войны и гибели, пока мы в силах.
— Так отошлите их на корабли, пока есть время, — молвил Турин.
— Они не пожелают расстаться с нами, — отвечал Гвиндор, — даже если бы Кирдан и смог их приютить. Мы будем вместе до последнего, и не след нам добровольно искать смерти.
— На все это я ответил, — промолвил Турин. — Доблестная защита границ и могучие удары, пока враг не собрался с силой, — вот верная надежда на то, что долго пробудете вы вместе. И неужто тем, о ком говоришь ты, по сердцу малодушные трусы, что, схоронившись в лесах, охотятся на отбившуюся от стаи добычу, точно волки — по сердцу больше, нежели тот, кто надевает шлем и берет в руки шит с гербом, и разгоняет врагов, пусть они далеко превосходят числом все его воинство? Женщины эдайн, во всяком случае, не таковы. Они не удерживали своих мужей от Нирнаэт Арноэдиад.
— Но выстрадать им пришлось куда больше, чем если бы битвы этой никогда не было, — отозвался Гвиндор.
Однако Турин обрел немалое благоволение в глазах Ородрета и стал главным советником короля, и тот во всем доверял его суждению. В ту пору эльфы Нарготронда отказались от скрытности; откованы были огромные запасы оружия, и, по совету Турина, нолдор перекинули через Нарог надежный мост — от самых Врат Фелагунда, чтобы ускорить передвижение войск, ибо теперь война шла главным образом к востоку от Нарога на Хранимой равнине. Северной границей Нарготронда ныне стала «Спорная земля» у истоков Гинглита и Нарога и вдоль окраин лесов Нуат. Орки не смели забредать в междуречье Неннинга и Нарога, а к востоку от Нарога нарготрондские владения доходили до Тейглина и до края Болот нибин-ноэг.
Гвиндор впал в немилость, ибо утратил былую воинскую доблесть, и сила его иссякла, и боль в изувеченной левой руке то и дело давала о себе знать. Турин же был юн; лишь теперь вполне возмужал он; и с виду воистину походил на мать свою, Морвен Эледвен: высокий, темноволосый, светлокожий и сероглазый, красотой превосходил он всех смертных мужей Древних Дней. Держался и изъяснялся он так, как в обычае в древнем королевстве Дориат; даже среди эльфов при первой встрече его легко можно было принять за потомка одного из знатнейших нолдорских Домов. Столь отважен был Турин и столь искусно владел оружием, особенно мечом и щитом, что говорили эльфы, будто невозможно убить его — разве только по роковой случайности либо пущенной издалека стрелой. Потому Турину подарили надежную кольчугу гномьей работы; и, будучи в мрачном расположении духа, отыскал он в оружейных позолоченную гномью маску и надевал ее в битву, и враги бежали пред ним.
Теперь, когда добился Турин своего, и все шло удачно, и, занимаясь тем, что ему по сердцу, обретал он славу и почести — держался он со всеми учтиво и обходительно, и сделался менее мрачен, нежели прежде; так что едва ли не все сердца обратились к нему; и многие называли его Аданэдель, Эльф-человек. Но более прочих Финдуилас, дочь Ородрета, чувствовала сердечное волнение, ежели стоял он рядом или просто находился в том же зале. Была она золотоволосой, как весь дом Финарфина; и в радость было Турину любоваться ею и с нею беседовать, ибо напоминала она ему родню и женщин Дор-ломина в отчем его доме.
Поначалу виделся он с Финдуилас только при Гвиндоре; однако спустя какое-то время стала она сама искать его общества, так что порою встречались они и наедине, словно бы волею случая. Тогда Финдуилас принималась расспрашивать Турина про эдайн, видеть которых доселе доводилось ей нечасто, и о стране его, и о родичах.
Турин охотно рассказывал ей обо всем, пусть и не называя напрямую ни земли своей, ни кого-либо из близких, а однажды признался ей:
— Была у меня сестренка, Лалайт — так звал я ее; глядя на тебя, вспоминаю я о ней. Лалайт была дитя — золотистый цветок в зеленой весенней траве; если бы осталась она в живых, так сейчас, верно, поблекла бы от горя. Но в тебе прозреваю я величие королевы — ты схожа с золотым древом; хотелось бы мне иметь сестрицу столь прекрасную.
— В тебе же прозреваю я величие короля, — отозвалась она, — под стать знати народа Финголфина; хотелось бы мне иметь брата столь доблестного. И не думаю я, что Агарваэн — твое настоящее имя; не подходит оно тебе, Аданэдель. Я зову тебя Тхурин,[26] то есть Сокрытый.
При этих словах Турин вздрогнул, но молвил так:
— Не таково мое имя, и я не король; наши короли — из рода эльдар, а я — нет.
И приметил Турин, что дружба Гвиндора к нему охладела; и дивился он также, что, если поначалу горе и ужас ангбандского плена от него отчасти отступили, теперь Гвиндора словно бы все больше одолевали тревога и скорбь. И подумал Турин: он, верно, горюет, что я противлюсь его советам и взял над ним верх; жаль мне, что так. Ибо Турин любил Гвиндора, провожатого своего и исцелителя, и сочувствовал ему всей душой. Но в те дни блеск красоты Финдуилас тоже померк, поступь ее сделалась медлительна, а лик омрачила печаль, она побледнела и исхудала, и Турин, видя это, решил, что слова Гвиндора заронили в ее сердце страх перед будущим.
На самом же деле Финдуилас разрывалась душою надвое. Она чтила Гвиндора и сострадала ему, и не хотелось ей добавлять ни единой слезы к его горестям; однако вопреки воле день ото дня росла любовь ее к Турину, и задумывалась Финдуилас о Берене и Лутиэн. Но Турин не походил на Берена! Он не пренебрегал ею и радовался ее обществу; она же знала, что не любит ее Турин той любовью, что ей желанна. Мыслями и сердцем он был далеко, у рек давно минувших весен.
И вот Турин заговорил с Финдуилас и сказал так:
— Пусть не пугают тебя слова Гвиндора. Он немало выстрадал во мраке Ангбанда, и тяжка воину столь доблестному участь беспомощного калеки. Ему нужно утешение — и время на то, чтобы окончательно исцелиться.
— Знаю, — отвечала Финдуилас.
— И мы выиграем для него это время! — воскликнул Турин. — Нарготронд выстоит! Вовеки не выйдет более Трус Моргот из Ангбанда, и остается ему полагаться лишь на своих прислужников — так говорит Мелиан Дориатская. Прислужники эти — пальцы на его руках; и мы станем рубить и отсекать их, пока Моргот не втянет когти. Нарготронд выстоит!
— Может, и так, — отозвалась Финдуилас. — Выстоит, если ты в том преуспеешь. Но остерегись, Тхурин; тяжело у меня на сердце, когда уходишь ты в битву — страшусь я, что осиротеет Нарготронд.
После Турин отыскал Гвиндора и сказал ему:
— Гвиндор, милый друг, опять одолевает тебя печаль; гони же ее прочь! Ибо исцелишься ты под кровом родни своей и в ясном свете Финдуилас.
Гвиндор посмотрел на Турина долгим взором, но не сказал ни слова, и омрачилось его лицо.
— Что смотришь ты на меня так? — недоумевал Турин. — В последнее время часто ловлю я на себе странный взгляд твой. Чем огорчил я тебя? Я противостою твоим советам, однако должно мужу говорить начистоту то, что думает он, и не скрывать правды — ради кого бы то ни было. Хотелось бы мне, чтобы мыслили мы согласно, ибо я твой должник и не забуду того.
— Не забудешь? — откликнулся Гвиндор. — Однако ж деяния твои и советы до неузнаваемости изменили дом мой и родню мою. Тень твоя пала на них. С какой бы стати мне радоваться, — не я ли всего из-за тебя лишился?
Этих слов Турин не понял и предположил лишь, что Гвиндор завидует его месту в сердце короля и на королевских советах.
Но Гвиндора, когда Турин ушел, одолели в одиночестве мрачные мысли, и проклял он Моргота, что неумолимо преследует врагов своих, умножая их горести, куда бы те ни бежали.
— Теперь наконец и впрямь верю я ангбандским слухам, будто Моргот проклял Хурина и весь род его.
И пошел он к Финдуилас, и сказал ей так:
— Печаль и сомнения одолевают тебя; слишком редко ныне видимся мы, и начинаю я думать, что ты меня избегаешь. А поскольку ты не говоришь мне почему, придется мне самому догадаться. Дочь дома Финарфина, пусть не будет меж нами обиды, ибо, хотя Моргот разбил мою жизнь, по-прежнему люблю я тебя. Иди туда, куда влечет тебя любовь; ныне не гожусь я тебе в мужья; и ни доблесть моя, ни совет не в чести более.
Финдуилас же расплакалась.
— Не плачь — пока нет к тому повода! — промолвил Гвиндор. — Но остерегись: как бы и впрямь не случилось причины для слез! Не должно тому быть, чтобы Старшие Дети Илуватара сочетались браком с Младшими, и неразумно это — ибо краткий отмерен им срок, очень скоро уходят они, нашему же вдовству длиться до тех пор, пока стоит мир. Да и судьба того не допустит: только однажды или дважды случается такое, по воле рока и во имя некоей высшей цели, постичь которую нам не дано.
Этот человек — не Берен, будь он даже столь же прекрасен и храбр. Воистину тяготеет над ним рок; но — злой. Не подпади под его власть! Иначе любовь твоя навлечет на тебя горе и гибель. Выслушай меня! Воистину он — «агарваэн», сын «умарта», ибо настоящее его имя — Турин, сын Хурина — того самого, кого Моргот держит узником в Ангбанде и на чей род наложил проклятие. Не сомневайся в могуществе Моргота Бауглира! Разве я — не зримое тому подтверждение?
Тогда поднялась Финдуилас — воистину величественная, как королева.
— Затмился твой взор, Гвиндор, — промолвила она. — Не видишь ты либо не понимаешь, что между нами происходит. Должна ли я ныне подвергнуться двойному унижению, открыв тебе правду? Ибо я люблю тебя, Гвиндор, и стыдно мне, что не люблю я тебя сильнее, однако владеет мною любовь более великая, с которой не в силах я совладать. Не искала я этой любви — и долго старалась не замечать ее. Но если сострадаю я твоим горестям, пожалей и ты меня. Турин не любит меня и никогда не полюбит.
— Ты говоришь так, чтобы снять вину с того, кого любишь, — возразил Гвиндор. — Отчего же он ищет с тобою встреч, и подолгу сидит с тобою, и уходит, немало обрадованный?
— Потому что и он тоже нуждается в утешении, ибо разлучен с родней своей, — отвечала Финдуилас. — У вас у обоих свои нужды. Но как же Финдуилас? Мало того, что вынуждена я признаться в безответной любви; так ты теперь упрекаешь меня в том, что слова мои — ложь?
— Нет, женщина в таком деле редко обманывается, — отвечал Гвиндор. — И немногие станут отрицать, что любимы, будь это правдой.
— Если из нас троих кто и вероломен, то это я; да только не по своей воле. Но что же собственная твоя судьба, что слухи об Ангбанде? Что смерть и разрушения? В повести Мира Аданэделю отведено место не из последних; и однажды, в далеком будущем, он померяется силой с самим Морготом.
— Он исполнен гордыни, — промолвил Гвиндор.
— Но и милосердие ему не чуждо, — отозвалась Финдуилас. — Сердце его еще не пробудилось, однако неизменно открыто для жалости, и отвергать ее Турин вовеки не станет. Может статься, что жалость — единственный ключ к его сердцу. Меня же он не жалеет. Он благоговеет предо мною, словно я — мать ему и притом королева.
Возможно, Финдуилас и не ошибалась, провидя истину зорким взглядом эльдар. Турин же, не ведая, что произошло между Гвиндором и Финдуилас, был с нею все ласковее и мягче, по мере того, как становилась она все печальнее. Но однажды сказала ему Финдуилас:
— Тхурин Аданэдель, зачем скрыл ты от меня свое имя? Кабы знала я, кто ты, чтила бы я тебя не меньше, но лучше понимала бы твое горе.
— Что ты имеешь в виду? — спросил он. — Кто же я таков, по-твоему?
— Турин, сын Хурина Талиона, вождя людей Севера.