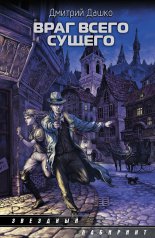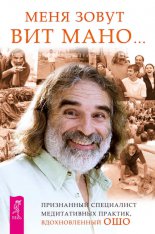Смертельный холод Пенни Луиза

Мирна приложилась спиной к старому банковскому зданию и затряслась от смеха.
– Не знаю, расстраиваться ли мне или чувствовать облегчение оттого, что никто не знал, как я хотела, чтобы умерший поэт Первой мировой войны сделал мне прическу. Почему ты мне не сказала, что это не Зигфрид, а Видал?
После этих слов Клара тоже расхохоталась, уронив на тротуар свои пакеты.
– Выглядишь неплохо, – отсмеявшись, заметила Мирна, отступая назад и оглядывая Клару.
– Я же в шапочке, идиотка, – сказала Клара, и обе женщины снова рассмеялись, а Клара натянула свою вязаную шапочку с помпоном по самые уши.
В такой атмосфере трудно было не веселиться. Время приближалось к четырем часам, на календаре было 22 ноября, и солнце уже зашло. Теперь улицы Монреаля, всегда полные обаяния, были полны также и рождественскими огнями. Вся рю Сент-Катерин сверкала, гирлянды раскачивались под порывами ветра. Машины ползли медленно – наступил час пик. Пешеходы спешили по заснеженным тротуарам, иногда останавливались, чтобы взглянуть на витрину магазина.
Подруги двигались к пункту своего назначения – «Ожильви». К витрине. Клара за полквартала увидела ее сияние и волшебство, отражающееся на лицах детей, глазеющих на это волшебство. Холод отступил, толпы людей, еще мгновение назад толкающихся локтями и протискивающихся вперед, исчезли. Даже Мирна уменьшилась в размерах, когда Клара подошла к витрине. И вот она перед ней, мельница в лесу.
– Встретимся здесь, – прошептала Мирна, но ее подруга уже исчезла.
Исчезла в витрине. Протиснувшись сквозь кольцо стоящих вокруг детей, переступив через груду одежды на заснеженном тротуаре, попала прямо в идиллическую рождественскую сценку. Теперь она шла по деревянному мостику к медведице в деревянной мельнице.
– Подайте монетку. L’argent, s’il vous plat?
В мир Клары проник звук – будто кто-то рыгнул рядом.
– Ой, мамочка! – вскрикнул ребенок, и Клара оторвала глаза от витрины и посмотрела вниз.
Груду одежды вырвало, и от блевотины на заскорузлом одеяле, в которое был завернут бродяга, поднимался парок. Или это была женщина? Этого Клара не знала, и ее это не интересовало. Она разозлилась: вот ведь ждала весь год, всю неделю, весь день – ждала этого момента, а какой-то подонок все изблевал. Дети заплакали, и волшебство прошло.
Клара отошла от витрины и огляделась в поисках Мирны. Но та, вероятно, вошла в магазин и уже стала свидетелем главного события. Сегодня в «Ожильви» их привлекла не только витрина. Их соседка по деревне и подруга Рут Зардо представляла свою последнюю книгу в книжном магазине, расположенном в подвале.
Обычно тоненькие поэтические сборники Рут раздавались забывчивой публике вслед за презентацией в бистро Трех Сосен. Но на сей раз случилось нечто поразительное. Эта старая, высохшая, исполненная горечи поэтесса из Трех Сосен удостоилась награды генерал-губернатора. Все аж рты пооткрывали от изумления. Но не потому, что она не заслужила этой премии. Клара знала, что Рут пишет поразительные стихи.
- Но кто тебя обидел так,
- что ран не залечить,
- что ты теперь любую
- попытку дружбу завязать с тобой
- встречаешь, губы сжав?
- Так было не всегда.
Нет, Рут Зардо заслужила премию. Поразительно то, что об этом было известно коу-то еще.
«Случится ли такое с моим искусством? – спрашивала себя Клара, проходя через вращающиеся двери в ароматизированную и приглушенную атмосферу „Ожильви“. – Может быть, и меня вытащат из безвестности?» Она все-таки набралась смелости и дала свои работы новой жительнице деревни, Си-Си де Пуатье, услышав, как та говорила в бистро о своем близком друге Дени Фортене.
Если тебя выставляли в галерее Фортена в квартале Утремон, то можно было считать, что дело сделано. Он выбирал только лучшее из лучших, самых продвинутых, самых глубоких и бесстрашных художников. И у него были связи по всему миру. Даже… ей и подумать об этом было страшно… даже с Музеем современного искусства в Нью-Йорке.
Клара представляла себя на вернисаже в галерее Фортена. Она будет блестящей и остроумной, центром восторженного почитания, художники меньшего масштаба и крупные критики будут ловить каждое ее мудрое слово. Питер будет стоять чуть в стороне от кружка почитателей и смотреть на нее с едва заметной улыбкой. Он будет ею гордиться и наконец признает в ней коллегу художника.
Кри сидела на заснеженных ступеньках школы мисс Эдвардс. Было уже темно. Внутри и снаружи. Она смотрела перед собой невидящим взглядом, снег скапливался на ее шапочке и плечах. Рядом стояла сумка с костюмом снежинки. Туда же был засунут и табель успеваемости.
Круглая отличница.
Ее учителя только цокали языком и покачивали головой, сожалея, что такой ум пропадает в таком никудышном теле. «КРИчащий позор», – пошутил один из них, и все дружно рассмеялись. Кроме Кри, которая в этот момент как раз проходила мимо.
Все учителя сошлись на том, что им нужно строго поговорить с тем, кто так искалечил девочку: она ни говорить толком не может, ни в глаза тебе посмотреть.
Наконец Кри встала и осторожно двинулась в центр Монреаля. Идти было трудно – она скользила на заснеженных тротуарах и крутых подъемах, к тому же груз шифоновой снежинки был почти невыносим.
Глава четвертая
Идя по «Ожильви», Клара не могла решить, что хуже – вонь несчастного бродяги или удушающий парфюмерный аромат магазина. После того как в пятый или шестой раз некое молодое стройное существо обрызгало ее спреем, Клара точно знала ответ. Она самой себе была противна.
– Где ты шляешься, жопа?! – Рут Зардо похромала к Кларе. – С этими пакетами ты похожа на бездомную. – Они обменялись поцелуем. – И ты воняешь.
– Это не я. Это Мирна, – прошептала Клара, показывая на подружку и помахивая рукой под носом.
Вообще-то говоря, она еще никогда не получала такого теплого приема от Рут Зардо.
– На, купи-ка вот это. – Рут протянула Кларе экземпляр своей новой книги «У меня все ОТЛИЧНО». – Я ее тебе даже подпишу. Но сначала ты должна купить.
Высокая и величественная Рут Зардо захромала обратно, опираясь на трость. Она уселась за маленький стол в углу огромного магазина в ожидании, что кто-то попросит ее оставить автограф на книге.
Клара заплатила за книгу, и Рут подписала ее. Здесь всюду были знакомые лица. Габри Дюбо и его партнер Оливье Брюле. Габри был крупный и дряблый, он явно начал сдавать, но ни от чего не собирался отказываться. Ему было лет тридцать пять, и он решил, что уже хватит быть молодым и мускулистым. Вот только с гейством своим завязывать не собирался. Рядом с ним стоял Оливье, красивый, стройный и элегантный. Светловолосый в отличие от темноволосого партнера. Он был занят тем, что пытался очистить свою шелковую водолазку от волос, явно сожалея о том, что не может вернуть их на прежнее место.
Рут могла и не ехать на презентацию в Монреаль. Здесь присутствовали только жители Трех Сосен.
– Пустая трата времени, – сказала она, склонив голову с коротко подстриженными седыми волосами над книгой Клары. – Ни одного монреальца, черт бы их подрал. Ни единого. Только наша гоп-компания. Скукотища.
– Ну спасибо тебе, старая карга, – проворчал Габри, в больших руках которого утонули две книги.
– Потрясающе. – Рут подняла голову. – Это ведь книжный магазин, – очень медленно и громко произнесла она. – Это для людей, которые умеют читать. Это не общественная баня.
– И в самом деле, ужасно, – сказал Габри, глядя на Клару.
– Это Мирна, – возразила она, но, поскольку Мирна была далеко – болтала с Эмили Лонгпре, доверие к Кларе было подорвано.
– По крайней мере, заглушает аромат поэзии Рут, – заметил Габри, держа «У меня все ОТЛИЧНО» на вытянутой руке.
– Педик, – огрызнулась Рут.
– Ведьма, – отшил ее Габри, подмигнув Кларе. – Salut, ma chre[15].
– Salut, mon amour[16]. А что это у тебя за вторая книга? – спросила Клара.
– Си-Си де Пуатье. Ты знаешь, что наша новая соседка написала книгу?
– Господи Иисусе, это означает, что она написала больше книг, чем прочитала.
– Я ее вон там взял.
Он показал на кипу белых книг в ящике с остатками. Рут фыркнула, но сочла за лучшее промолчать, вероятно поняв, что еще несколько дней – и небольшой тираж ее тоненького сборника с изящными стихами присоединится к дерьмовой писанине Си-Си в этом литературном гробу.
Возле ящика стояло несколько человек, в том числе Три Грации из Трех Сосен: Эмили Лонгпре, невысокая и элегантная, в изящной юбке, блузке и шелковом шарфе; Кей Томпсон, в свои девяносто с хвостиком старшая из трех подружек, высохшая и сморщенная, пахнущая медицинскими мазями от «Проктер энд Гэмбл» и похожая на картофелину; и Беатрис Мейер с буйными рыжими волосами, дешевеньким ожерельем на шее и рыхлым пухлым телом, недостатки которого не скрывал даже объемистый кафтан золотистого цвета. Матушка Беа, как ее называли, держала экземпляр книги Си-Си. Она повернулась и посмотрела в сторону Клары. Всего на одно мгновение. Но этого было достаточно.
Матушкой Беа владело какое-то чувство, которого Клара не могла распознать. Ярость? Страх? Крайняя озабоченность какого-то рода – в этом Клара не сомневалась. А потом это ушло, и на лицо Матушки, розовое, морщинистое и открытое, вернулось прежнее беззаботное веселое выражение.
– Ладно, идем. – Рут с трудом поднялась на ноги и взяла Габри под любезно предложенную руку. – Здесь ничего не происходит. Когда нагрянут неизбежные орды любителей великой поэзии, я галопом примчусь сюда.
– Bonjour[17], дорогая.
Крохотная Эмили Лонгпре поцеловала Клару в обе щеки. Зимой, когда большинство квебекцев, закутанные в шерсть и парки, были похожи на персонажи комиксов, Эм умудрялась выглядеть элегантной и красивой. У нее были со вкусом крашенные светло-каштановые, великолепно уложенные волосы. Одежда и косметика – неброские и уместные. В восемьдесят два она была одной из старейших жительниц Трех Сосен.
– Ты это видела? – Оливье протянул Кларе книгу.
С обложки смотрела Си-Си – взгляд жестокий, холодный.
«Клеймите беспокойство».
Клара посмотрела на Матушку. Теперь она поняла, почему Матушка Беа пребывает в таком состоянии.
– Ты послушай. – Габри начал читать с задника. – «Миз де Пуатье официально объявляет фэншуй делом прошлого».
– Кто бы сомневался, ведь это древнее китайское учение, – сказала Кей.
– «Вместо него, – продолжил чтение Габри, – этот новый мэтр дизайна предлагает более богатую, более осмысленную философию, которая облагородит и окрасит не только наши дома, но и наши души, каждое наше мгновение, каждое решение, каждое дыхание. Выбирайте ли-бьен, путь света».
– Что это такое – ли-бьен? – спросил Оливье.
Клара увидела, как Матушка открыла рот и снова закрыла его.
– Матушка? – спросила она.
– Я? Нет, детка, я не знаю. Почему ты спрашиваешь?
– Я подумала, что у вас центр йоги и медитации – может, вы знаете и ли-бьен, – сказала Клара, стараясь выразиться помягче.
– Мне известны все духовные практики, – ответила Матушка, чуть преувеличивая, как показалось Кларе. – Но эта – нет.
Скртый смысл ее слов был ясен.
– И тем не менее, – сказал Габри, – совпадение довольно странное, не правда ли?
– Что странное? – спросила Матушка с безмятежным лицом и голосом, но вобрав голову в плечи.
– Ну, то, что Си-Си назвала свою книгу «Клеймите беспокойство». Ведь именно так называется и ваш центр медитации.
Ответом ему было молчание.
– Что? – спросил Габри, чувствуя, что вступил на запретную территорию.
– Вероятно, это совпадение, – ровным голосом произнесла Эмили. – И возможно, дань уважения по отношению к тебе, ma belle[18]. – Она повернулась к Матушке и положила ладонь на пухлую руку подружки. – Она вот уже год как живет в старом доме Хадли, и ее наверняка вдохновила работа, которую ты делаешь. Это дань твоему духу.
– И ее куча дерьма, вероятно, выше твоей, – заверила ее Кей. – Это должно быть утешением. Я не думала, что такое возможно, – сказала она, обращаясь к Рут, которая с удовольствием разглядывала свою героиню.
– Хорошая прическа, Клара, – похвалил Оливье, думая, что это снимет напряжение.
– Спасибо. – Клара пробежала руками по волосам, отчего те встали торчком, словно со страху.
– Ты права, – сказал Оливье Мирне. – У нее вид как у испуганного солдата из окопов времен битвы при Вими[19]. Не многие могут воспринять этот вид. Очень смело, очень в духе нового тысячелетия. Я тебя поздравляю.
Клара прищурилась и уставилась на Мирну, которая расплылась в улыбке.
– В жопу папу римского, – произнесла Кей.
Си-Си снова поправила стул. Одетая, она стояла в одиночестве в номере отеля. Сол ушел, не предлагая и не ожидая прощального поцелуя.
Она испытала облегчение, когда он исчез. Теперь наконец она могла сделать то, что задумала.
Си-Си взяла экземпляр «Клеймите беспокойство» и встала у окна. Потом медленно подняла книгу и прижала к груди, словно возвращая туда часть себя, которой ей не хватало всю жизнь.
Она наклонила голову в ожидании. Неужели они и в этом году подведут ее? Нет. Ее нижняя губа чуть задрожала. Глаза заморгали, в горле образовался комок. А потом они появились – побежали, холодные, по щекам в открытый, вместительный и в этот момент безмолвный рот. И она устремилась за ними в эту темную пропасть и оказалась в знакомой комнате на Рождество.
Ее мать стояла рядом с давно высохшей и неукрашенной елочкой, затиснутой в угол строгой темной комнаты, с россыпью опавших иголок на полу. На елке висел единственный шарик, и вот ее мать, истеричная, воющая, сорвала его. Си-Си еще слышала, как остатки иголок, шурша, сыплются на пол, а шарик уже полетел в ее сторону. Она не собиралась его ловить. Выставила руки только для того, чтобы защитить лицо. Но шарик оказался в ее ладонях, прилип к ним, словно обрел там дом. Ее мать теперь была на полу – она выла и перекатывалась, а Си-Си отчаянно хотела остановить ее. Закрыть ей рот, заставить замолчать, иначе соседи снова вызовут полицию и ее мать опять увезут. А Си-Си останется одна в окружении посторонних людей.
Какое-то мгновение Си-Си колебалась и смотрела на шарик в своих руках. Он сиял и был теплым на ощупь. На нем была простая картинка: три высокие сосны рядом, словно семья, на прогнувшихся ветвях лежит снег. А ниже рукой матери было написано: «Noёl»[20].
И Си-Си переместилась в шарик, потерялась в его тишине, покое и свете. Но она, вероятно, слишком долго смотрела на него. Стук в дверь – и три сосны пропали, а она вернулась к ужасу, воющему перед ней.
«Что тут происходит? Впустите нас», – потребовал мужской голос из-за двери.
И Си-Си впустила. Впрочем, больше она никого и нигде не впускала.
Проходя мимо «Рица», Кри остановилась, чтобы взглянуть на этот шикарный отель. Швейцар не обратил на нее внимания, не предложил войти. Она медленно пошла дальше. Ее туфли напитались слякотью, шерстяные варежки висели на руках, налипший снег тянул их к земле.
Кри было все равно. Она тащилась по темным заснеженным переполненным улицам, люди натыкались на нее и с отвращением мерили взглядом, словно жирные дети размазали их сострадание, как глазировку по торту, а потом проглотили.
Она продолжала идти. Ноги у нее стали замерзать. Она вышла из дому без зимних ботинок, а когда ее отец неуверенно предложил ей надеть что-нибудь потеплее, она проигнорировала его.
Как игнорировала его ее мать. Как игнорировал его весь мир.
Она остановилась перед «Monde de la musique»[21]. В витрине висел постер Бритни Спирс: певица танцевала на жарком тропическом пляже, а ее радостные бэк-вокалисты ухмылялись и приплясывали.
Кри стояла перед витриной, пока не перестала чувствовать руки и ноги. Она вообще перестала что-либо чувствовать.
– Что-что? – переспросила Клара.
– В жопу папу римского, – четким голосом повторила Кей.
Матушка Беа сделала вид, что ничего не слышала, а Эмили тихонько подошла поближе к подруге, словно на тот случай, чтобы подхватить Кей, если та упадет.
– Мне девяносто два, и я знаю все, – сказала Кей. – Кроме одного, – внесла она поправку.