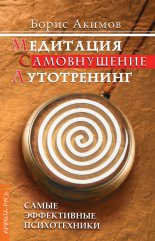Фарватер Берколайко Марк

Задохнулся, закашлялся – и неожиданная пауза дала Землячке возможность немного успокоиться. «Меня не так-то легко вдавить, – решила она. – И незачем паниковать, ведь когда сообщила Кобе, что стивидор погиб и задание не выполнил, – ни полслова упрека не было. А больше ничего сообщать не буду, только нужно Бучнева поскорее ликвидировать – и все!.. Абсолютно необходимо поскорее ликвидировать… И все!.. Все!»
– Мне ваше кликушество, гражданин подполковник, надоело! Через десять минут вас поставят к стенке… Но, может быть, хотите попроситься к нам на службу? В ЧК вы не нужны, но для организации работы военной разведки и контрразведки… Что ж, готова поставить этот вопрос перед Реввоенсоветом республики. Даже лично перед товарищем Троцким.
– Заткнись, дура, – как-то очень беззлобно, почти ласково, попросил Шебутнов. – Зачем ты хочешь казаться еще мерзее, чем есть на самом деле? К чему тебе прикидываться искусным игроком? Ты ведь посредственность, выдвинутая на авансцену мародерка… Где были жалеющие всех тварей божьих глаза Бучнева, когда он в Марселе соглашался с тобою встречаться?
– Моему терпению есть предел!
– Дотерпишь, осталось совсем мало, – и заговорил еще медленнее и весомее. – Бучнева не взяли в первый же день пребывания в Севастополе, он стивидорствовал и без помех получал динамит только потому, что его, как последнюю надежду, хранил я.
– Что?! – во второй уже раз взвизгнула Фурия. Вот теперь она действительно отказывалась верить. – Он – тоже ваш?!
– Нет, он – ничей, непростительно сам по себе… Линкор был напичкан дельцами, политиками, генералами, их барахлом, отродьем, бабами, холуями… – и я решил, что всю эту свору следует уничтожить, чтобы не мешали уже ушедшим, не путались у них под ногами. Я думал… – и по лицу его потекли слезы, исчезая в клочковатой, рыже-седой бороде, – я много пил и думал: а вдруг эвакуация – это исход, наподобие вашего, из Египта… Вас тогда вышло намного меньше, но вы сумели размножиться, сохранить свой воинственный и заносчивый дух, древний язык… так почему бы нам, исшедшим сейчас, не сохранить себя, наше героическое терпение, великую речь? Да, у вас есть Тора, говорил я мысленно всем вам, ненавистным, вы читаете ее ежегодно, каждую неделю – и это вас скрепляет. Но у нас есть «Евгений Онегин», думал я и пил, так нужно читать этот Богом внушенный роман по главе в месяц – вот возможность сохраниться, вернуться, воссоздать! Только название должно стать другим, на которое Пушкин не решился: «Книга Татьяны» – и эта Книга много чище и светлее «Книги Юдифи»!.. «Я другому отдана; я буду век ему верна» – как дивно! – только она ошибалась, жертвенная девочка, не «другому», а своему – пути, служению, кресту!
Пусть это был пьяный бред, но с той поры я не выпил ни капли и теперь знаю твердо – провидческий бред!
Но самое главное, ни одного из нас, все просравших, не должно было быть в этом исходе, мы бы все испортили нашей вечной завистью, интригами, склоками, вонью! Ни одного не должно было быть, – потому что мы предали наш путь, наше служение, наш крест, давно предали, еще в феврале 17-го! А теперь, убегая от смерти, продолжали предавать, навлекая возмездие на всех русских – оставшихся и исшедших.
…Я хранил Бучнева как Божье орудие, но он утопил динамит… А мой револьвер дал осечку.
Ты должна пристрелить его, но не как одного из восьмерых, ни в чем не повинных, а за преступление против последней надежды России… Впрочем, что для тебя Россия?
Тогда собственноручно убей его за доброту, которую он проявил к тебе в Марселе. Ты это сможешь, Фурия; уничтожив здесь, в Крыму, десятки тысяч, теперь ты сможешь…
Вот и все, осталось умереть, как положено офицеру – не у стенки и не от пули взбесившегося мужика.
Слезы еще бежали, но голос стал гипнотическим, и Землячка подчинялась, как завороженная.
– Кроме этого дурацкого маузера, у тебя наверняка припрятано что-то небольшое. Достань… Браунинг, дамский, отлично, хоть в этом ты – баба. Обойму – долой, патрон в стволе оставь… Теперь дай мне.
Труп Шебутнова, ухватив за все те же массивные пятки, выволокли, а она усмехалась, представляя себе смерть того самого киевского жандарма… неприкрыто зевавшего и тоже, наверное, считавшего ее ничтожеством.
Она почти засмеялась, мысленно похвалив подполковника за то, что, нажимая на курок, закрыл глаза… Не закрыл бы, так сейчас, постукивая простреленной головой по брусчатке двора, смотрел бы в небо, на так необходимого ему, проигравшему, Бога с той же ненавистью, с которой посмотрел на нее, победительницу, принимая из ее рук смерть.
Впрочем, тут же и выругала себя за преступную слабость: отдать врагу оружие, из которого могла быть тут же убита сама?!
Но нет, этот враг не способен был выстрелить в женщину. Распинаться перед нею о возмездии – мог, а выстрелить в нее – нет!.. Как же, в сущности, жалки эти старорежимные! Вот и Бучнев, которого приведут с минуты на минуту, станет, конечно же, витийствовать о добре и зле, но она не старорежимна, она всадит пол-обоймы в его дергающееся тело, которое… стоп! Нельзя вспоминать его тело, иначе…
…Он не сел на табурет, остался стоять, разглядывая ее… с жалостью? – о нет, подполковник, с вожделением!.. Ты все наврал, чертов подполковник, – в Марселе глаза этого роскошного животного не были жалеющими!.. Она-то помнит, что была желанна… Да, пусть для всего только одного самца, зато какого!
… – Что ж ты понаделал? – и сама не заметила, что почти в точности повторила фразу своей нелюбимой няни… Часто хотелось бить глупую бабу, щипать ее, кусать, визжа: «Я сделала – сломала, разбила, разбросала, – сделала, а не понаделала!!»…
– Роза, – сказал он…
Назвал не «товарищем Землячкой», не сучкой даже, а по имени. Впервые. И от этого заныло внизу живота сильнее, чем в номере 314 отеля «Sylvabelle»… Да, там он тоже не усаживался, а набрасывался на нее сразу, с порога… Чувствовал, самец, животное, мерзавец, как у нее ноет внизу живота…
– Роза, тебе уже сорок пять, а ты совсем не понимаешь людей! Вы даже и не хотите понимать людей! Тогда, в штабе, предлагала деньги, много денег, чтобы я купил домик в Марселе, жил безбедно, а ты бы иногда приезжала ко мне отдохнуть от строительства нового мира. И за это счастье требовалось всего лишь взорвать корабль, на котором будут женщины, ребятишки, многие с какими-нибудь котятами, щенками, попугайчиками в клетках… Я тебе врал, только для того соглашаясь, чтобы этот ужас не сотворил кто-нибудь другой, какой-нибудь замороченный вами фанатик… А еще ради спасения сына женщины, которую любил и люблю. Но как же можно было поверить, будто я смогу убить?.. Ведь врал-то неумеючи, впервые в жизни… Роза, вы упиваетесь убийствами, вы все безумны!
Что такое?!!
Он не захотел быть с НЕЮ в Марселе, он посмел думать О ДРУГОЙ?!
Это животное осмеливается ЛЮБИТЬ?!
Вскинув маузер, она уперла, как положено, локоть в стол, и стреляла, стреляла, стреляла… не заметив бросок Георгия к окну, не услышав треск вышибленной рамы и звон стекла.
Стреляла, пока вдруг не поняла, что палец ни разу ей не подчинился.
Что стреляют во дворе, на улице, во всем мире, но только не она.
И совсем по-бабьи провыла вбежавшему товарищу Федору:
– Вер-ни-и-те-е е-го-о-о!..
И откуда опять взялись у Фурии эти подвывания нелюбимой няни?
Через тринадцать лет вполне довольная собою и жизнью старушка о событиях майского вечера 1921 года уже не вспоминала. К чему вспоминать? – это помешало бы быть довольной собой и жизнью.
Но почему Властелин не только не уничтожил ее, а и продержал в «обойме» до самого 1947-го? Все прикидывал, рачительный Хозяин, как использовать?.. Скажем, в качестве «другой вдовы» Ильича?
Бросил же как-то раз в сердцах, узнав, что так ничего и не понявшая старая дура Крупская опять пытается спасти кого-то из своих дружков: «Скажите ей, чтобы затихла, не то мы Ленину другую вдову подберем!»
Но Фурия – «вдова» Ильича?! Нет, невозможно, слишком уж гиньольно, а кремлевские игрища тогда все же были ближе к трагедиям. Не к тем, классическим, в которых побежденные выше духом и нравственнее победителей, а к тем особым, где все одинаково мерзки.
…И все же, почему Властелин ее не уничтожил? Неужели «уважил» за неумолимость, с которой выскоблила, как нежеланный плод, из самого своего нутра все человеческое?
А может быть, вспоминая ту ее Готовность и посмеиваясь снисходительно, все же желал иногда видеть воочию сей чистейший образец Трепета; может быть, считал этот Трепет проявлением той Восторженной Любви, той из глубин рвущейся Безотчетной Любви, которой так безжалостно добивался от жены, детей и огромной страны.
Беспросветная ночь накрыла улочки Евпатории; исчез мир, ушло все прежнее – остались только он, бегущий, и четыре стихии.
Земля, которая не притягивала, а отталкивала, разглаживая свои неровности и давая наилучший упор израненным оконным стеклом стопам.
Воздух, который раздвигался перед ним, чтобы не мешать стремительным прыжкам.
Огонь, изрыгавший вслед ему проклятия-выстрелы.
И Вода, под знаком которой был рожден, праматерь всего живого. Море, которое, ожидая, отрешенно поглаживало песчаный берег, а укрыв бегущего от пуль, сказало ему: «Наконец-то! Опять только ты и я».
И принялось помогать попутной волной.
Он плыл, прикидывая: пока на северо-запад, потом, обогнув Тарханкутский полуостров, на юго-восток, вдоль берега Каркинитского залива, потом опять на северо-запад, по заливу Джарылгачскому; вслед за тем забрать еще севернее… ох, как же ты извилист, мой фарватер, зачем ты так извилист? но вот уже рядом Херсон, от него до Одессы, как представлялось когда-то, далеко, но теперь будет близко! а в Одессе – дед, блаженная неделя отдыха, и!.. ты не возьмешь меня, безумная власть, не догонишь, безумный Огонь, мы с морем вас своею правотою… и вы убедитесь, что можно побеждать, не убивая! Что убивая, не победишь.
Он плыл, прикидывая расстояние, – то так, то этак, то в километрах, то в милях, английских и русских… по-всякому выходило кошмарно много.
Но он плыл.
И опять, как на войне, не стало дней и ночей.
Они превратились в промежутки – светлые и темные.
В начале первого из них, самого темного, послышался надсадный кашель винтовочных залпов, и он понял, что война выхаркнула кровь семерых его товарищей.
А вслед за тем, до самого рассвета, видел, как в долгожданном своем инобытии Комлев лакомится крыжовником, а всемогущая материнская рука протягивает ему, одну за другой, полные тарелки.
Видел, как братья Покровские, опьяненные счастьем первооткрывательства, погружаются в совсем другую историю, историю инобытия.
Как торговцы увлеченно торгуют друг с другом звуками нескончаемой песенки Абраши, который теперь поет ее не таясь, во весь свой роскошный голос. И искусно вяжет сеть, теперь уже не для полицмейстера, а просто всем сетям сеть.
Как Бобович радуется, что в инобытии все сообразно и соразмерно, что давно отменен проклятый закон Гука, и реакция в точности равна воздействию, ягодки – цветочкам, награды – заслугам, а возмездие – вине.
Радуется и повторяет: «Простите и прощаем!»
«Да-да! – прокричал ему Георгий. – По-другому нельзя, не получится, только так: простите и прощаем!»
Когда жажда становилась нестерпимой, подплывал к какой-нибудь рыбацкой деревушке и хрипел на пороге первой попавшейся хибары: «Пить!»
Его поили, чуть подкармливали невесть откуда взявшимся медом, и он ненадолго забывался, укрытый чем Бог и бедность хозяев послали; потом натирался рыбьим жиром – и плыл дальше.
От лодок отказывался, чувствовал, что между ним и праматерью не должно быть ничего… плыл!
Хранимый попутными ветрами и Водою, с коей почти сравнялся в текучести, всецело подчиняясь ритмам подталкивающих волн.
Плыл… и в один из светлых промежутков вдруг увидел деда. Спросил: «Ты жив? Дожидаешься?» – «Нет, – ответил тот, – еще зимою помер. Похоронили меня хорошо, рядом со Стешечкой и Региной Дмитриевной. Придешь к нам? Доплывешь?» – «Приду. Доплыву». – «А помнишь?..» – «Помню: чтобы нашему роду не было переводу».
Плыл… и однажды увидел сидящих рядышком девочку с заячьей губой и Толстого. Она спрашивала, отчего теперь, в тумане инобытия, к ней все участливы, а там, где ярко светило солнце, – были злы… – и стало ясно, что и в ином мире Лев Николаевич взвалил на себя сизифов труд поиска ответов.
Плыл… и в темные промежутки звал Риночку. Она тут же откликалась и принималась журчать о чем-то пустячном… о чем-то, что вдруг становилось для него необходимым, как лоция, как указывающий фарватер маяк.
… – Мечтала плыть за тобою в блузке-матроске и чесучовой юбке цвета чуть намокшей парусины – брызги не оставляли бы на ней заметных пятен. Как раз такая у меня была… А волосы распускать бы не стала, чтобы не развевались чересчур картинно… Гораздо уместнее коса, тугая-тугая, завязанная наверху в узел, тоже очень тугой… Тебе бы понравилось… А мы со Стешечкой тобою отсюда восхищаемся. И все восхищаются.
– Но я не для этого…
– Знаю. Отсюда восхищаются только теми, кто не для этого… А там, у вас, никто не должен знать, что ты сотворяешь чудо. Там, у вас, любое чудо – на продажу.
– Никакого чуда, просто доказываю себе, что не случаен. Я доплыву?
– Доплывешь. Ты доплывешь?
– Доплыву. Я доплыву?
– Доплывешь…
Он плыл и знал твердо, что каждому назначен свой фарватер в океане Времени, свой путь в океане боли.
И тот, кто нашел его, – бессмертен.
Круженье под вальс к «Вальпургиевой ночи»
Действующие лица
Хозяин.
Елена, жена Хозяина.
Таня, их дочь.
Гость.
I
Большой кабинет в огромной квартире. За массивным письменным столом, уставленным разноцветными телефонными аппаратами, – Хозяин. На диване, укрытый пледом, Гость. Он стонет, пытается приподняться и открыть глаза, но не получается ни то, ни другое.
Хозяин (не отрываясь от экрана монитора). Хреново?
Гость (сам с собой). Голова взрывается… мутит… а еще этот голос… Ужас!.. Почему я не слышу ангелов?!
Хозяин. На полу таз. Очень широкий. Если сильно мутит, свесь башку, открой рот – и дай выход переполняющим тебя чувствам.
Гость. О Господи!.. Хочу ангелов!.. (Стонет.)
Хозяин. Ангелы не прилетают к тем, кого так сильно тошнит.
Елена (входя). От этих стонов стены сейчас заплачут.
Гость. Лена, это ты?.. А хамский мужик – Петр?.. Попроси… не говорить так громко… Слышать его голос – ужасно!
Звонит один из телефонов, Хозяин поднимает трубку.
Хозяин (приглушенно, вняв просьбе Гостя). Да! Привет! Как дела? (Строго.) Передай ему слово в слово. Первое: понять, что у 75-летнего старика слабое сердце, можно и не будучи профессором. Второе: мы платим ему хорошие деньги, но не за подобные прозрения. Третье: мне не нужны отчеты о трудностях лечения, мне нужны новости о выздоровлении. Все!
Гость. Лена, пусть он говорит громче. Вслушиваться в его голос еще противнее… чем просто слышать…
Хозяин. Ну, милый, тебе не угодишь! Или это ты острить пытаешься?
Елена. Пытается, пытается… Значит, воскрес. (Подходя к дивану.) С воскрешением тебя! (Целует Гостя.) Колючий какой!
Хозяин. Он надеялся, что его побреют перед положением в гроб.
Елена. Что ты несешь?! Бога побойся!
Гость (стеная, но уже с явными руладами). А кто… меня сюда… приволок?
Елена. Аист. Большой, государственных масштабов аист по имени Петр. Открывай, открывай глаза! Увидишь, как он нахохлился и анализирует: рада я тебя видеть, или очень рада, или, не дай бог, даже счастлива. Он обожает анализировать, особенно каждый мой шаг… А сделаю-ка я тебе настоящий балетный массаж. Разомну руки-ноги, провентилирую легкие. Переворачивайся на живот!
Гость. Не могу… тошнит… Только не советуй… как твой муж… свесить голову над тазом.
Хозяин (не отрываясь от ноутбука). В нашей стране такие простые и мудрые советы даю только я. В те редкие минуты, когда не анализирую очередной Ленкин шаг.
Гость (несколько взбодрившись). Эй, а почему вы говорите друг о друге с неприязнью? В вашей семье не хватает любви?
Хозяин (не отрываясь от ноутбука). Ничего подобного – у нас до хрена любви. Увидишь нашу дочь, поверишь без труда.
Гость. У вас есть дочь?! (Осознание этого факта опять ввергает его в стоны.) Я так надеялся… (стонет)… что вы бездетны… (С надеждой.) А может, это было… экстракорпоральное оплодотворение?
Хозяин. Какие, однако, слова ты научился произносить! Но нет, дорогой друг, все было полноценно и романтично – под любимый всеми нами вальс к «Вальпургиевой ночи». (Начинает звучать вальс Гуно.) Ты, наверное, удивляешься: как возможен секс в ритме вальса? Но когда бывшая балерина и ее сорокавосьмилетний муж решают укрепить брак рождением ребенка, то пыхтенья в ритме рок-н-ролла неуместны!.. Так вот, представь: мы с нею на Сардинии, в лучшем отеле Средиземноморья. Террасу на седьмом этаже овевает бриз и окутывают звуки вальса. Бриз – это даром доставшаяся милость природы, а вальс – далеко не бесплатные труды расположившегося в парке оркестра… Я любуюсь ее спиной, гордой шеей, волосами, – а она, ни на секунду не повернув ко мне голову, упивается веками сложившимся пейзажем.
Елена. Петр, пожалуйста!..
Хозяин (не обращая на нее внимания). Ну, большой наш поэт, восхитись этой поэмой экстаза!
Гость. Пошел к черту!
Хозяин. Один, без тебя – не могу. Только с тобою вместе. Мы всегда вместе – ты и я неделимы, как двуликий Янус или двуглавый орел. Это стало окончательно ясно, когда моя жена забеременела.
Гость (стонет). Лен, что он несет?!
Елена молчит.
Хозяин. Мы с тобою нерасторжимы, ибо (!) даже в те минуты любви – моя жена, распаленная вальсом, бризом и пейзажем, умудрилась дважды перепутать наши имена!
Гость (потрясенно, у Елены). Было?! (Та молчит.) Но тогда!.. Тогда я, пожалуй… перевернусь на живот!
Елена (вдруг взрываясь). Петр, все уже давно в прошлом! Прекрати, наконец, ворошить! Не будь такой сволочью!
Хозяин (мирно). Ч-ш-ш, не нервничай… Прекращаю ворошить. Помоги же ему перевернуться, а то дергается, как полураздавленный кот, – смотреть противно!
Елена помогает Гостю снять майку, штаны и лечь на живот.
Терпи, Алексей, сейчас станет легче. Ленка – великий мастер, это ведь она нашу Танюшку на ноги поставила.
Гость. А что… девочка родилась… больной?
Хозяин (сухо). Не совсем здоровой. Детский церебральный паралич… и еще кое-что… (Кричит.) Таня! Познакомься с гостем!
С трудом неся большую самодельную, несколько скособоченную карусель, входит нескладная девочка.
Таня (говорит чуть затрудненно, растягивая гласные). Здравствуйте. Рада с вами познакомиться.
Гость. Привет. Я – Алексей Петрович.
Таня (смеется). Алексей Петрович… Странно… Вы – наоборот с моим папой. Он – Петр Алексеевич. Совсем как в истории: Петр Первый и его сын. Вы, конечно, о них знаете?
Гость (несколько удивленно). Наслышан.
Елена. Танюшка, ты, я вижу, карусель доделала, молодец! Сколько их уже у тебя?
Таня. Это – двенадцатая. Все можно сделать этой ночью, она же Вальпургиева. (Гостю.) Рассказать вам, почему ночь с 30 апреля на 1 мая называется Вальпургиевой и зачем я смастерила двенадцать каруселей?
Елена. Потом, потом расскажешь про карусели; а про Вальпургиеву ночь Алексей Петрович и сам знает. (Заканчивает массаж.)
Гость (блаженно потягивается). Ленка, ты чудодей! Уже не мутит, голова ясная, и вообще воскрес… Как хорошо, что воскрес… и что вас снова увидел, через двадцать семь лет.
Хозяин. Рад, что воскрес? А позавчера ты думал по-другому… Послушаем? (Щелкает мышкой, и раздается голос Гостя: «Налили? Выпейте…»)
Гость (встревоженно). Петр! Не надо!..
Хозяин. Почему? Лене будет интересно. (Опять щелкает.)
Голос Гостя. Налили? Выпейте! А теперь ешьте и слушайте… Этот тост избавит вас от необходимости говорить пошлости и причитать: «Пусть земля ему будет пухом». Кстати, у иудеев это было когда-то началом проклятья: «Пусть земля тебе будет пухом, чтобы бродячие собаки смогли разрыть ее и осквернить твой труп». Но мой труп осквернят люди, поскольку две недели назад я продал его Первому меду… Получил довольно много денег… Часть ушла на перепечатку сочинений, и совсем недавно рукопись роскошно горела посреди комнаты. Жигульский, мой сосед, долго стучал в стенку и вопил, что вызывает милицию, пожарных и санитаров из психушки. Но не вызвал, а пошел подышать свежим воздухом. (Небольшая пауза.) На еще одну часть купил баллон газа, утром законопатил все щели и сейчас открываю краник… И вдыхаю изо всех сил. (Надсадный кашель.) Классикам везло все же больше… Пушкин перед смертью ел морошку, Чехов пил шампанское, Фадеев – водку, а я потребляю пропан…
Остаток денег пошел вот на эти поминки. (Кашель, смех.) Так что вы сейчас едите мою плоть и пьете кровь. Ешь, Валера, ты ведь любил вкусно пожрать. Эминчик, я написал в завещании, чтобы свинину в пельмени не клали, так что рубай без опасений. Ленка, дерябни водочки. В Тель-Авив сообщили? Додька, ты прилетел? Ешьте, пейте, обо мне не вспоминайте. Сейчас… надо бы закончить эффектной фразой… для потомков… вот вахлак, заранее не приготовил… Что там уже говаривали? «Света, больше света», «Прощайте, друзья», «Люди, я любил вас, будьте бдительны…»… О! Нашел! Друзья мои! Я любил вас! Будьте прокляты!
Хозяин. Н-да-а… Как основательно ты приготовился! Однако выжил… Может, одного баллона оказалось мало?
Елена. Лешка, ты и меня проклинал? И меня ненавидишь?
Хозяин. Помилуй, дорогая, о чем ты? Настоящая ненависть немногословна, она – без восклицательных знаков. А тут просто дешевая поза… Точно – одного баллона оказалось мало! Да и газ, наверное, оказался некачественным. Покупал-то все по дешевке? Экономил на похороны и поминки, позер?
Елена. Оставь его в покое, он болен!
Хозяин. А сожжение рукописи – это разве не позерство? Ведь твои стихи давно гуляют в Сети! Но нет, тебе нужно было до конца поддерживать репутацию страдальца.
Елена. Это невозможно, в конце концов! Оставишь ты его в покое или нет?! Он только вчера был при смерти!
Хозяин (бесстрастно). Ну а уж последнему своему стихотворению бессмертие ты обеспечил стопроцентно! Тут ты переплюнул и Есенина, и Маяковского! Это так тонко: написать несколько строк на клочке туалетной бумаги и подбросить его к дверям сортира, причем текстом вверх, чтобы даже Жигульский понял всю ценность находки…
Елена (Гостю.) Потерпи чуть-чуть, я сейчас переведу тебя в свою комнату. Так будет лучше. (Уходит.)
Хозяин (вслед ей, с наигранным ужасом). В свою комнату?! Мужчину?! В присутствии все еще цветущего мужа! Что говорит эта достойная матрона?! (Спокойно.) Лешка, а вот стихи – великолепны! Это – без дураков. И вообще, ты – огромный поэт. Только тебе ведь этого мало. Ты хочешь считаться голосом нации… Точнее, выразителем чаяний лучшей ее части!.. То есть скопища еще более дешевых позеров.
Елена (появляясь в дверях). Танюшка, когда они начнут бить друг другу морды, не пугайся, ладно? Это будет понарошку, игра у них будет такая, чтоб меня еще сильнее помучить. (Опять уходит.)
Таня (выныривая в реальность, удивленно). Как – бить морды?! Папочка, разве вы с Алексеем Петровичем – враги?!
Хозяин. Что ты, доченька! Мы с Алексеем Петровичем – друзья.
Гость (заводясь). Да-да, девочка, добрые старые друзья! Только один – хищник, а другой – жертва.
Хозяин. Ну, наконец-то! Наконец-то мы с тобой добрались до любимой народной темы «хищник – жертва».
Гость. А что, разве твой счет в швейцарском банке плохо упакован?
Хозяин. Хорошо упакован.
Гость. И ты этим гордишься?!
Хозяин. Таня, уйди, пожалуйста.
Таня (тревожно). Вы уже хотите бить друг другу морды?
Хозяин (орет). Таня, я прошу, умоляю – уйди!! Очень тебя люблю, но сейчас – уйди! (Таня уходит.) Да, есть счет в швейцарском банке – и что? Да, при коммунистах я терпеливо карабкался наверх – и что? А сейчас почти на самом верху – и что?! (Помолчав.) А счет в швейцарском банке нужен затем, чтобы после нашей с Леной смерти Таня жила в Цюрихе, ни в чем не нуждалась, никого не боялась и мастерила свои карусели. Такая вот цель. Не благая?
Гость (смешавшись). Не знаю… Какое мне дело до твоих целей…
Хозяин. Это точно – никакого! (Звонит телефон, на этот раз – мобильный.) Да! (Повторяет.) Проводится комплекс реанимационных мероприятий… Полный комплекс, понимаю… Делается все возможное и невозможное, отлично! Ну и? Состояние стабильно тяжелое… (Взрывается.) Вы с этим старым идиотом надо мною издеваетесь?! Еще один такой доклад, и я отправлю тебя менеджером дешевого борделя! (Отключает мобильник.)
Гость. Кто там у тебя болеет?
Хозяин. Не у меня, а у тебя. Не болеет, а помирает. Жигульский, твой сосед.
II
Свет. Те же, там же.
Хозяин. Не у меня, а у тебя. Не болеет, а помирает. Жигульский, твой сосед.
Гость (кричит). Что ты несешь?! Что ты все время несешь?! С чего это он помирает?!
На крик прибегают Елена и Таня.
Елена. Что случилось?
Хозяин. Лешкиному соседу хуже… В коме.
Елена. Как – в коме?! Ты же мне говорил, что он «немного пострадал»?
Хозяин. Какого черта ты на меня наседаешь?! Думал, что «немного», оказалось – много! Тут-то я в чем виноват? В том, что спасаю старика, наглотавшегося газа вместо этого дешевого позера?
Гость. Не ври, при чем тут газ?! Он ушел, когда я сжигал рукопись! И громко хлопнул дверью!
Хозяин. Да, ушел с шумом. Но скоро вернулся. Тихо.
Елена. Зачем вернулся?
Хозяин (нехотя). Он следил за Алексеем. С 81-го года доносил о каждом его шаге. Ему для этого и дали комнату. Он не мог больше жить в Воскресенске, задыхался от астмы, а обмен все никак не получался. Вот ему и подыскали вариант. И пообещали, если будет исправно информировать, изолированную квартиру где-нибудь у Чистых прудов. Он выторговывал именно Чистые.
Елена. Ты про него и раньше знал?
Хозяин. Раньше не знал… Потом перестройка – и Алексей стал для госбезопасности неинтересен. Жигульский оказался не у дел, и квартира у Чистых прудов накрылась… (Гостю.) Тебе казалось, что за тобой по-прежнему следят, но он это делал по собственной инициативе: а вдруг все вернется на круги своя… Когда ты стал сжигать рукопись, побежал на улицу, позвонил дежурному ФСБ, сказал, что происходит что-то подозрительное, и прочитал найденное у сортира стихотворение. Потом вернулся на боевой пост, наглотался газа… много ли надо астматику… А дежурный сообщил начальству и подключил милицию…
Елена. Откуда ты все это знаешь?
Хозяин. Он сам рассказал все моему помощнику, которого я направил в больницу. Все спрашивал: дадут ли ему за геройство квартиру у Чистых прудов?.. Алексей, а ведь Жигульский фактически тебя спас!
Гостя сотрясает долгий и мучительный кашель. Елена понимает, что это истерика, и кидается к дивану.
Елена. Сейчас… сейчас пройдет…
Гость. Зачем вы меня откачали?! Мало гнобить всю жизнь, надо еще и не дать подохнуть, когда самому захочется…
Елена. Не надо так… Не надо… Все образуется.
Гость (прерывающимся голосом). Я… я… (Неожиданно.) Я хочу в туалет. Дай что-нибудь накинуть.
Елена (протягивает ему халат). Я провожу.
Гость. Один пойду.
Елена. Ты ж даже не знаешь где.
Гость. Найду. Я вообще не хочу пачкать вашу величественную сантехнику. Пойду на улицу. (Уходит.)
Елена. Петр, старик умрет? (Хозяин не отвечает.) А что тогда будет с Алексеем?
Хозяин. Юристы говорят, что статья 109-я… До двух лет.
Елена. За что?! Он же не мог знать, что сосед вернется.
Хозяин. Мог, не мог – это трудно определить.
Елена. Петр, ты что-то задумал. (Хозяин молчит.) Боже мой, за что ж ты так Лешку ненавидишь? За то, что он обеспечил себе бессмертие, а ты нет? (Хозяин молчит.) А сюда зачем привез? (Хозяин молчит.) Хочешь расставить все точки над «i»? Зачем это тебе сегодня?
Хозяин. Нет, не хочу. Не смогу расставить – слишком много накопилось этих «i».
Появляется Гость.
Гость (в его голосе какие-то новые нотки). Вот и я!
Хозяин (настороженно). По какому поводу ликуем?
Гость. Легче стало. Гораздо легче. (Идет к дивану.)
Хозяин. От одного похода в сортир?
Гость. Ничто так не бодрит воскресшего, как самостоятельный поход в сортир… Какой веселенький телефон у вас в коридоре… (Пауза.)
Хозяин. Он так, декоративный…
Гость. Я и говорю, веселенький… (Тане.) Так что ты мне хотела рассказать?
Таня (обрадованно). Вам интересно? Только, пожалуйста, дослушайте меня до конца! Я не знаю, есть ли Бог, но дьявол есть – это точно. Это ведь вы не будете отрицать? Значит, важно найти, где он любит спать по ночам, устав от злых дел. И я нашла: в каруселях! Только они за день успевают причинить столько же зла, сколько и сам дьявол. Слоны, лошади, верблюды, ослы – люди садятся на них и заставляют бегать по кругу. Если б вы знали, как у зверей от этого кружится голова!.. Все уверены, будто дьявола победить невозможно. Но я придумала – нужно в Вальпургиеву ночь поджечь все на свете карусели!! В каждой из них спит часть дьявола, в 23.50 он дробится на столько частей, сколько есть на свете каруселей. И если их в полночь поджечь, то части дьявола, ослепнув, будут метаться и никогда больше не смогут соединиться в одно целое, как люди, которых в полночь испугали бомбежка или землетрясение… Части дьявола, выскочив из горящих каруселей, будут просить о пощаде – но их нельзя щадить! Один раз, пять минут, все мы должны быть жестокими, и размахивать палками рядом с горящими каруселями, и…
Елена. Таня, все, хватит! Ты чересчур разгорячилась. Хватит! Ты ведь хорошо знаешь, чем это может кончиться! Иди к себе… ложись спать, поздно…
Таня. Простите, Алексей Петрович, я в другой раз объясню вам, зачем смастерила именно двенадцать каруселей. (Уходит.)
Елена. Теперь ты видишь, Алексей, какая у нас с Петром дочь… (С вызовом.) Ты ведь в ее присутствии чувствуешь себя отомщенным?
Телефонный звонок.