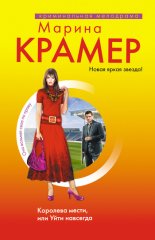Изгои. Роман о беглых олигархах Колышевский Алексей

Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli porta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat, populo: tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem, Virgo prius ac posterius, Gab– rielis ab ore, sumens illud Ave, peccato– rum miserere…
Благочестивая молитва католиков латинского обряда
«Любовь к ближнему, – проговорил сэр Реджинальд, – не котируется на бирже современных отношений».
Владимир Набоков. «Отчаяние»
Entrance
– Давай сюда все свои деньги, чертова сука!
Она отшатнулась. Ноги сразу отказали, и Ольга Сергеевна села прямо на тротуар. Было два часа ночи, и при скудном уличном освещении громила казался троллем из сказки: темная бесформенная гора плоти, облаченная в спортивную толстовку «Красный дьявол» с капюшоном. В руке громила держал телескопический кистень, один удар которого запросто пробивает капот грузовика.
– Ты что, оглохла? Не понимаешь по-английски, албанская задница? Деньги, или я пробью твою пустую тыкву!
Вечер с самого начала «не задался», несмотря на то что это был вечер пятницы, а значит, ее время. По пятницам Ольга Сергеевна ходила в «Кафе де Пари» на Ковентри-стрит. Почему она выбрала это место? Да потому что самые рафинированные молодые самцы из Сити собирались по пятницам именно здесь. Англичан всегда тянуло к Франции, и наоборот – это уже генетическое. Здесь, в клубе, Ольга Сергеевна снимала паренька не старше двадцати пяти – двадцати семи лет и отправлялась с ним в какой-нибудь отель, номер в котором она бронировала накануне. Наутро они прощались, паренек получал неожиданную прибавку к месячной зарплате и давал слово молодого джентльмена, что «не узнает» Ольгу Сергеевну при следующей встрече. Однако даже джентльмены нарушают слово, особенно после шести-семи порций «Дикой индейки». «Индейка» была родом из Америки, но именно ее заказывали чаще всего. Вот уж воистину – пророка нет в отечестве своем, впрочем, как и в Англии нет бурбона из Кентукки. Пить «Индейку» в клубе с парижским душком здесь, в самом сердце Сохо, рядом с площадью Пикадилли – это ли не долгожданный триумф космополитизма?! Это ли не истинный отрыв от набивших оскомину традиций, которые теперь соблюдают одни чудаки, да и то лишь где-нибудь в Шотландии?
Тот веснушчатый парень – она сразу узнала его – стал вести себя отвратительно с момента ее появления в клубе. Парня звали Ральф, он работал клерком в одном из бесчисленных банков в Сити. В кафе он был с компанией; на коленях у него сидела красотка в супермодной блузке с интригующим вырезом на груди. Бюст у девицы был что надо, и показывала она его ровно настолько, чтобы это было интересно и волнительно для окружающих. Ольга Сергеевна хотела пройти мимо, не подавая виду, как она обычно и поступала, встречаясь с прежними партнерами, но не тут-то было. Банковский служка сильно набрался после трудовой недели. Увидев Ольгу Сергеевну, он издал губами шлепающий звук и громко произнес:
– Это моя русская мамочка. У нее всегда так хлюпает между ног.
Его грудастая подружка рассмеялась первой и, в свою очередь, отпустила что-то весьма обидное в адрес Ольги Сергеевны. Затем это сделалось основным развлечением всей компании Ральфа в тот вечер. Каждый считал своим долгом высказать все, что он думает о «русской мамочке», что называется, «без купюр». Поначалу она делала вид, что ничего не слышит, но один из офисных мальчиков сел за барную стойку рядом с ней и громко обратился к бармену:
– Эй, Юджин, дружище, хочешь заработать пару сотен фунтов? Да? Тогда напои эту старую шлюху и трахни ее так, чтобы она хрипела, как гребаная пробитая волынка. Ральф нехило поднял, когда сделал именно так.
Бармен, ничуть не смущаясь, ответил ему:
– А кто тогда будет стоять за стойкой и наливать тебе? Скажи ей, пусть лезет ко мне сюда, прямо под стойку, и сделает «экспресс». Знаешь, что такое «экспресс», приятель? Это вот так, – и бармен, засунув в рот большой палец, стал быстро двигать рукой вперед-назад и при этом неприлично подмигивать Ольге Сергеевне.
Конечно, нужно было уйти. Давно. Тогда получилось бы обойтись без этого чудовищного унижения. Она никогда – Господи! – никогда и представить себе не могла, что кто-нибудь сможет вот так, совершенно безнаказанно, прилюдно извозить ее в дерьме. Сама Ольга Сергеевна не то чтобы обожала, но время от времени не пренебрегала возможностью, как она это называла, «поставить быдло на место». Там, в своей недавней, но теперь такой невозвратно далекой московской жизни, когда она была почти всесильной банкиршей, финансовой громадиной, акулой, масштабы влияния которой отдельные льстецы вполне небезосновательно называли чуть ли не государственными, – это все осталось там. Там она протягивала руку для поцелуя генералам и министрам, там в ее приемной томились всякие «мелкие сошки» с состоянием в миллионы долларов и она выбирала, с кем из них пойти на ужин, а кому отказать через секретаря – мальчика, чем-то похожего на этого подонка Ральфа. Ей такие мальчики нравились – это был «ее тип». Только вот там они перед ней стелились и она давила их – о, с каким наслаждением она давила их каблучками, как клопов, как тараканов! А здесь… Нет, здесь все не так. Здесь до нее не было никому решительно никакого дела, и все ее миллионы, которых до сих пор оставалось столько, что трать хоть по одному в день – хватит лет на пять, все ее несметное богатство здесь было лишь грудой денег. На них можно было жить, и даже весьма громко, с тупым купчиковым шиком (чего осторожная, как все банкирши, Ольга Сергеевна не любила и даже фыркала, когда какой-нибудь кучерявый строитель в пьяном угаре вечеринки посылал в задницу всех, у кого нет хотя бы миллиарда), но власти – власти они ей не давали никакой. Не ждали в приемной генералы и министры, да и приемной-то никакой не было. Деньги, ее деньги, любезно сопроводившие ее в вечную лондонскую ссылку, не приносили своей хозяйке былого наслаждения.
Когда она шла, почти бежала к выходу, то весь клуб, казалось, провожал ее гоготом и улюлюканьем. Пошлые и откровенно грязные шуточки сыпались со всех сторон, и, оказавшись наконец на улице, Ольга Сергеевна почувствовала себя оплеванной. Пережить такое унижение было почти невозможно, и она не нашла ничего лучше, чем напиться тут же, неподалеку, в крошечном безымянном баре, каких полно в Сохо. В кабачке ей стало дурно от спертого воздуха, и она совершила очередную ошибку: вместо того чтобы взять такси и поехать домой, Ольга Сергеевна решила прогуляться. Она долго шла по Пикадилли, не заметила, как попала в парк Сент-Джеймс, и очнулась только тогда, когда прямо навстречу ей вышел этот огромный, каменный «Красный дьявол».
– У меня почти триста фунтов наличными и кредитки, – пролепетала Ольга Сергеевна жалобно, – и еще драгоценности. Вот, – она принялась, ломая пальцы, стаскивать одно за другим кольца. Протянула их вместе с кошельком громиле. Тот взял только деньги. Кредитки и драгоценности швырнул ей обратно.
– Мобильник есть?!
Схватил телефон и разбил его об асфальт.
– Сиди тихо, албанская задница.
Ольга Сергеевна послушно залепетала:
– Я никому ничего не скажу. Не волнуйтесь, пожалуйста.
Он усмехнулся:
– Что-то для албанки ты больно вежлива.
– Я русская, – зачем-то сказала Ольга Сергеевна.
– А-а-а. Продала атомную бомбу и приехала сюда? Вас здесь много таких. Русские, мать вашу! Ты небось крутая, да? У тебя счет в «Ллойде»[1] и дом больше, чем у Мадонны, да? А я, англичанин, по твоей милости должен жить на помойке?! Думала откупиться от меня?!
– Нет, что вы, – прошептала Ольга Сергеевна и вдруг, почувствовав, что сейчас случится ужасное, взвизгнула:
– Помогите!
«Красный дьявол» взмахнул своим кистенем, и Ольга Сергеевна стала медленно заваливаться на правый бок. Ее нашли спустя несколько часов первые любители утреннего бега.
Картина первая
Шестидневный мир
Бриллиантовый квартал
Отчего человек становится преступником? Вернее, так: ради чего он им становится? Проваливается из тихого, спокойного обывательского мирка в мрачный тартар, откуда уже никогда не будет возврата. Ответ один: хочется всего и сразу. Причем не только хочется, но кажется, что желание это вполне справедливо и, что самое главное, обязательно сбудется! Дело выгорит, и, всех обхитрив, будет баловень судьбы сидеть где-нибудь в плетеном кресле посреди стриженого изумрудного газона, закинув руки за голову, и любоваться небом, синим до одури и совсем не в крупную, из стальных прутьев сваренную клетку. И, вопреки закону преступления и наказания, так бывает: и плетеное кресло, и газон, и чистое небо… И плевать на мораль, ее выдумали одутловатые трусы, импотенты и сексуальные извращенцы.
Господь Бог устал от мира, который сотворил за шесть дней. Быть может, он слишком поторопился? Все-таки шесть дней на все про все – это слишком мало. Невозможно учесть все, так сказать, нюансы, вот и происходит в шестидневном мире всякая несправедливость: войны, богатые грабят бедных, делая их еще беднее, а сами становятся еще богаче. Между бедными и богатыми вакуум космоса, и Господу Богу до этого нет никакого дела. Когда он творил этот несовершенный мир, он и сам был молод и страдал юношеским максимализмом. Казалось, что предвидел все, а теперь он с неохотой признается сам себе, что все же очень поторопился. Поспешил настолько, что теперь ничего не может сделать, и сыновей, которые согласны будут взойти на голгофский крест, у него больше нет.
* * *
Я почти не спал в ту ночь, и вместе со мной не спал Манхэттен. Регистрироваться в отеле означало лишний раз наследить, обозначить свое присутствие в Нью-Йорке, а значит, подарить тем, кого может заинтересовать маршрут моих передвижений по Штатам, неубиваемый козырной туз. Этим тузом меня, в случае чего, и прихлопнут.
К счастью, в этой стране еще принимают к оплате наличные и кредитку можно убрать подальше, тем более что хозяйка квартирки рада тридцати баксам, которые я плачу за право переночевать на диване в одной из комнатушек ее двухкомнатной, one-bedroom flat. Рада до такой степени, что даже кормит меня русским борщом и пирожками. Единственное, что немного раздражает меня, помимо постоянного, не прекращающегося и по ночам шума, – это набожность хозяйки, возведенная в степень фарисейства. Каждое утро, когда после бессонной ночи, освежив себя душем, я сажусь за стол и с ужасом смотрю на количество приготовленной для меня еды, она встает за моей спиной и начинает читать молитвы. Первая молитва «еврейская», она читает ее по-русски. Вторая «буддийская» и звучит также по-русски, и, наконец, третья – старый добрый «Отче наш» на старославянском. Каждый раз, когда я слышу эту молитву, я невольно думаю – отчего ее читают на языке, которого нет? Ведь в ней такие нужные и мудрые слова, а смысл их приглушен старой, окаменелой лексикой. А еще говорят, что самые большие традиционалисты – это англичане. Куда им до нас?
Я просыпаюсь в ее квартирке в третий раз. Каждый раз утром я не знаю, что приготовил мне новый день, и поэтому каждый раз, перед тем как покинуть свою берлогу в многоквартирном «социальном»[2] доме на Девяносто первой Вест, я прощаюсь с медведицей-хозяйкой. Предыдущие два дня прошли впустую, я так и не достал то, ради чего с такими предосторожностями прибыл в Нью-Йорк. От бессонницы у меня обострились все ощущения и чувства и даже открылся третий глаз. Именно с его помощью, с последней надеждой выспаться кутаясь в утреннюю полудрему, я увидел, что сегодня мне повезет.
– Алевтина, я, как обычно, прощаюсь с вами. Отчего-то именно сегодня я уверен, что вечером уже не вернусь.
Ей за шестьдесят. Круглая румяная тетка, добрая и простодушная. Мне жаль ее: ее жизнь почти прошла, и была она тяжела и безрадостна. Алевтина рассказала мне свою биографию в тонких подробностях, и я не перебивал ее. Просто не хватило духу. С такими людьми сталкиваешься нечасто, они несут в себе искру наивного и доброго божества. Такими Он хотел бы видеть каждого из нас, но…
– Жаль. Вы были интересным собеседником. Куда собираетесь сегодня?
Я отчего-то растерялся и честно ответил:
– В Бриллиантовый квартал.
– О! Там так прекрасно! Хотите что-то купить?
Я чуть было не рассмеялся, представив себе ее лицо после того, как она услышит честный ответ на свой бесхитростно-бабий вопрос: видимо, нервы натянуты до предела рояльной струной. Сдержался, неопределенно пожал плечами:
– Так… Может быть. Там столько всего блестящего, что я никак не могу поверить, что все это может быть настоящим.
Она важно и с затаенной в глазах благодарностью (дал ей еще один шанс быть нужной) кивнула:
– Там все настоящее. Это Америка, здесь не продают стекляшки, выдавая их за бриллианты. Здесь бриллиантами никого не удивишь, их тут очень много.
Внезапно она сделалась грустной. Я невольно поразился тому, какая скорбь появилась вдруг на ее лице:
– А у меня, – продолжала Алевтина, – всего одно колечко. Хотите, я вам его покажу?
Я вежливо кивнул.
– Вот, – она протягивала мне кольцо из медного, чуть потемневшего «русского» золота с вдавленным в центр крупным – никак не меньше двух карат – камнем удивительной чистоты.
– Вы привезли его с собой в эмиграцию? – я вертел вещицу в руках, не в силах оторваться от чудесного камня.
– Да. А почему вы спрашиваете? Как вы догадались?
– Ну, догадаться-то несложно. Только наш горе-ювелир может буквально вбить бриллиант в оправу, вместо того чтобы поместить его сверху, подчеркнув тем самым его красоту. Камень чудесный, я не вижу в нем никаких дефектов, он прекрасен даже в таком плененном состоянии.
Она всплеснула руками:
– Да вы, я вижу, специалист!
– Да какое там… Просто любой мужчина хоть раз в жизни дарил бриллианты, а я еще и подготовился к покупке такого рода, изучил, так сказать, теорию. Просто к продавцам подобных безделушек я не питаю особенного доверия, вот и пришлось изучить шкалу чистоты камней, виды огранки… Так, ничего особенного, но я по крайней мере знаю, что такое бельгийская огранка первой чистоты. Красивый у вас камешек, нечего сказать. Только мне кажется, что так никто больше не гранит. Он у вас старый, по всей видимости?
– Да, наверное, – она как-то стушевалась, словно раздумывая, продолжать ли этот разговор, но потом все-таки решилась и тихо сказала:
– Я нашла этот камень.
– Вот как? Интересно. Не расскажете подробнее?
– В Риге. Я там жила когда-то и нашла сережку с бриллиантом прямо на тротуаре. Отдала одному ювелиру, попросила сделать колечко, и вот…
Я вернул ей кольцо, покачал головой:
– Кто-то, наверное, очень переживал из-за этой сережки. Все-таки это большая потеря…
Алевтина с трудом надела кольцо на мизинец толщиной с вареную сосиску:
– Когда-то оно свободно налезало на средний палец. Я и сама иногда думаю, что не нужно мне было брать эту сережку. Подняла с земли чужое горе.
Меня начинал утомлять этот разговор, и я демонстративно поглядел на часы:
– Мне пора. Всего вам доброго.
– До свидания. Удачи вам.
– Спасибо, мне не повредит.
Я уже стоял в лифте, ждал, пока закроется автоматическая дверь кабины, а она все не закрывалась. Хозяйка квартирки стояла на пороге и из вежливости не уходила, и приходилось обмениваться с ней вот такими никудышными коротенькими репликами. Она сказала еще что-то в том же роде, я стандартно ответил. Наконец лифт, словно опомнившись, захлопнулся и быстро пошел вниз. Я прислонился спиной к его стенке и закрыл глаза. Только бы получилось…
* * *
На Сорок седьмой – муравейник. Толпы ортодоксальных евреев в своих забавных одеждах и шляпах с озабоченным видом снуют в разные стороны. Один из них, молодой, стоит на тротуаре с пачкой каких-то прокламаций. Протягивает мне одну со словами:
– Вы еврей?
Качаю головой. Нет, не еврей я. Русский. Не берут евреев в мое ведомство, не доверяют им почему-то. Зато знаю многих странных, на мой взгляд, людей, которые, не имея к евреям никакого отношения, почему-то настойчиво пытаются всем доказать, что они-то как раз самые что ни на есть «чистые» евреи. Зачем? Евреем теперь быть модно. Все российские олигархи – евреи, ну или почти все. Да и вообще евреи успешный народ: не пьют и всегда при деньгах. Молодцы, одним словом.
Из всего веселого еврейского многообразия меня интересовал один-единственный ничем не примечательный человек с грустным лицом. Мы были знакомы, и помимо этого знакомства у меня про запас была половинка пароля, так что ошибиться было невозможно. Вся загвоздка в том, что третий день я не мог найти Семена на его обычном месте, и сказать условную фразу было некому. Пройдя через Центральный парк от Девяносто первой, я вышел через главные ворота, по Бродвею дошел до Тайм-сквер и уже с нее свернул на Сорок седьмую. За три дня я выучил этот маршрут и запомнил его «маячки»: вот алкогольный магазинчик, а это подземный гараж, далее бюджетный отель с запыленной вывеской «Кровать и завтрак», ресторан «Японика» и, наконец, угол Шестой и Сорок седьмой Вест. Именно он мне и нужен.
В витрине, где тысячи бриллиантовых звезд брызгали лучами сквозь пуленепробиваемое стекло и освещали лица прохожих, отбрасывая на них оттенок мечты, я увидел знакомый профиль человека, который разглядывал что-то, смотря поверх очков. Темя его покрывала черная велюровая кипа, укрепленная с помощью какой-то хитрой штуки, в просторечье именуемой «невидимка». Такие невидимки еще носят девочки-школьницы, а вот очки Семен Кистенбаум носил «для понта». Зрение у него было отменным, даже ювелирная профессия так и не смогла заставить его глаза хоть немного ослепнуть. Семен всегда глядел поверх очков, он говорил, что так у него получается взгляд профессора математики или врача с большой практикой. Отчего-то он стеснялся своего ремесла.
– Бог мне судья, – говаривал Семен на забавном одесском диалекте, – но в моем деле лучше быть немножечко не тем, кем я есть на самом деле.
И даже эта короткая фраза была не менее двулична, чем сам Кистенбаум. Иногда я начинал думать, сколько же на самом деле масок хранит он в своем шкафу жизненного опыта и смекалки, и всегда сбивался, дойдя до второго десятка. Пусть я и научился просчитывать его лучше остальных, все равно рояль в кустах присутствовал постоянно.
Мы договаривались встретиться в понедельник, а сегодня уже среда. Среда была резервным днем, и если бы сегодня я не увидел среди всех сокровищ витрины магазина самого главного сокровища – головы Кистенбаума, то пришлось бы возвращаться в Москву. При этом раскладе Москва для меня означала все самое плохое, что может произойти с человеком, который не оправдал надежд высшего руководства страны. Тот, кто знает столько, сколько знаю я, обычно исчезает в могиле с чужим именем на надгробной плите, и это еще в лучшем случае. Как вариант – паровозная топка имени товарища Сергея Лазо. Кто-то мне божился, что она существует на самом деле.
Конечно, он ждал меня и нервничал. К чести Семена скажу, что нервозность у него выражалась лишь тем, что очки сползли несколько ниже, чем обычно, на самый кончик длинного носа, и Кистенбаум, перестав играть в близорукость, цепко рассматривал мир вокруг себя. И все же я увидел его раньше, чем он меня.
Семен сидел за прилавком и препирался с каким-то скандальным канадцем. В том, что это именно канадец, да еще и франкоговорящий, особых сомнений не возникало: чистый английский с фирменным квебекским «грассе». Кто однажды услышал, при условии отсутствия слона, отдавившего ухо, тот запомнит навсегда. В моей жизни всего хватало, но вот слон так ни разу и не встретился. Канадец подозрений не вызывал, но влезать в их с Семеном беседу явно не стоило. Пришлось отираться возле прилавков с драгоценной мишурой…
Вы бывали в ювелирном магазине? Да? Тогда конкретизирую вопрос: вы бывали в американском ювелирном магазине? Тоже да? Хм… Ну, хорошо. Тогда совсем горячо: вы бывали в магазине на Сорок седьмой в Нью-Йорке? Нет? Тогда вы ничего и не видели. Даже груды полуфальшивого золота Турции и алмазные россыпи Аравии в сравнении с изобилием Бриллиантового квартала – не более чем груда тусклых побрякушек с прошлогодней рождественской елки. Здесь собрано все самое лучшее, и именно здесь, где в воздухе витает бриллиантовый дым, становится окончательно ясно, что все золото и все счастье осело тут, обнажив илистое дно Европы и превратив ее в обнищавшие задворки этого единственного хозяина мира – Соединенных Штатов. Девяносто процентов добываемых в мире бриллиантов лучшего качества находят своих арендаторов как раз в США. Именно арендаторов, а не владельцев, ибо бриллиант живет собственной жизнью, и когда ему хочется перемен, то он сам в состоянии распорядиться своей участью. Иногда это заканчивается смертью арендатора, и чем камешек чище и крупнее, тем меньше он задерживается в одних руках. Да и можно ли всерьез произносить «владелец бриллианта такого-то», если жизнь человеческая – несколько десятков лет, а жизнь камня исчисляется с самого рождения шестидневного мира? Бриллианты – прозрачные слезы Бога, которыми он оросил Землю в седьмой день, когда понял, что исправить уже ничего не получится.
* * *
Канадец фыркнул в последний раз и извлек из бумажника кредитку. Семен немедленно вцепился в нее мертвой хваткой, и видно было, что у канадца не осталось ни единого шанса для шага назад. Кистенбаум с нечеловеческой быстротой «прокатал» канадскую карточку и с улыбкой протянул ее владельцу. Тот со вздохом подписал чек.
– Поздравляю! – Кистенбаум, весь поглощенный сделкой, сиял, словно бриллиантовый перстень в четыре карата. – Вы вложили деньги наилучшим образом.
С одесскими прибаутками, забавно звучащими по-английски, Семен отпустил канадца восвояси и, проводив его долгим взглядом сквозь витрину, с видимым напряжением повернулся ко мне. Я как раз успел занять место возле прилавка, и мы встретились буквально нос к носу.
– С-слушаю вас.
Семен столь явно пытался придать голосу бодрости, что я не выдержал и широко улыбнулся. Семен несмело ухмыльнулся в ответ.
– Меня интересует пятнадцатидюймовая бриллиантовая нить и что-нибудь, что можно на нее подвесить, подходящего размера. Есть у вас такая вещь?
Семен с пониманием кивнул и ответил:
– Это не самый дешевый товар. Он только для серьезного покупателя.
– Я как раз такой. Серьезный.
– Тогда прошу вас пройти со мной в офис. Я храню подобные вещи там.
В офисе, когда он закрыл дверь на три оборота ключа, мы обменялись крепким рукопожатием, хотя я с удовольствием обнял бы его. Я был рад его видеть – при всей своей неоднозначности Семен был славным человеком. Честным, насколько вообще может быть честным ювелир, отсидевший за скупку краденого в России и сумевший (не без моей помощи) перебросить через океан «кое-что», что позволило ему без особенных хлопот открыть дело здесь, на Бриллиантовом острове. Он был обязан мне, именно поэтому я его сейчас использовал.
– Рад видеть тебя, Пашка. Сколько лет, а зим и того больше!
– И я рад видеть тебя, Сэмэн. Ты молодцом. Седины только прибавилось, но это тебя не портит.
– Ай, Паша. Как можно испортить то, что и так испорчено с момента перевязки пупка? Когда моя аидише мама носила меня, то часто лежала на правом боку. Оттого и голова у меня похожа на фасоль.
– Не прибедняйся. Голова такая оттого, что у тебя две макушки. Значит, ты не просто умный еврей, ибо нет евреев глупых – это доказано историей, а вдвойне умный еврей.
– Эх, Павлик… Твои слова да Богу в уши…
Я достал пачку «Лаки Страйк», Семен поморщился:
– Это многих доконало. Я думал, что ты завязал.
– Семен, завязывают с другим. А курить я и не пытался бросить. Я люблю курить. Но если ты против, то я потерплю.
Семен вздохнул:
– Тогда и мне давай одну. С какой стати я просто так стану дышать твоим дымом?
Я протянул ему сигарету, мы посмотрели друг на друга и от души рассмеялись.
Некоторое время сосредоточенно курили, разглядывая каждый свое. Я осматривал его «офис» – небольшую каморку с четырьмя шкафами и письменным столом, видавшим виды, Семен украдкой посматривал на меня и еле слышно вздыхал. Я понимал, что Кистенбаум ждет моего вопроса, сам не вылезает:
– Павлик, ты будешь кофе?
– Конечно. Черный, половина ложки сахару и щепотка корицы, если есть.
Семен всплеснул руками:
– Ты в порядочной еврейской лавочке. Здесь всегда есть корица!
Он чуть помедлил.
– Однако память у тебя. Даже корицу помнишь.
Я отхлебнул. Замечательный кофе! Еще бы мне не помнить корицу, кофе с ней я пил двадцать лет назад, во время обыска, который моя группа проводила в московской квартире этого парня. Корицу помню, а звание свое тогда – нет. Чертовщина какая-то.
– Ты читал объявление в газете? – я прищурился оттого, что дым попал в глаз, и со стороны должно было казаться, что мне и самому противен собственный вопрос.
– Читал. Я покупаю эту газету с тех самых пор, как моя нога коснулась местечка под названием Нью-Йорк.
– Местечко? Ха-ха! Семен, ты по-прежнему любитель пошутить. Хотя, если учесть количество твоих соплеменников на улицах города, его и впрямь можно назвать еврейским местечком, чем-то вроде Жмеринки. Ладно… Так ты прочел мое объявление?
Семен сокрушенно вздохнул:
– Прочел.
– Ты достал?
– А что мне было делать? Конечно, достал. Если бы ты знал, чего мне это стоило! Если бы ты только знал…
– Ты хочешь сказать, что я тебе что-то должен? Может, еще хочешь, чтобы я заплатил тебе полную рыночную стоимость этого дерьма?
– Все, чего я хочу, так это не покупать больше газету.
Я вытянул из пачки очередную сигарету, затянулся и выпустил струю дыма ему в лицо:
– Хватит причитать. Давай сюда то, что достал.
Кистенбаум вытащил из кармана маленькую коробочку с кнопкой, нажал. Стена поехала вбок, и показался гигантских размеров сейф с подобием корабельного штурвала на бронированной двери. Семен подошел к сейфу, набрал комбинацию и повернул штурвал, словно заправский капитан. Да он и был капитаном, как и каждый, кто ведет собственный корабль меж острых рифов жизни, а не плывет по течению, словно безвольная щепка.
Порывшись в сейфе, который под завязку был наполнен драгоценным содержимым, он не без труда извлек средних размеров свинцовый ящик и бухнул его прямо мне под ноги.
– Вот. Забирай свою мерзость, и чтобы ты мне был здоров.
Я с нарастающим удивлением смотрел на ящик, затем поглядел на Семена и покрутил пальцем возле виска:
– Ты в своем уме? Как я с этим попаду в самолет?
– А ты открой.
В ящике, который на самом деле представлял собой цельный свинцовый саркофаг, в углублении помещался пластиковый футляр, похожий на сигарный хьюмидор и аэрозольный баллон одновременно. На баллон – оттого что сверху футляр был снабжен дозатором-распылителем. На футляре маркировка «Локхид-Мартин»,[3] значок радиоактивности и надпись «основной компонент – изотоп полония-210». Я провел по баллону пальцем: на ощупь пластик. Взял в руку – так и есть: пластик; видимо, очень прочный; а сама «сигара» увесистая, весом не меньше килограмма.
Семен смотрел на меня исподлобья и в нетерпении отбивал такт левой ногой, отчего стал немного похож на сердитого быка, готового попытаться забодать тореадора. Рукой он оперся о стол, заваленный всякими ювелирными инструментами и приспособлениями.
– Ящик мой собственный, – наконец пояснил он. – Я все еще люблю женщин не только глазами, и черт его знает, как эта гадость могла повлиять на мои причиндалы. Я, между прочим, ездил за твоим заказом аж в Уичиту,[4] а это полторы тысячи миль. У меня на все про все вместе с дорогой ушло четыре дня, а когда я останавливался на ночь в мотеле, то приходилось брать чертов ящик с собой. Так я и спал: в одной руке эта тяжесть, а в другой…
Он внезапно резко дернул ящик стола и выхватил оттуда никелированный девятимиллиметровый револьвер «Таурус» с глушителем. Направил оружие на меня и – не успел я даже пикнуть – нажал на курок.
Сказочники
Английская осень… Собственно, осень здесь круглый год, и совершенно точно, что именно в этой стране и расположена ее штаб-квартира. Британский Остров формой напоминает закутанную в шелка женщину, чьи одежды немилосердно треплет ветер, и лишь чудо портновского искусства позволяет этой леди не утратить чувства собственного достоинства, представ вдруг перед всем миром в своем бледном неглиже. Отсюда, с Острова, осень наступает по всей Земле. Но тот, кто по-настоящему влюблен в это время года, лишь здесь, на Острове, может насладиться истинными осенними прелестями. Всякая прочая пора дождей и туманов – лишь копия с английского оригинала, а потому опасна для здоровья и многими нелюбима.
Осень в Лондоне особенно прекрасна, город в ней – словно чистой воды бриллиант в оправе из розового золота. Серый камень Тауэра хочется прижать к сердцу и гладить его, словно теплого, домашнего, никуда не спешащего кота. А выкурить сигарету, прогуливаясь по набережной и рассматривая подсвеченный желтым пламенем Карандаш-с-часами?[5] А потом выщелкнуть окурок и смотреть, как он, словно удаляющийся ночной поезд, бесконечно долго летит по воздуху и наконец растворяется в черной воде Темзы? И мелькнет шальным бесом мысль: «Все слишком геометрично и правильно. Жаркой, голодной крови сюда, авантюры, великих и безумных замыслов». И тут же одернешь себя: «Да ведь это и так чертовски прекрасно! Не изменить ничего, совсем как в истинной гармонии». Но, пожалуй, самой важной частью ритуала поклонения осенним дарам является прогулка в Гайд-парке: ничто ее не заменит.
Двое мужчин возраста, который принято называть «чуть за сорок», вполне очевидно принадлежали к тому разряду истинных поклонников Королевы листопада, для которых прогулка в парке есть не что иное, как традиция, которую принято соблюдать. Опытный наблюдатель без труда определил бы в них иноземцев, но не туристов, которые приехали в Лондон по своим поверхностным надобностям вроде фотографирования с полицейским из охраны Букингемского дворца или безумных ночных попоек в Сохо. Видно было, что город этот был для перешагнувших сорокалетний рубеж собеседников пусть и новым, но все же постоянным местом их проживания. Местом, к которому они вполне успели привыкнуть, и даже настолько, чтобы сделать Гайд-парк местом своих встреч и бесед, происходящих раз в неделю, как правило, по вторникам между двумя и четырьмя часами дня.
По сложившейся уже традиции они встречались в самом центре, на площадке внутри треугольника, образуемого Ринг-роад, Эксибишен-роад и Серпантином, заходя на территорию парка с двух противоположных сторон. Внутрь парка их автомобили никогда не въезжали. До места встречи каждого сопровождали двое молчаливых спутников, чьи крепкие затылки, широкие плечи и подвижные головы не оставляли сомнений в их профессии хранителей тела. За те несколько шагов, которые оставались между собеседниками, охрана почтительно отставала, и в течение двух часов ничем не обнаруживала своего присутствия, находясь в то же время на расстоянии точного пистолетного выстрела, то есть не далее двадцати пяти – тридцати метров.
Одетые неброско и безупречно, то есть так, как и принято одеваться джентльменам, мужчины обменивались рукопожатием, оставаясь при этом в перчатках, и начинали свою неторопливую прогулку по осенним аллеям, негромко переговариваясь и сдержанно выражая эмоции кивком головы. Один из них курил короткие, средней толщины сигары и за время беседы, как правило, выкуривал таких по две штуки. Другой предпочитал сигареты и употреблял их чаще: за два часа его зажигалка выбрасывала огненный язычок не менее десяти раз. Иногда тот, что курил сигареты, начинал говорить чуть громче обычного, но тут же останавливался и оглядывался по сторонам, совершенно очевидно опасаясь, что его слова может кто-то услышать. Его опасения всегда были напрасны, и собеседники вновь возвращались к своему прежнему размеренному и негромкому разговору.
Однако, окажись у кого-либо из прохожих, точно так же выбравших Гайд-парк местом своих размышлений, возможность услышать и понять то, о чем говорили эти двое, сто к одному, что невольного слушателя охватило бы удивление, граничащее с любопытством и даже страхом. Дело в том, что разговаривали оба джентльмена по-русски, а темы, которых касались они в своих разговорах, были не вполне обыденными и уж точно не сводились к традиционному мужскому обмену впечатлениями об итогах футбольного матча или достоинствах той или иной женщины или автомобиля. Стандартным набором банальностей беседа не отличалась, скорее это был разговор двух философов, чье направление мысли лежало далеко в стороне от пошлого и скучного материализма, склонного объяснять суть вещей со своей приземленной точки зрения, отметая то, что не в силах постичь. В то же время принять обоих за людей, имеющих к философии или вообще к науке хоть малейшее отношение, было бы ошибкой: философы не ездят на встречу друг с другом в черных лимузинах, их не сопровождает вооруженная и отлично тренированная охрана. Богатство никогда не было подспорьем чистой мысли, а те двое были богаты. Богаты настолько, что могли себе позволить хотя бы раз в неделю не говорить о своем богатстве и способах его преумножения. Вот почему именно сейчас тот, кто предпочитал сигареты, увлеченно рассказывал своему знакомому невероятную историю человеческой судьбы и обстоятельств, которые самым роковым образом на эту судьбу повлияли:
– И вот представь себе, все началось в Риге, – со значением в голосе заявил Любитель Сигарет.
– Интересно, – вежливо отозвался его приятель и ловко стряхнул пепел со своей сигары. Аккуратный цилиндрик бывшего табака упал на землю и немедленно сделался ее частью, превратившись в прах.
– Вернее, даже не так. Не в Риге. Все началось шестьдесят пять лет назад в каком-то российском городе. Я забыл, в каком именно. Да вот хотя бы и в Пензе, не так уж это и важно. Эта самая Алевтина родилась в июле, кажется, пятнадцатого числа. Отец у нее был военным; когда девочке исполнилось пять лет, его направили служить в Ригу, и они переехали туда всей семьей. Примерно в то же самое время в семье одного местного торговца антиквариатом тоже родилась девочка, и назвали ее Илза.
– Типично, – вновь отозвался тот, что курил сигару. – Я имею в виду, имя типичное. Прибалтийское.
– Ну да. Согласен. Так вот, эта самая Илза, не успев родиться, принялась болеть, и никто, ни один врач не мог определить характер болезни. Все только разводили руками. Нет, разумеется, улучшения были. Иначе мне и рассказывать было бы не о чем, да и не о ком. Но в целом все, как говорится, было плохо и даже еще хуже. Неизвестно, чем бы все закончилось, только однажды мать этой самой Илзы пошла, как обычно, к воскресной мессе. Она всегда ходила в один и тот же костел и никогда не опаздывала, но в тот день дочка расхворалась больше обычного, и мать задержалась дома, пока не закончился приступ. Потом дочь уснула, а мать глянула на часы и поняла, что если пойдет обычной дорогой, то пропустит половину службы. Тогда она решила пойти более коротким путем, через городское кладбище.
– Да… – задумчиво вымолвил собеседник. – Кладбище в Риге красивое. Больше похоже на парк. Тишина, покой… Туда раньше экскурсии возили. Автобусные… Извини, что я перебил, продолжай, пожалуйста.
– На дороге, ведущей через кладбище, навстречу ей попалась старуха. Вернее, так: старуха сидела на лавочке, а мать девочки быстрым шагом проходила мимо. Вот тогда старуха ее и окликнула. «Незачем, – говорит, – бежать к Богу. Бог тебе не поможет». И назвала мать по имени. Та, понятное дело, остолбенела от удивления. А притом уже вечер, сумерки, и дождь прошел недавно, кругом туман, и тут вдруг эта бабка на кладбище, которая знает, как ее зовут, и толкует о каком-то горе. А какое еще может быть горе, кроме как горе ее Илзы? Женщины, старина, они иногда гораздо быстрее соображают в таких вещах, чем мы, мужчины, вооруженные нашим прагматизмом и самоуверенностью.
– Гормоны разные, – с усмешкой заметил приятель.
– Черт его знает… В общем, пришла мать в себя и присела рядышком со старухой. Так и сидели какое-то время. Молча. А потом мать не выдержала и говорит:
«Вот я не пошла к Богу, а вместо этого села рядом с тобой. Так что же ты молчишь?»
«Думаю, помогать тебе или нет, – отвечает старуха. – А то ведь всем помогать, так, чего доброго, можно и заменить того, к кому ты только что бежала, а он известный болтун. Наобещает всего на завтра, а сегодня просит потерпеть. У тебя еще остались силы терпеть, милая моя? Остались силы видеть, как твоя Илзочка мучается сама и мучает всех вас?»
«Нет», – честно призналась мать и чуть было не заплакала – оттого что произнесла вслух свои мысли и оттого что доверила их какой-то встречной старухе.
– Ну, старуха-то, положим, далеко не первая встречная, – перебил приятель. – С ней-то как раз все понятно с самого начала.
– Ну, это тебе понятно, – возразил Любитель Сигарет с некоторым раздражением в голосе, – и вообще, могу я тебя попросить не перебивать?!
– О! – лишь развел руками второй собеседник, и сразу стало понятно, что он весь внимание и что взаимоуважение для него не пустой звук.
– Тогда старуха ощерилась своей старушечьей и оттого неприятной пастью и сказала:
«Ну, раз ты такая искренняя и честная – а это качества, которые я ценю в людях превыше всего, потому что их столь же редко можно встретить в вас, сколь ту самую ложку меда в бочке с дегтем, – то я научу тебя одному незамысловатому способу, и…»
«Моя дочь будет здорова?!» – не выдержав, спросила мать.
«Да… – старуха немного помолчала, а потом добавила: – но при этом будет страдать кто-то вместо нее. Тебя это не останавливает?»
«А я буду знать, кто это будет?»
«Нет. Не будешь».
«Не знаю, – почти сразу, не раздумывая, ответила мать. – Как-то не нравится мне твое предложение».
«Вот это мне куда понятнее, – вновь ощерилась старуха. – Теперь я вижу, что не зря мы встретились, милая. Потому что ты можешь продолжать оставаться прежней, добренькой и совестливой мещаночкой-прихожаночкой, а вот дочь твоя доживет до тринадцати лет и… умрет».
Матери очень захотелось вцепиться этой старой фурии в ее седые волосы, потому что она подумала, что та ее обманывает, но старуха продолжила:
«Умрет, если ты не сделаешь вот что. Возьми свою самую любимую драгоценность, ту, расставание с которой по силе было бы для тебя вторым после утраты дочери, раздели эту драгоценность поровну и одну половину оброни в людном месте, так, чтобы ее наверняка нашли. Тот, кто поднимет ее и присвоит, получит с ней силу того проклятья, которому я тебя научу».
И старуха произнесла нужные слова.
«А моя дочь?»
«Она будет жить и будет счастлива и здорова. И ей даже не надо будет таскать с собой ту оставшуюся половину драгоценности. Пусть делает с ней все, что захочет».
Тут вдруг мать испугалась, оттого что наконец поняла, с кем именно она сидит рядом. Она вскочила, перекрестилась, без оглядки побежала прочь и больше никогда не ходила через кладбище.
– И что? Это конец? История получилась неоконченной. – Любитель Сигар был явно разочарован, это свободно читалось на его лице.
– Да какое там… Концом тут и не пахнет, ведь в жизни семьи торговца антиквариатом все оставалось по-прежнему плохо. Илза болела, и ее болезнь сводила на нет все прочее, хорошее. Мать продолжала исправно молиться, и внезапно девочка пошла на поправку! Шли годы, о ее болезни начали постепенно забывать, и вскоре забыли совершенно. И вот ей исполнилось тринадцать лет, а той самой дочери военного, Алевтине, приехавшей из Пензы, исполнилось восемнадцать, и она перешла на второй курс Рижского педагогического института. Антиквар заболел…
– Черт знает, что за история, – фыркнул джентльмен с сигарой. – Все какие-то больные, несчастные. М-да… Чем хоть заболел-то?
– Раком.
– Свят-свят. Мрак сплошной.
– Позволь, я все же продолжу?
– Да уж теперь все равно. Говорю же, мрак. Тучи сгустились аж до самой стратосферы, и никакому ветру их не раздуть. Валяй…
– Благодарю. Так вот: антиквар скоропостижно скончался, семья, как это часто бывает при предприимчивом муже и инфантильной, безразличной к его делам жене, разорилась, и у теперь уже вдовы антиквара не осталось ничего от прежней роскоши, кроме пары бриллиантовых сережек. Каждая с камнем карата в два, и каждая могла бы стать залогом нескольких безбедных лет существования вдовы, так как речь о продолжении жизни дочери вести было бы опрометчиво. Видно было по всему, что Илзе осталось несколько дней: она лежала в кровати и ничего не могла есть. Все врачи отказались от визитов ввиду их полной бессмысленности. И вот тогда мать вспомнила ту встречу на кладбище. Она взяла одну из сережек, поднесла ее к губам умирающей дочери, затем пошептала над сережкой что-то – несколько слов, которые услышала тогда от старухи, – и, зажав драгоценность в кулаке, вышла на улицу. Она шла, не разбирая дороги, не имея в голове никакого определенного маршрута, и очнулась лишь тогда, когда оказалась на шумном дворе того самого института. Гомон счастливых, здоровых, молодых студенческих голосов вывел ее из сомнамбулического состояния и ожесточил ее сердце. Она разжала кулак и быстро, не оглядываясь, пошла прочь. Не пройдя и десяти шагов, она услышала за спиной ликующий девичий голос: «Ой! Девочки, вы только поглядите, что я нашла!» Мать с трудом удержалась от того, чтобы повернуться и поглядеть в глаза той, кого она только что обрекла на пожизненное страдание, но, вспомнив, что дома ее ждет Илза, лишь ускорила шаг. Вернувшись домой, она еще с порога увидела румянец на щеках дочери, ее улыбку и поняла, что той легче. Через месяц девочка совершенно поправилась, а оставшуюся сережку мать очень выгодно заложила в ломбарде. Предваряя вопрос о дальнейшей судьбе вдовы антиквара и ее исцелившейся дочери, я отвечу просто: не знаю. А раз не знаю, то это значит, что ничего интересного там нету, в этой истории. Так… Быт, семья, дети, муж зубной врач, счастливая бабушка, нянчащая внуков, – словом, всякая ерунда. Не стоит внимания. А вот судьба Алевтины – это отдельная история. Однако, – рассказчик взглянул на часы, – сейчас уже половина четвертого, нам пора назад, ведь мы всегда расстаемся там же, где и встречаемся, – это традиция.
– Да, да. Англия страна традиций, здесь их не принято нарушать. Но какой русский не жаждет проникнуть со своим уставом в чужой монастырь? Валяйте-ка конец, дружище.
– Вы уверены?
– Абсолютно. Не хочется возвращаться к этому в следующий вторник, к тому же тогда будет моя очередь рассказывать историю, а я не намерен уступать вам свое законное время, ха-ха-ха.
– Ну, хорошо. Алевтина подняла сережку и не смогла с ней расстаться, хотя многие подруги советовали ей избавиться от находки. Говорили, что такое невесть откуда свалившееся богатство до добра не доведет, но женщина скорее принесет в жертву многое, чем расстанется с бриллиантом в два карата. Алевтина в этом отношении исключением не стала. Рассудив, что это божий промысел (ведь ей, бедной, и мечтать о таком камне не приходилось), она пошла к одному ювелиру, попросила его сделать кольцо, и он вставил камень из сережки в золотую оправу. С тех пор проклятый камень начал действовать. Не хочу вдаваться в подробности, скажу лишь, что прошло от того времени сорок лет, и вот теперь можно воочию убедиться, чего стоила для девушки ее находка. Спустя сорок лет эта самая Алевтина, которая потеряла собственное имя и стала именоваться Тиной, оказалась в Нью-Йорке, в квартирке с тараканами на Девяносто первой Вест. Квартирка принадлежала раньше семье ее мужа – выходца из Гватемалы, алкоголика, который нашел свой конец под колесами автомобиля прямо возле собственного дома. У нее было три неудачных беременности, все закончились выкидышами. Живет она, повторюсь, в доме для бедноты, так что рядом всякий сброд: желтые, черные, красные, источник дохода которых – социальное пособие и продажа марихуаны. Двенадцать лет назад она попала в автомобильную аварию, ей перебило ноги, с тех пор она поправилась по меньшей мере на центнер, и в ногах ее остались после операции железные штыри, которые никто не хочет удалять – это слишком дорого, а пособия на операцию не хватает. Доля эмигранта – жалкое существование в нищете при отсутствии здоровья и сколько-нибудь ясной перспективы в жизни. Каково? Превратиться из цветущей, полной надежд красавицы во всеми забытую колоду! Жить воспоминаниями о собственных потерях и несчастьях и лелеять мысль о том, что все это дано ей не просто так, а во имя «чего-то высшего». Жить и не знать, что все дело в проклятом бриллианте, который мирно покоится в коробочке на полке под русскими иконами. Вот это и есть настоящий кошмар. Неведение собственного рока! Поддавшись лишь раз искушению присвоить что-то чужое, пусть и поднятое с земли, человек обрек себя на жизнь, полную страданий и тоски. Весьма похоже на нас с вами, дорогой друг. Весьма. Лишь масштаб не тот, а так все сходится. Пожалуй, что это конец. Что-то я утратил страсть рассказчика, да и мы уже на месте, как видите. Честь имею, и – до вторника?
– Да, разумеется, – рассеянно ответил Любитель Сигар. Видно было, что история ему запомнилась и сейчас еще держит его память в своих руках. – Разумеется. А насчет нас с вами… Тут вы правы в чем-то. Только, как вы там сказали-то? Масштаб? Да. К счастью, хоть масштаб у нас не тот, и нам с вами отнюдь не приходится жить в доме, кишащем наркоторговцами и мексиканскими тараканами.
Он немного помедлил, видимо собираясь с мыслями, затем посмотрел на часы и сокрушенно покачал головой:
– У нас совсем не остается времени, а ведь у меня тоже была припасена история, хотя, быть может, и не такая всеобъемлюще мистическая. Я хотел рассказать о сыне одной актрисы, известном московском рестораторе.
– О рестораторе? О том, как он учился оценивать трюфели, что ли?
Любитель Сигар смущенно хохотнул в кулак:
– Н-нет. О том, как он влюбился в своего тренера.
– ???
– Ну да, – все более уверенно продолжал человек с сигарой. – В своего тренера, черт побери! В тренера из зала с тренажерами! И всякий раз, когда они разговаривали о чем-то, в конце разговора сердце этого ресторатора разрывалось на части, и он больше всего на свете хотел броситься своему тренеру на шею, поцеловать его…
– Меня сейчас стошнит.
– Вы нелояльны к гомосексуалистам? – быстро переспросил Любитель Сигар.
– Увы, – его собеседник развел руками, – хотя и понимаю, что гомосексуалисты безобидны. Скажем так, они безобиднее террористов или сторонников холодной войны. Я, представьте себе, даже где-то в Штатах, не то в Делаваре, не то в Мэриленде, видел дорожный указатель с надписью «Гей-стрит». Каково? Я называю гомосексуалистов сексуальными левшами. Вся эта хрупкость, декаданс, жеманство их жестов, любовь к припудриванию, а в особенности те быстрые, страстные взгляды, которые они бросают на остальных мужчин, ничего кроме отторжения во мне не вызывают. А что до меня, то я все же как-то больше расположен к женщинам. Вернее, что это я говорю такое! Только к женщинам я и расположен!
Он помедлил.
– Однако чем же у них все закончилось? Тренер что, сам не был геем?
– В том-то и дело, что нет. А закончилось все тем, что ресторатору надоело отсутствие взаимности, и он отрубил тренеру голову. Так бывает, знаете ли.
– О да, сексуальные левши вообще склонны к нарушению законов. А здесь такая резкая причина для нарушения – отсутствие взаимности.
– Ах уж эта взаимность, – вздохнул Любитель Сигар. – Все беды от нее, вернее, от ее отсутствия. Так вот, он отрубил голову своему тренеру, погрузил ее в банку со спиртом и поставил ту банку в сейф. И некоторое время доставал ее оттуда и произносил перед головой длинные страстные монологи. Иногда мастурбировал. Можно сказать с уверенностью, что в этой заспиртованной голове сосредоточился смысл его жизни! А потом произошла неприятность.
– С ним?
– Нет. С головой.
– Позвольте. Какая же неприятность может произойти с мертвой головой?
– А вот может. Голова испортилась.
– Как это?