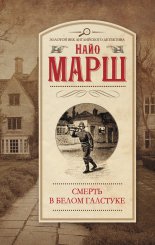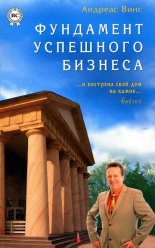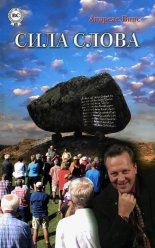Осколок империи Ерпылев Андрей
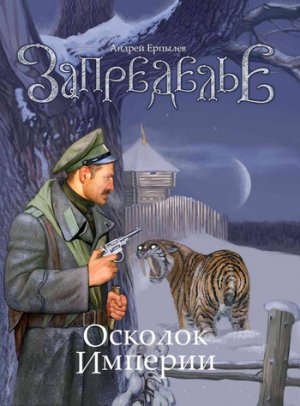
Читать бесплатно другие книги:
В высшем обществе Лондона орудует неуловимый шантажист. А единственный человек, которому удалось нап...
Прочность бизнеса, как и прочность любого здания, зависит от грунта, на котором он строится, и от ег...
Андреас Винс – президент частной академии виртуозных продаж и успешного построения бизнеса и бизнес-...
Эта книга – продолжение остросюжетной детективной истории «Как пальцы в воде», написанной мастером д...
К великому нашему сожалению, количество слов начинающихся на «не» изрядно увеличивается, ибо Яша и С...
Это история мужа и жены, которые живут в атмосфере взаимной ненависти и тайных измен, с переменным у...