Зелёная земля Клюев Евгений
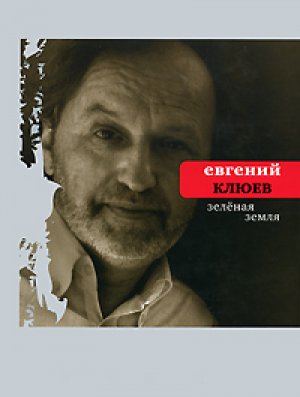
или где-то не поставил кавычки!
Вы летали без участья Тартальи,
вы слова свои, как шпаги, глотали,
а Тарталья удалился в аллею
и не в силах был помочь – сожалею!
Но не то чтоб он там был чем-то занят
и совсем не мог вмешаться, мерзавец,
только музыка уже отзвучала -
не потребовалось злого начала:
ибо что же… вы и сами с усами -
и со счастием расправились сами:
поздравляю, Ваша Честь, Ваша Милость, -
у меня бы лучше не получилось!
* * *
Какого чёрта, милое кончерто?
Оставь меня, иди к своим богам!
Душа пережила своё треченто
и кватроченто – и сказала: тщетно,
напрасно, ни к чему весь этот гам.
Забылось всё: как слушалось и пелось
и как игралось ниточками хорд,
как радовалось, как пилось и елось, -
сыта обременительная зрелость
и любит положительный исход,
а всё же, всё же… образы, стрекозы,
и ласточки, и ранняя весна:
глубокие февральские наркозы,
но сразу после – розы-грёзы-слёзы
и древняя, как небо, новизна.
* * *
Два левкоя на балконе -
знаете левкой?
Это облачко такое
и такой покой,
мотылёк такой поблёклый,
розовый такой,
огонёк такой далёкий
в поле за рекой,
поцелуй такой воздушный
из нездешних уст,
дудочки такой пастушьей
узенькая грусть.
Значит, мы простимся вскоре
с нашею тоской!
– Вы о чём?
– Я о левкое -
знаете левкой?
Итак, отказавшись от таинств,
ты хочешь от песни опять,
чтоб – кроме того, что летает, -
могла б ещё и объяснять?
Но нету у песни весенней
ни опыта, ни существа -
и нет никаких объяснений,
а только пустые слова.
И если ты можешь плениться
словами – пленись наконец:
ты арфа, ты райская птица,
ты, как тебя там… бубенец!
И ты подымаешь, как знамя,
как пламя, как пенный бокал,
своё золотое незнанье
навстречу идущим векам.
ГЕРМАНИЯ
Там музыка на дереве росла,
там что-почём совсем не понимали -
однажды в марте или позже, в мае,
какого-то безумного числа.
Там зрели на церквях колокола,
и падали, дозрев, и разбивались,
и говорят, что рядом жил Новалис,
но это очень старые дела.
А новые… запретная страна
отпетая – и сильно виновата,
и ни ответа больше, ни привета,
пал колокол, и лопнула струна.
И всё же… до всего, до нас с тобой,
до всех вокруг – однажды было: детство -
до юности, до этого вот текста,
до памяти с походного трубой,
до – до Второй октавы мировой,
до Чаплина… до всей этой печали!
Что ж… – скрипочки одни, виолончели,
да Бах, да Бог – тогда ещё живой,
да Лорелей (почти палеолит!),
да полчаса покоя nach dem Essen…
Каких потом не досчитались песен,
каких стихов, и сказок, и молитв!
* * *
Апрелем – ветреным, ничейным -
в кашне – завязанном узлом -
тоскует мир по приключеньям,
и забывает о былом,
и ходит быстрыми шагами,
и, оступиться не боясь,
почти что скачет – отвергая
весь список зимних постоянств!
Прощай, классическая пьеска:
нам, стало быть, не удались
единство времени и места,
единство действующих лиц,
прощайте, боги и богини, -
недолог был ваш строгий срок!
Никто, и Некто, и Другие
теперь вступают в диалог -
и мы уже знакомы с каждым,
они теперь в любом из нас -
как знать, что мы сегодня скажем,
а завтра сделаем… как знать!
* * *
Вот так и жизнь: шумнёт, сомнёт
цветок, платок, письмо,
упустит птичку из тенёт,
вздохнёт, всплакнёт – и всё.
Поди поймай её потом
какой-нибудь из линз!
Уже не в фокусе твой дом,
уже другая жизнь
сверкнула и почти прошла -
успеть хотя б за ней,
чтоб, скажем, с этого числа
не пропадало дней,
чтобы каждый день – на цвет и вес -
ты сразу б опознал!
Но нет, рассеянный ловец,
опять ты опоздал.
И за весёлой суетой -
поодаль, стороной -
мелькает хвостик золотой
судьбы – ещё одной.
* * *
А там – что же там… там одно никогда -
такая пустая идея!
Вертятся колёса, струится вода -
и мельница жизни поёт никогда, -
куда же ещё никогдее?
А срок… всякий срок – это несколько строк:
четыре обычно – под ними
подводит черту Иоганн Будденброк:
на нём и закончится, стало быть, срок -
куда ж ещё лишнее имя?
В домовую книгу вписав соловья,
грача и ещё куропатку,
задуматься: что за чужая семья,
и кто из них кто, и какой из них – я?
Возврат – это дело порядка.
Всё кончится там, где оно началось, -
из просто пристрастия к ритму:
и злость, побывавши любовью, во злость
вернётся: домой… – заблудившийся гость,
подмявший в пути маргаритку.
Тому-то и учит нас рифмы урок -
мятущейся странницы, давшей зарок
вернуться однажды к обеду:
и сколько б ни виться верёвочке строк,
а будет петля – и на это есть Бог,
оставивший нас на одной из дорог,
но пообещавший: приеду.
* * *
Окарина на окраине -
на окраине чего?
Окарина на окраине…
на окраине – всего.
Громыхает в кухне супница,
задевая за игру, -
если музыка оступится,
я, наверное, умру.
Ходит дудочка на цыпочках
по обрыву бытия
с горсткой нот своих рассыпчатых,
отнятых у забытья.
О, карина, как я верю Вам
в час, когда почти бегом
сон учёный с плоским веером
бродит по цепи кругом!
Стой, попавшая на удочку
вечной музыки одной,
жизнь длиною в эту дудочку,
в эту музыку длиной!
* * *
В этом возрасте стихи
никакие не стихи,
а такие пустяки!
В этом возрасте слова
никакие не слова,
а крутящиеся лихо
золотые жернова:
не порхай над ними, птаха,
улетай, пока жива!
Размолотят подчистую -
превратишься в золотую
пыль, и все тебе дела…
В этом возрасте хвала
значит больше, чем победа,
братство – больше, чем свобода,
верность – больше, чем любовь,
и смешит любая явь,
хоть никто об этой яви
всё равно судить не вправе
в этом возрасте пока.
В этом возрасте легка
мысль, и речь легка, и память,
и Господь у них – бубенчик,
а отнюдь не кто-нибудь,
ибо, мастер пустословить,
он смешлив и беззастенчив
и, конечно, знает путь!
* * *
И открытку от Вас получить вскоре -






