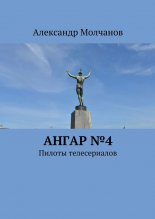Один, не один, не я Степанова Мария
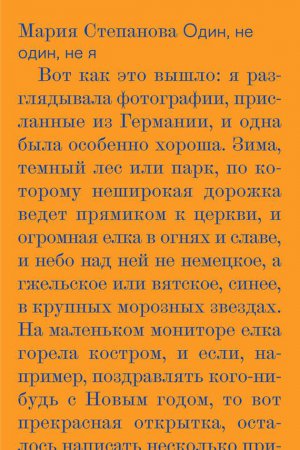
Григорию Дашевскому
Название для этой книги придумал Григорий Дашевский. Тексты, в нее вошедшие, печатались с 2005 по 2013 год в изданиях Citizen К, «Афиша», «Знамя», «Иностранная литература», «Коммерсантъ-Weekend», «Коммерсантъ-Книжный квартал», Booknik.ru, OpenSpace.ru и в сборнике «Литературная матрица». Я признательна за поддержку Joseph Brodsky Memorial Fund. Моя особая благодарность – Елене Нусиновой, без которой книги попросту не было бы.
М. С.
1. Один
Над важными гробами
Вот как это вышло: я разглядывала фотографии, присланные из Германии, и одна была особенно хороша. Зима, темный лес или парк, по которому неширокая дорожка ведет прямиком к церкви, и огромная елка в огнях и славе, и небо над ней не немецкое, а гжельское или вятское, синее, в крупных морозных звездах. На маленьком мониторе елка горела костром, и если, например, поздравлять кого-нибудь с Новым годом, то вот прекрасная открытка, осталось написать несколько приличествующих случаю слов.
Открытка («хороших новостей в новом году») ушла по нескольким адресам, и от кого-то я даже получила ответы, а месяц спустя снова открыла файл с фотографией. И – да, темный лес или парк с холмиками в снегу, кустами, церковью, елкой, ну конечно же это было кладбище. Не понимаю, как удалось не заметить с первого раза.
Но кладбище легко не различить, оно и так всегда в голове, любой мыслью, если довести ее до точки, утыкаешься именно в это: могилы без имен, полуприкрытые снегом, и в конце дороги елка (все яблоки, все золотые шары), а немного погодя – храм, все-там-будем. В акафисте об упокоении усопших про это говорится так: «Мир общая могила священная есть, на всяком бо месте прах отец и братий наших».
Нам почему-то не все равно, сколько места достанется каждому. Старинные шуточки про шесть футов английской земли («а как роста он высокого, набавят еще один») легко перекладываются на язык Ваганькова. Величина последнего земного надела словно что-то значит – и чем больше пустого пространства вокруг, тем шире, вольней, блаженнее лежать. Неясный смысл этого загробного землевладения (телу ведь равно повсюду истлевать) как бы предполагает слияние с пейзажем – и поглощение, не требующее свидетелей. Впрочем, земная доля мертвых на глазах съеживается, и вряд ли дело только в перенаселенности и тесноте.
У В. Г. Зебальда есть эссе, которое называется «Campo Santo». Оно напечатано посмертно, в тонкой книжке, где три или четыре текста образуют пунктирный, заведомо неполный контур путешествия по Корсике. Странное от них ощущение: словно автор на глазах приближается к свету в конце туннеля, о котором мы знаем из популярной литературы. Рассказчик и рассказ по ходу движения истончаются, выедаются быстрым пламенем; сама речь и ее предметы – мундир Наполеона, школьная ограда, деревенский похоронный обряд – в равной мере ослепительны и прозрачны. Автор переходит, буквы задерживаются. Неудивительно, что главный текст этой книги – о кладбище.
Зебальд жалуется там, что на Корсике больше нет привидений. По тому, как он их описывает (низкорослые, с размытыми чертами, косо прислоненные к действительности, обидчивые, как дети, и мстительные, как галки), жалеть особо не о чем. Но то, что местные мертвецы перестали получать положенные (на подоконник или порог) питье и пищу, не пугают односельчан на ночных дорогах, не заходят ни к родным, ни к чужим, печалит его больше, чем можно бы ожидать. Его странное сочувствие этому неприятному народцу, его очевидное недовольство тем, что вместо собственной земли им приходится лежать в тесноте общественного кладбища, и тем, что мертвые и живые существуют уже не на равных правах, кажется подозрительно интимным – словно у автора здесь свой интерес или своя мука. Так, в общем, и есть; это эссе написано со стороны и на стороне покойников. Тревожная настоятельность, которую придает тексту смерть самого Зебальда – нелепая гибель в автокатастрофе, – заставляет читать его как курсив, как срочную телеграмму с края света, из пограничной зоны между тем и этим. Беда в том, что, если верить смыслу сообщения, разницы между тем и этим нет.
Мертвые значат все меньше, говорит Зебальд. Мы убираем их с дороги с предельной скоростью и великим тщанием. Они отнимают у нас все меньше времени, занимают все меньше места: кремация, урны, ячейки в бетонной стене. «Кто помнит о них, кто будет о них вспоминать?» Он описывает кладбища, будто это тюрьмы или резервации (созданные, чтобы изолировать, вытеснить, придавить к земле гранитом и мрамором, оторвать от своих, окружить чужими). Он оплакивает вещи, которые умели жить десятилетиями (мы еще помним, как это было: отцовское пальто, годами служившее сыну, бабушкин наперсток, дедова готовальня, мамина память – кольцо или кресло) и внезапно оказались заменимыми. Отсутствие воли к сохранению, охватившее нас, можно описать и по-другому, как военную операцию или социальную реформу: ее задача – упразднение памяти.
Действительно, прошлое так широко, что, видимо, хочется сузить, сделать так, чтобы всего этого было поменьше: только главное, только лучшее. Мысль о том, что у истории (или культуры) есть обязательная и произвольная программа, top 5 или 10 (как в затопленном Китеже над водой видны только колокольни), не нова. Новое – непривычная усталость от того, что было до нас. Новые веяния – околофоменковские теории, сжимающие пространство и время до точки, образовательные реформы (с непременным снижением доли гуманитарных дисциплин) – все это подчинено простодушному желанию сделать проще. Чтобы глубина колодца уменьшилась хоть на треть, чтобы не так много уроков задавали, чтобы гудящий объем пройденного живого можно было скатать в компактный тугой шар (или раскатать в прозрачный и тонкий блин). Говоря словами Зебальда, «мы выбрасываем за борт балласт, забываем все, что могли бы помнить». Под ногами то ли плот «Медузы», то ли «утес не больше головы тюленя, высунувшегося из воды» из старой сказки. На нем живет свой век современность: омываемая морем мертвых, полузатопленная прошлым, в полушаге от смерти и забвения, наглухо зажмурившись.
В ситуации, когда прошлое не сохраняется, а отстраняется (так состригают волосы или ногти), мертвые не в чести. Они в положении притесняемого меньшинства. Они теряют право на наше внимание (и возможность от этого внимания уклониться); с ними уже не считаются – памятью о них располагают по своему усмотрению. В известном смысле все они вне закона: их собственность принадлежит другим, каждый может их оскорбить, мы ничего о них не знаем, но ведем себя так, словно их нет. Кладбища, эти гетто для мертвых, переезжают на окраины больших городов – за порог повседневности, и живые ездят туда несколько раз в год, с опаской, словно за линию фронта.
Потому что первое, о чем говорит кладбище, любое, большое и маленькое, заставленное мраморной скульптурицей или заросшее крапивой, – это подлинный объем всего случившегося до меня («никогда не думал, что смерть унесла столь многих»). Естественная склонность рассматривать историю как выставку достижений (или последовательность травм) здесь разом вытесняется историями другого рода. Судки, простыни, утюги, фарфор-фаянс, пеленки, детская присыпка, колечко дутого золота, нижние юбки, открытки из Горького, Чехов в издании «Нивы», санки, торт «Наполеон», профсоюзные взносы, звонить четыре раза, театральная сумочка, двушки, полушки, единый проездной (сентябрь), тетрадь для записи слов, масленка, мимоза, билет во МХАТ. Над каждой могилой, как столб, как сноп, стоит невидимый (и, может быть, сияющий, а может – лишенный всякого цвета и веса) объем бившего. Высотой он, как мне кажется, до неба, небо на нем и держится.
Что делать памяти в ситуации перепроизводства – когда кругом столько всего, столько старых горшков, очешников и перин? Столько мертвых языков, заброшенных и безымянных могил? На старом еврейском кладбище в Праге это устроено так; места было мало, а мертвых много, и годы шли. Хоронили слоями, этажами, и когда натыкались на старое надгробие – вытаскивали его на поверхность земли и ставили тут же, рядом, рядами островерхих домиков. Это, видимо, судьба любой попытки похоронить своих мертвецов: отправишь под землю мертвую идею, а из-под нее выпрастывается старая, да не одна, а три, как головы у дракона. Так выглядит история, если глядеть на нее с одной точки: ярусы и ярусы случайных соседств и безответственных аналогий; из этой точки и впрямь кажется, что прошлое пора переварить. Вывести (из организма) лишнее, ненужное, взвешенное и признанное легким. Оставить питательное, полезное, годное в дело. Убрать типовое, оставить штучное. Установить наконец вертикаль.
Но все в практике кладбища сопротивляется вертикали. Ремесло мертвых – в прямом смысле горизонтальное; они делом и телом доказывают тщету любой избирательности. Ряды, ряды и ряды, имена и даты, а бывает, что и имени не найдешь. Огромный киндергартен, ясли на миллионы мест – вот как это все выглядит, если хоть на минуту допустить, что все спящие проснутся. Дортуар под открытым небом, с кроватками (и зайчиками на дверцах шкафов). И как же нас много.
Если считать, что настоящий дом не здесь, а в открытом небе, любая мысль упирается в кладбище и бежит по нему, как по взлетной полосе. Я хотела бы, чтобы это было римское кладбище, название которого можно перевести как «кладбище инославных», Cimitero Acattolico. Там пинии, и кипарисы, и тихие медлительные кошки, и старая крепостная стена, и итальянское (дальнозоркое) небо. Персефонины гранаты там перезревают, лопаются от спелости, брызжут зернами на дорожки. Там лежат люди странной судьбы – те, кто умер в чужих краях (а если чужбина все, что не рай, эта судьба окажется и нашей). Молодые женщины («возлюбленная жена такого-то» – двадцати двух лет, двадцати шести лет, девятнадцати лет и шести месяцев, 6 февраля 1842). Маленькие дети («на крещении присутствовал Вордсворт», написано на камне) и взрослые дети («сын Гете», написано на камне). Китс, Шелли, Вячеслав Иванов (представители вертикали). А за ними, и перед ними, и вместе с ними – все-все-все, весь эпителий прошлого и настоящего, чающий (или не чающий) воскресения мертвых. Писатели четвертого разряда, эмигранты третьей волны, безвестные немцы и датчане, старые русские и новые римляне. Коитиро Ямада, родившийся в Хиросиме («что в провинции Аки»), умерший в Риме 33-х лет от роду – пятнадцатого января 1882-го. Блестящие заросли аканта. Каменный мальчик в высоких ботинках. «Да будет воля Твоя». «Zim licht». «Harmony, harmony was your last sigh».
«Блаженной памяти Роберта,
сына г. Роберта, Брауна, лондонского Купца,
по несчастию лишившегося жизни,
оступясь при выходе из Грота, Нептуна в Тиволи,
6 июля 1828. Лет ему было 21.
Будь осторожен, Читатель!
Роковая сия Случайность внезапно уничтожила
добродетельную и приветливую Юность
во цвете Здоровья и гордой Жизни.
Его безутешные Родители лишились прекраснейшего
Сына. Его Братья и Сестры, – нежного и преданного
Брата.
И вся Семья его и Друзья
понесли невосполнимую Потерю».
«Под сим камнем
покоится, тело бывшего
Императорской Российской Миссии,
псаломщика
Александра Рождественского»
«Артиллерии Капитан
Сергей Александрович
Захарьин. 1881–1944»
«Угодна бе Богови душа ея.
Незабвенной дорогой дочери
Анне Христофоровне Флеровой.
Родилась в Риме 18 авг. 1877 г.
Скончалась 12 апреля 1892 г.
До радостнаго утра покойся, милое дитя».
«Здесь похоронен красноармеец
Данилов Василий Данилович.
Верный сын Советского Народа,
участник партизанской борьбы в Италии.
Родился в 1919 г. в Калуге,
трагически погиб 6 января 1945 г.
VASSILY DANIELOVICH, 1919 † 6. J 1945»
Richard Mason
Though on the sign it is written:
«Don't pluck these blossoms» —
It is useless against the wind,
Which cannot read
В неслыханной простоте
Принято считать, что русская поэзия переживает сейчас небывалый, необыкновенный расцвет; не так давно кто-то уже сопоставлял ее с серебряным веком, кто-то аж с золотым. Я и сама говорила что-то в этом радужном роде, выражаясь, возможно, чуть аккуратней, но радуясь не меньше прочих. И было чему: середина девяностых годов действительно стала чем-то вроде поворота руля.
Все изменилось тогда, словно в старой коммунальной квартире обнаружилась новая, никем не замеченная комната, которую можно обживать и заполнять по своему вкусу. Возможность одновременного существования не трех, не пяти, а пятнадцати-двадцати больших авторских практик казалась невероятной удачей (особенно после стесненности начала девяностых годов, когда у всей поэзии сразу словно ломался голос или кончался воздух; не говорю здесь о нескольких значимых исключениях, которые для меня кажутся скорее подтверждением катастрофичности тогдашнего фона). Вскоре постоянные разговоры о цифрах (шесть у нас хороших поэтов или шестьсот, пятнадцать или двадцать пять) оказались приметой нового десятилетия; но задолго до этого привычной стала уверенность в наличии выбора, товарного ассортимента – есть и ситец, и парча, и то, и это, на любой вкус, цвет и нрав. Ощущение тепла и надежности, которое такая картина дает, – вещь естественная и невинная, но возникает оно обычно по другим поводам. Окажем, при походе в районный супермаркет, рай наличия, где отсутствие на полке какой-нибудь гречки должно ощущаться покупателем как зияние, черная прореха в ткани мироздания. Строго говоря, назначение поэзии как раз в том и состоит, чтобы быть такой прорехой, черной дырой, ведущей бог весть куда и с какими целями, усиливая неуют и уж если предлагая утешение – то очень специального свойства. Но странно было бы и не порадоваться, не так ли? И вот русская поэзия не просто оказалась хорошей и разной, но и позволила себе это осознать. И тут же, неожиданно для себя самой, превратилась во что-то вроде ВДНХ – праздничную и пеструю панораму собственного изобилия.
Откуда тогда растущая неловкость, ощущение, что картина общего праздника сильно искажена, если не фиктивна? Рыночные механизмы функционирования поэзии, как их принято описывать, объясняют и оправдывают существование литературных кланов и союзов, вражду партий, литературную борьбу со всеми ее потерями. Но не ту особенную воспаленность, которая отличает в последние годы любой разговор о стихах, выравнивая по одной гребенке СМИ и блоги. Ее и вправду объяснить нелегко – количество издательств, журналов, площадок для высказывания, поэтических серий огромно, места много всем, а разнообразие не должно бы располагать к горечи: какая вражда может быть у мясного ряда с зеленным, а у павильона «Космос» с «Коневодством»? Но ощущение какого-то неназванного, незамеченного искажения, обиды, несогласия с происходящим становится общим – и оказывается едва ли не той самой точкой консенсуса, о невозможности которой так долго говорили критики. Это чувство – «все не так, ребята» – объединяет эстетические платформы, которым в страшном сне не пришлось бы догадываться друг о друге, и делает союзниками авторов, у которых нет больше ничего общего.
Это накапливается медленно, подневно: сперва по блогам пробегает та или иная ссылка, и все идут на звук – кого-то опять обругали, пришло время читать, обсуждать, занимать и оборонять позицию. Проходит год-полтора, и этим «обругали» уже никого не удивишь – все ругают всех, сама интонация раздражения стала инструментом продвижения на литературном рынке. (Брюзжит – значит «никого не боится», «имеет право», «говорит с позиции силы» – сила здесь ключево слово.) Зато болевой точкой становится любая похвала: слова «NN хороший поэт» вызывают молниеносную реакцию: проверить на зуб, убедиться, что поэт плохой, скорей сообщить об этом миру (вырвать занозу). Тут случаются странные подмены: хороший или, чего доброго, большой поэт в контексте такого разговора о стихах понимается (и отрицается) как лучший, главный, избранник, словно заинтересованный читатель постоянно вымеряет место автора в подспудной, никем не названной табели о рангах, где любое «нравится» поднимает его на несколько невидимых ступенек. Есть и другое: кажется, что похвала (упоминание, чье угодно, публикация, где угодно), как луч фонаря в темноте, выхватывает чье-то лицо и одним этим оттесняет всех остальных во тьму внешнюю, за пределы зримого мира. Что за этим чувством стоит, кроме общего одичания, всюду видящего длинный рубль или дружескую ногу? Много чего. Отмена конвенций, позволившая наконец видеть в сложном – неудавшееся простое (и говорить о нем с солдатской прямотой). Сама себя стесняющаяся уверенность в существовании единой военной иерархии, большого генерального штаба, который только и может сделать из рекрута поэта. Глубокое недоверие к самой возможности параллельных систем, непересекающихся плоскостей и поэтик, которые не оцениваются по единой шкале. И единое для всех ощущение какой-то огромной несправедливости.
Про изменившийся воздух
На мой вкус, объяснить то, что происходит с нами, дежурным набором внешних обстоятельств, как это принято делать в литературном быту, слишком соблазнительно и просто. Партии, которые расчищают себе место под литературным солнцем, делают это старательно, но как-то не всерьез. Делить им нечего: нет ни площадки, которая могла бы стать предметом спора, ни премии, к которой с равным уважением относились бы все, ни единой аудитории, которой все хотели бы нравиться. В этом смысле ситуация располагает к миру и покою. Но покоя нет, а ощущение неправильности происходящего остается – в том числе и у меня самой.
Для начала, несмотря на все разговоры о том, что интерес к поэзии вернулся или перевернулся, сами стихи (в отличие от поэтов) вдруг перестали интересовать. Исчезло то, что можно назвать резонансом, новые имена, новые тексты падают и пропадают без звука. Видно едва на два-три метра вокруг, зрения еле хватает на ближайших соседей. От растерянности становишься не по-хорошему снисходительным: то, что раньше казалось неприемлемым, оказывается возможным, допустимым, едва ли не симпатичным. Мерещится, что, обжив недавнюю зону риска, территорию решительных действий и больших экспериментов, мы с успехом превратили ее во что-то вроде крупной госкорпорации, где сосуществование регулируется не только набором общих правил, но и подспудным равнодушием к предмету собственных занятий. Поэзия стала профессией, служение – службой (ежедневным хождением в департамент) – и никак не может это пережить.
Оно исчезло на глазах – ощущение осмысленного общего пространства, бывшее главным подарком конца девяностых – начала нулевых. В зоне кромешной неуверенности, на физическом (метафизическом тоже) сквозняке можно существовать, и как раз там поэтическая речь могла бы стать единственным инструментом познания, палкой в руках слепого. Но этого не происходит. Мы уже не наедине с собой, не в слепом пятне, как в начале девяностых, а в хорошо освещенном крупном торговом центре вроде ИКЕА. Оказать (купить, продать) тут можно все, что угодно; значит, без всего этого можно обойтись. Сама ситуация не подразумевает наличия необходимых слов. А стихи, хотелось бы верить, другими быть не должны.
Вместе с воздухом изменилось и все остальное; в первую очередь – сами стихи и то, чего мы от них ждем. Раскрошились конвенции, работавшие десятилетиями и казавшиеся незыблемыми именно в силу своей очевидности: презумпция доверия к автору (он не пытается тебя одурачить), потребность в читательском опыте (цитаты-цикады в тексте хотят быть узнанными), вера в необходимость общей работы текста и того, кто его читает. Сегодня легкая возможность почувствовать себя шарлатаном (в лучшем случае – нелепым шутником) предоставляется каждому автору: «а по-моему ты – говно» – главный модус разговора о стихах.
То, от чего нынче предлагается отказаться, – может быть, самое главное: это идея настоящего читателя, читателя из мандельштамовской статьи «О собеседнике», готового взять на себя дело понимания и сотрудничества. Новая логика предлагает обращаться к читателю с позиций официанта или повара, долг которых – обслужить клиента так, как тому это нравится. Стихи начинают восприниматься не как проводник (в дивный новый или старый мир), а как инструмент. Чего? Немедленного наслаждения, которое читатель уже заработал – просто тем, что согласился открыть стихотворный сборник. Главными достоинствами поэтического текста тогда оказываются новые, чужие вещи: энергичность, увлекательность, трогательность, удобство восприятия.
Это новый подход, хотя он должен сработать; из поэзии, как из любого другого материала, можно сделать типовой, массовый продукт. Он будет качественным, он будет радовать сотни неглупых людей и тысячи дураков, он окупится физически и символически. Другое дело – что он отнимает у стихов территорию, которую они занимали с Нового времени: они перестанут быть местом выработки нового, ареной антропологического эксперимента. Отсутствие рынка было поэзии на руку: дешевая в производстве, малопривлекательная для стороннего человека, она сама себя регулировала, сама себя спасала и уничтожала. Отдаваясь на милость читателя, ей придется согласиться на декоративное существование в комфортабельной резервации: без функции, без задачи – фоновой музыкой для чужой эмоциональной жизни.
Этот способ бытования (с оглядкой на ничей, среднестатистический вкус) делает актуальными стихи, идентифицируемые этим засредненным вкусом как «сильные», производящие впечатление на посторонних. В цене декларативность. В почете сентиментальность и все интенсивное, быстродействующее, лобовое. Повествовательность (в обиход вводятся источники интереса, не связанные прямо с поэтической материей). Форсированные, преувеличенные приемы при крайне облегченном содержании. Юмор, юмор, пламенная сатира и снова невинный юмор. Чтобы соответствовать новой роли (нравиться, бить любимым) поэт должен вести себя как циркач, демонстрируя чудеса ловкости, вращая гири и ловя фарфоровые чашки: в каждой строке по призовой метафоре, а лучше бы по две. Все неочевидное, не поражающее с первого взгляда, тонкое, легкое, зыбкое, многослойное – попросту не воспринимаются новым вкусом; у нового читателя плохо настроен звукоулавливатель.
Хорошо бы во всех этих неприятных вещах были виноваты какие-нибудь они – те посторонние, которым так легко предъявлять претензии: плохо пишут, плохо слышат, не так и не то понимают. Беда в том, что эти они – мы, что новый вкус сформировали не глянцевые журналы и не посетители литературных кафе, а мы сами, «я сама».
То, что тревожит и смущает меня-саму в последние несколько лет, я не могу назвать иначе чем опрощением, обмелением стиха. Эта тенденция кажется мне заразительной настолько, что ей почти невозможно противостоять; я вижу ее черты в работе лучших (и самых любимых мною) авторов, вижу и в собственной практике, иначе не стала бы и говорить об этом. Чтобы понять, что я имею в виду, достаточно взять наугад несколько строф из Елены Шварц или, скажем, парщиковского «Поля Полтавской битвы» и сравнить их на плотность с лучшими текстами конца нулевых. Предлагаю читателю проделать это самостоятельно; для меня этот урок – очевидный, и хочется только понять, как и почему так вышло.
Про нулевые
Нулевые годы сформировали не только новый код повседневного поведения, общедоступный потребительский идеал, но и широкие возможности для его применения. Они дали-таки нам желанный консенсус, просто он расположен не на территории вкуса. Он касается более базовых вещей: потребности в благоденствии, круговорота «хочу», «могу» и «получаю». В культурном поле это выглядит, как в любом другом магазине: мы ждем внимания к нашим желаниям, требуем качества, считаем себя экспертами. Вот почему впервые за несколько десятилетий заговорили о читателе – и немедленно призвали нас его по-быстрому развлечь; но это ладно. Важно, что развлекаться хочет и наш внутренний читатель, чувствуя, что имеет на это полное право.
Достаточно было почувствовать себя квалифицированным пользователем, гордым своей способностью выбрать товар по душе, чтобы (в применении к эзотерическим, сопротивляющимся неуловимым вещам вроде поэзии) сформировалось то, что Сьюзан Зонтаг называет новой чувствительностью. Применив к поэзии логику супермаркета, мы получаем приемы, знакомые по работе «Пятерочки», – агрессивное продвижение товара, разные виды меняющегося актуального, перепроизводство товаров повышенного спроса, глубокое равнодушие к тому, на что спроса нет. Все это вместе формирует тот самый поэтический мейнстрим, в принадлежности к которому никто не захочет признаться, но который довольно легко описать в военно-спортивных терминах – сила, успех, центр, неожиданность, мощь, точность попадания.
Лучше всего этому пониманию отвечают стихи, которых было много как раз в начале 90-х – и которые с победой вернулись на сцену в последние несколько лет: аккуратные, бодро и четко сработанные, с приемами-кунштюками, которые бицепсами перекатываются по строке: тексты-трансляторы неопределенного лирического волнения. Это, строго говоря, стихи позднесоветской школы (с ее особой, темной-нефильтрованной, тягой к красоте – лучшим словам в лучшем порядке), которые хорошо иллюстрируют специальный вкус нулевых.
Но и сложные, нелинейные стихи попадают сюда же, если они соответствуют некоторому набору внешних параметров. Сложность вполне допустима – но нарядная, щеголеватая, демонстративная, носимая напоказ. Новая чувствительность ищет избытка, полноты, душу переворачивающей эмоции, и реагирует на то, что эту эмоцию высекает. Мы уже говорили про занимательность, про потребность в фабуле, открывающей легкий путь читательской сентиментальности. Но есть и другие варианты – игра в узнавание, снимающая с антресолей старые вещи – детскую советскую память, типовой ключ к опыту, который общим только притворяется. Или прямая проповедь, уроки жизни, заповеди блаженства, расписанные на раз-два-три. Вариантов много, инвариант один: новая чувствительность использует стихи как болеутоляющее средство, ожидая от них для себя прямой и внятной пользы. Стихи должны быть больше чем стихи – сами по себе они тут без надобности.
Характерно и важно, что часто эти отличительные черты – свойства очень хороших стихов; и они там вовсе не определяющие. Но именно они маркируются господствующим вкусом как «свое», питательное, нужное, именно они определяют читательский выбор. Больше того, в каких-то случаях определенные вещи (интонации, смыслы) как бы сообщаются тексту извне, мимо авторского замысла (то есть возможность такого прочтения в самих стихах даже не содержится), вписываются туда самим читателем, вернее, определенным способом чтения, при котором все, что кажется лишним, малосущественным, вытесняется за обочину. Это можно назвать регулирующим или редактирующим чтением, которое снимает с текста исключительно пенку – нужный себе смысловой слой. Контекст, в котором сложное читается и понимается как простое – изобретение нулевых, их невеселое know-how.
Я сознательно не называю имен: моя задача – не передел иерархий с заменой одного «мейнстрима» на другой, а описание ситуации, трагически общей для всех.
Про победу сильного над тонким
А вот и имена. В давней (1999 года) статье Елена Фанайлова приводит фразу Григория Дашевского: «Тонкого много – сильного мало». Точно и рано подмеченная потребность той поры в силе (в четкой авторской позиции, в проявленности и последовательности поэтики, в – широком смысле – бескомпромиссности происходящего) по ходу времени стала общей. То есть массовой. В начале нулевых в поле зрения и обсуждения оказались авторские практики, основанные на применении разного рода силы. Радикализм средств и задач, языковые и смысловые деформации (или, наоборот, акцентированное презрение к приему), активная работа с травматическим опытом, частным и всеобщим, новая сюжетность, силком берущая на себя обязанности прозы, – все это, чего уж там, сильнодействующие средства, и с расстояния в десять-двенадцать лет я вижу, как они вызывают разом и привыкание, и отторжение. В том числе (или прежде всего) и у авторов, которые активней других с этими вещами работали. К середине десятилетия интенсивный курс был завершен и тексты стали буксовать, линять, подпитываться от внешних источников – с большим или меньшим успехом.
Насколько важным для стихов были девяностые, вторая их половина, когда в обиход поминутно вбрасывалось новое, настолько странными, зависшими, как компьютер, вышли благополучные нулевые. Время стабильности оказалось таким и для стихов; но скажу впроброс, что эти десять лет дали едва ли три-четыре по-настоящему ярких поэтических дебюта. Зато тогда же замолкали, бросали или меняли письмо поэты сложности. Назову несколько имен, отсутствие которых в повседневном обиходе кажется мне едва ли не более значимым, чем присутствие остальных. Исчезающе мало пишут Михаил Гронас и Григорий Дашевский, основной корпус текстов которых складывался в девяностые; замолчали Всеволод Зельченко, Александр Анашевич, Михаил Сухотин, перестал печататься, если не писать, Кирилл Медведев. Радикально изменились поэтики Дмитрия Воденникова, Елены Фанайловой, Сергея Круглова – и во всех трех случаях поворот был в сторону новой внятности, прямой речи, немедленного воздействия. В стороне от читательского спроса оказались авторские практики Михаила Еремина, Геннадия Айги, Всеволода Некрасова, Николая Байтова, Андрея Полякова; этот (важнейший для понимания того, что на самом деле происходило с русскими стихами в последнее десятилетие) ряд можно продолжать, пока не кончится страница.
В известном смысле с русской поэзией в это время произошло то же, что со всей страной. Выстроилась сложная и разветвленная система институций, регулирующих потребление текстов. Вслед за ней возникла система альтернативная (литературный интернет), которая моментально занялась саморегулированием, став чем-то вроде неофициальной изнанки существующей («профессиональной») системы. Сразу же стало страшно важным знать и понимать, кто именно говорит стихами и о стихах – то есть любое высказывание независимо от собственной задачи оказалось вовлечено в процесс выстраивания иерархий (откровенней всего это делается в «Живом журнале» с его вечным аргументом «да ты кто такой»). При этом критический разговор о текстах стал невозможным или необязательным, вытеснился с привычных площадок в блогосферу, так что статус разговора о стихах стал заведомо неофициальным, а сам разговор – упрощенным, фрагментарным, жестко эмоциональным. Все это как-то слепо, неосознанно копирует то, что происходило в эти годы в России, и сама случайность этого подражания делает ситуацию особенно нелепой. О другой стороны, именно умение укрощать сложное диктуется сейчас средой, носится в воздухе и висит на воротнике; без него способность к нерассуждающему удовольствию может атрофироваться.
Но у тонкого в этой системе координат попросту нет шансов. Именно тонкого нам сейчас мучительно, отчаянно недостает.
Как так вышло
Возможно, дело в том, что мы слишком близко к сердцу приняли позицию другого (другого себя, себя-читателя, себя-чужого). Мы захотели читать собственные стихи глазами соседа по купе, захотели, чтобы они нам нравились – в то время, как они должны бы пугать или поражать, а мы – быть с ними незнакомы.
Возможно, дело в том, что лицо другого придвинулось слишком близко и слишком быстро. О распространением социальных сетей непрозрачность и разделенность существования автора, стихов и читателя из естественного состояния вещей становится вопросом личного выбора (а намеренная непрозрачность – чем-то вроде экзотической аскетической практики). Ситуация, когда единицей публичного бытования текста вместо книги становится свеженаписанное стихотворение, которое к тому же и пишется зачастую на миру, на чужих глазах, многое меняет. Относиться к стихам теперь можно как к разменной монете коммуникации, одной из бытующих валют. Возможность немедленной реакции на текст делает его еще больше похожим на товар, услужливо доставленный на дом (комментарии к стихам сдаются читателями, как сдача с купюры, внося дополнительную подсветку успеха или неуспеха). Стихи стали сообщением, плохо (косо) пристроенным к адресату; встали рядом с записью в блоге, фотографией в ленте фейсбука. Впрочем, легко сказать, что жалеть не о чем: в конце концов и картина – давно уже не окно в глухой стене, каким она была в старые годы.