Голливудские триллеры. Детективная трилогия Брэдбери Рэй
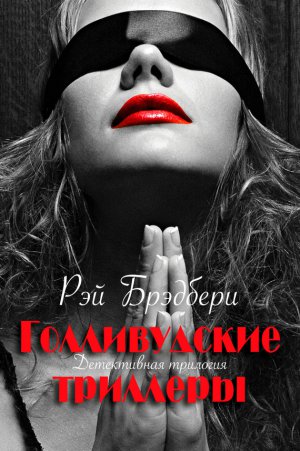
— Неужели вы в это верите?
— Не верю, но похоже на то. Дайте мне еще ружье.
— Да вам уже и стрелять-то неохота.
— Охота! Но денег у меня нет, так что буду палить в долг, — заявил я.
Она долго всматривалась в меня. Потом протянула ружье и напутствовала:
— Ухлопай-ка их всех, ковбой. Задай им жару, чертяка!
Я выстрелил еще шестнадцать раз и случайно попал в две мишени, хотя даже не видел их — так у меня запотели очки.
— Ну что, хватит? — раздался позади спокойный голос Энни Оукли.
— Нет! — заорал я. Но потом сбавил тон: — Ладно, хватит. А чего это вы вышли из тира на дорожку?
— Да испугалась, как бы меня не подстрелили. Объявился тут, знаете, один маньяк, разрядил два ружья не целясь!
Мы посмотрели друг на друга, и я расхохотался.
Энни послушала, послушала, а потом спросила:
— Вы смеетесь или плачете?
— А вам как кажется? Мне надо что-то сделать. Немедленно. Скажите только — что?
Она посмотрела на меня долгим изучающим взглядом и начала убирать бегущих уток и пляшущих клоунов, гасить свет. Открыв дверь, ведущую во внутренние помещения, она встала на пороге, освещенная сзади, и проговорила:
— Если все еще хочется выстрелить, вот вам цель! — И ушла.
Только спустя полминуты до меня дошло, что она приглашает меня последовать за ней.
— И часто ты такое выкидываешь? — спросила меня Энни Оукли.
— Прости, пожалуйста, — извинился я.
Я лежал на одном краю ее кровати, она — на другом, покорно слушая мои излияния про Мехико-Сити и про Пег, про Пег и про Мехико-Сити, которые так далеко, что можно сойти с ума.
— А я всю жизнь, — вступила в разговор Энни Оукли, — сплю с парнями, которым со мной либо до смерти скучно, либо они рассказывают мне про других женщин, либо курят, либо, стоит мне выйти в ванную, садятся в свои машины и смываются. Знаешь, как меня зовут на самом деле? Лукреция Изабель Клариса Аннабелла Мария Моника Брауди. Это моя мамаша так меня нарекла. А я какое имечко выбрала? Энни Оукли. Вся беда, что я тупая. Мужчины через десять минут уже не знают, как от меня сбежать. Тупица. Прочту книгу, а через час уже ничего не помню! Ничего в башке не задерживается. Я чего-то разболталась, да?
— Немножечко, — ласково сказал я.
— Казалось бы, парни радоваться должны, что им Бог посылает дуру, но им со мной быстро становится невтерпеж. Все эти годы каждую ночь на том месте, где ты лежишь, лежит какой-нибудь охламон — каждую ночь другой. А эта чертова сирена в тумане знай воет! Тебя не доводит ее вой? В иную ночь, даже если рядом валяется какой-нибудь придурок, стоит этой сирене завыть, я до того завожусь! Такой себя одинокой чувствую! А он уже ключи от машины достает и на дверь поглядывает.
Зазвонил телефон. Энни схватила трубку, послушала, сказала:
— Черт возьми! — И передала трубку мне: — Тебя.
— Быть не может, — возразил я. — Никто не знает, что я здесь.
Но трубку взял.
— Что ты у этой делаешь? — спросила Констанция Раттиган.
— Да ничего. Как ты меня разыскала?
— Мне кто-то позвонил. Какой-то голос посоветовал проверить, нет ли тебя у нее? И трубку повесил.
— Господи! — Я похолодел.
— Быстро выбирайся из тира, — приказала Констанция. — Ты мне нужен. Твой подозрительный дружок нанес мне визит.
— Мой дружок?
Под тиром ревел океан, сотрясая комнату и кровать.
— Возникал внизу, на берегу, два вечера подряд. Приходи, надо его припугнуть, о господи!
— Констанция!
Трубка молчала, слышен был только шум прибоя под окнами Констанции Раттиган. Потом она проговорила странным, каким-то неживым голосом:
— Он и сейчас там.
— Не показывайся ему.
— Этот идиот стоит у самой воды. Там, где стоял прошлой ночью. Просто стоит и смотрит на окна, будто ждет меня. К тому же этот болван голый. Что он себе воображает? Что обезумевшая старуха выскочит из дому и оседлает его? Господи!
— Констанция, закрой окна и погаси свет.
— Нет, нет! Он пятится в море. Может, услышал мой голос. Может, думает, что я вызываю полицию.
— Вот и вызови ее!
— Исчез! — Констанция шумно вздохнула. — Приходи, малыш. Побыстрее!
Трубку она не повесила. Просто выпустила из рук и отошла. Мне было слышно, как стучат ее каблуки, будто кто-то печатает на машинке.
Я тоже не повесил трубку. Положил ее почему-то рядом с собой, будто это была пуповина, связывающая меня с Констанцией Раттиган. Пока я не повешу трубку, она не умрет. Я слышал, как ночной прилив подступает к концу ее телефонной линии.
— Все как с другими. Теперь и ты уходишь, — прозвучало рядом.
Я повернулся.
Энни Оукли сидела, завернувшись в простыни, как брошенный ламантин[142].
— Не вешай, пожалуйста, трубку! — попросил я.
А сам подумал: «Пока я не доберусь до конца линии и не спасу чью-то жизнь».
— Тупая я, — сказала Энни Оукли. — Потому и уходишь, что я дура.
Ох и страшно было мчаться ночным берегом к дому Констанции Раттиган! Мне все мерещилось, что навстречу несется отвратительный мертвец.
— Господи! — задыхался я. — Что же будет, если я наскочу на него!
— Ух! — завопил я.
И врезался в довольно плотную тень.
— Слава богу, это ты! — воскликнула тень.
— Нет, Констанция! — возразил я. — Слава богу, что это ты!
— Что тебя так разбирает? Что нашел смешного?
— Вот это! — Я похлопал по большим ярким подушкам, на которых возлежал. — За сегодняшнюю ночь я уже переменил две постели!
— Лопнуть можно со смеху! — отозвалась Констанция. — А как ты посмотришь, если я расквашу тебе нос?
— Констанция, ты же знаешь, моя девушка — Пег. Просто мне было тоскливо. Ты не звонила столько дней! А Энни всего-навсего позвала меня поболтать в постели. Я же не умею врать, все равно физиономия меня выдаст. Посмотри на меня!
Констанция посмотрела и расхохоталась:
— Господи, прямо яблочный пирог с пылу, с жару! Ладно уж. — Она откинулась на подушки. — Вот, наверно, я тебя сейчас напугала!
— Надо было подать голос еще издали.
— Ох, я так обрадовалась тебе, сынок! Прости, что не звонила. Раньше мне хватало пары часов, и я забывала о похоронах. А теперь который день не могу опомниться.
Она повернула выключатель. В комнате стало темней, заработал шестнадцатимиллиметровый проектор.
Два ковбоя молотили друг друга на белой стене.
— Как ты можешь смотреть фильмы в таком настроении? — удивился я.
— Хочу разогреться как следует — если мистер Голый завтра опять пожалует, выскочу и оторву ему башку.
— Не смей даже шутить так! — Я посмотрел в высокое окно на пустынный берег. Только белые волны вздымались на краю ночи. — Как ты считаешь, это он позвонил тебе и сообщил, что я у Энни, а сам отправился покрасоваться на берегу?
— Нет. У того, кто звонил, был не такой голос. Тут, наверно, замешаны двое. Господи! Ну я не знаю, как это объяснить. Понимаешь, тот, кто появляется голый, он, наверно, какой-нибудь эксгибиционист, извращенец, правда? Иначе он ворвался бы сюда, измордовал бы старуху, или убил, или и то и другое. Нет, меня больше напугал тот, кто звонил, — вот от него меня действительно затрясло.
«Представляю, — подумал я. — Я ведь слышал, как он дышит в трубку».
— У него голос форменного выродка, — сказала Констанция.
«Да», — мысленно согласился я с ней — и будто услышал, как где-то вдалеке заскрежетал большой красный трамвай, поворачивая под дождем, и как голос за моей спиной бубнил слова, ставшие названием для той книги, что пишет Крамли.
— Констанция… — начал я, но замолчал. Я собрался сказать ей, что уже видел этого обнаженного на берегу несколько вечеров назад.
— У меня есть поместье к югу отсюда, — сказала Констанция. — Завтра я хочу поехать туда, проверить, как там. Позвони мне попозже вечером, ладно? А пока наведешь для меня кое-какие справки, согласен?
— Любые! Ну какие только смогу!
Констанция наблюдала за тем, как Уильям Фэрнам сбил своего брата Дастина с ног, поднял и снова свалил одним ударом.
— Мне кажется, я знаю, кто этот мистер Голый.
— Кто?
Она оглядела волны прибоя, словно дух неизвестного все еще витал там.
— Один сукин сын из моего прошлого. Голова у него как у отвратного немецкого генерала, а тело — тело лучшего из лучших юношей, что когда-либо летом резвились на берегу.
К зданию с каруселями подкатил мопед, на нем сидел молодой человек в купальных трусах, загорелый, блестящий от крема, великолепный. На голове у него был массивный шлем, темное забрало закрывало лицо до самого подбородка, так что я не мог его разглядеть. Но тело молодого человека просто поражало красотой — пожалуй, ничего подобного я в жизни не видел. При взгляде на него я вспомнил, как много лет назад встретил такого прекрасного Аполлона: он шагал вдоль берега, а за ним, не сводя с него глаз, завороженные сами не зная чем, следовали мальчишки. Они шли, словно овеваемые его красотой, влюбленные, но не сознающие, что это — любовь; став старше, они будут гнать от себя это воспоминание, не решаясь заговорить о нем. Да, существуют такие красавцы на свете, и всех — и мужчин, и женщин, и детей — тянет к ним, и это — чудесное, чистое, светлое влечение, оно не оставляет чувства вины, ведь при этом ничего не случается, решительно ничего не происходит. Вы видите такую красоту и идете за ней, а когда день на пляже кончается, красавец уходит, и вы уходите к себе, улыбаясь радостной улыбкой, и когда час спустя поднимаете руку к лицу, обнаруживаете, что она так и не исчезла.
За целое лето на всем берегу вы встретите юношей или девушек с подобными телами лишь однажды. Ну от силы два раза, если боги вздремнули и не слишком ревниво следят за людьми.
И сейчас, восседая на мопеде, на меня глядел через темное непроницаемое забрало истинный Аполлон.
— Что, пришли проведать старика? — раздался из-под забрала гортанный, раскатистый смех. — Прекрасно! Идемте!
Он прислонил мопед к стене, вошел в дом и стал впереди меня подниматься по лестнице. Как газель, он в несколько прыжков взлетел наверх и скрылся в одной из комнат.
Чувствуя себя древним старцем, я поднимался следом, аккуратно ступая на каждую ступеньку.
Войдя за ним в комнату, я услышал, как шумит душ. Через минуту он появился совершенно обнаженный, блестя от воды и все еще в шлеме. Он стоял на пороге ванной, глядя на меня, как смотрятся в зеркало, явно довольный тем, что видит.
— Ну, — спросил он, так и не снимая шлема, — как вам нравится этот самый прекрасный юноша на свете? Этот молодой человек, в которого я влюблен?
Я густо покраснел.
Он рассмеялся и стащил с себя шлем.
— Боже! — воскликнул я. — Это и вправду вы!
— Старик! — сказал Джон Уилкс Хопвуд. Он посмотрел на свое тело и заулыбался. — Или юнец? Кого из нас вы предпочли бы?
Я с трудом перевел дух. Нельзя было медлить с ответом. Мне хотелось скорее сбежать вниз, пока он не запер меня в этой комнате.
— А это зависит от того, кто из вас стоял поздно вечером на берегу под окнами Констанции Раттиган.
И тут, словно это заранее было срепетировано, внизу в ротонде заиграла каллиопа и закружилась карусель. Казалось, дракон заглотил отряд волынщиков и пытается их изрыгнуть, не беспокоясь о том, в какой последовательности и под какой мотив.
Юный старец Хопвуд, словно кошка, растягивающая время перед прыжком, повернулся ко мне загорелой спиной, рассчитывая вызвать новый приступ восхищения.
Я зажмурился, чтобы не видеть этого золотого блеска.
А Хопвуд тем временем решил, что сказать:
— С чего вы взяли, что такая старая кляча, как Раттиган, может меня интересовать? — И, потянувшись за полотенцем, он стал растирать грудь и плечи.
— Сами же говорили, что вы были главной любовью ее жизни, а она — вашей и что вся Америка в то лето была влюблена в вас, влюбленных.
Хопвуд повернулся, чтобы проверить, отражается ли на моем лице ирония, которую он заподозрил в голосе.
— Это она подослала вас, чтобы меня отвадить?
— Возможно.
— Скажите, сколько раз вы можете отжаться? А способны вы шестьдесят раз пересечь бассейн? А проехать на велосипеде сорок миль, даже не вспотев? Причем ежедневно? А какой вес вы можете поднять? А сколько человек (я отметил, что он сказал «человек», а не «женщин») поиметь за ночь? — сыпал вопросами Хопвуд.
— Нет, нет, нет и нет на все ваши вопросы, а на последний — ну, может быть, двух, — отчеканил я.
— Тогда, — произнес Гельмут Гунн, поворачиваясь ко мне великолепной грудью Антиноя, ничуть не уступающей его золотой спине, — выходит, что угрожать мне вы никак не можете! Ja?[143]
Из его рта, в точности похожего на разрез бритвой, из-за блестящих акульих зубов с шипением и свистом вырывались слова:
— Я ходил и буду ходить по берегу!
«Ну да, — подумал я, — впереди гестапо, а сзади сонм солнечных юношей!»
— Не собираюсь ничего подтверждать. Может, я там и был когда-нибудь. — Он показал подбородком на берег. — А может, нет!
Его улыбкой можно было вскрыть вены на запястьях.
Он бросил мне полотенце. Я его подхватил.
— Вытрите мне спину, ладно?
Я отшвырнул полотенце. Оно упало ему на голову, закрыв лицо. На секунду злобный Гунн исчез. Остался лишь Солнечный принц Аполлон, чьи ягодицы блестели, как яблоки в садах у богов.
Из-под полотенца раздался спокойный голос:
— Интервью окончено.
— А разве оно начиналось? — удивился я.
И пошел по лестнице вниз, откуда поднималась драконья музыка осипшей каллиопы.
На венецианском кинотеатре не было ни одной афиши.
Все надписи исчезли.
Несколько минут я вчитывался в пустоту, чувствуя, как у меня в груди что-то переворачивается и испускает дух.
Обойдя кинотеатр со всех сторон, я подергал двери — они были заперты, заглянул в кассу — она пустовала, оглядел еще раз щиты для афиш. Всего несколько вечеров назад с них улыбались Барримор, Чейни и Норма Ширер. Сейчас они были пусты.
Я отошел назад и напоследок снова медленно вчитался в пустоту.
— Хотите… — раздался вдруг сзади чей-то голос.
Я круто повернулся. Передо мной стоял улыбающийся мистер Формтень. Он вручил мне большой сверток киноафиш. Я знал, что это такое. Мои дипломы об окончании института Носферату[144], училища Квазимодо, аспирантуры Робин Гуда и д’Артаньяна.
— Мистер Формтень, ну как вы можете отдать их?
— Вы же романтик, верно?
— Ну да, но только…
— Берите, берите! До свидания и прощайте! Но вон там вы сейчас увидите другое прощание. Kummen-sei pier oudt![145]
Дипломы остались у меня в руках, а он потрусил к пирсу.
Я догнал его в самом конце, он указал пальцем в воду и наблюдал, как я, сморщившись, ухватился за перила и склонился вниз.
Под водой лежали ружья; в первый раз за долгие годы они молчали. Лежали на дне, на глубине футов пятнадцати, но вода была прозрачная, потому что вышло солнце.
Я насчитал целую дюжину длинных, холодно поблескивающих металлом стволов, мимо них плавали рыбы.
— Вот это прощание так прощание! — Формтень проследил за моим взглядом. — Одно за другим! Одно за другим! Сегодня рано утром. Я подбежал, кричу: «Что вы делаете?» А она говорит: «А как по-вашему?» И снова одно за другим, одно за другим. «Вас закрывают, и меня сегодня закроют, — говорит, — так что какая разница!» И все кидает и кидает ружья.
— А она… — начал я и остановился. Вгляделся в воду под пирсом и вокруг него. — Она сама как?
— Не прыгнула ли вслед за ними? Нет, нет! Постояла тут еще со мной, посмотрела на океан. «Они здесь долго не пролежат, — посмеялась, — через неделю ни одного не останется. Мальчишки-дураки начнут нырять за ними. Верно?» Что я ей мог ответить? «Да», — говорю.
— Что-нибудь она сказала напоследок?
Я не мог отвести глаз от длинных ружей, поблескивающих в прибывающей воде.
— Сказала, что уедет пасти коров. Только, говорит, не быков, чтобы быков и близко не было. Будет доить коров и сбивать масло — вот все, что я от нее услышал.
— Надеюсь, так и будет, — сказал я.
Среди ружей вдруг замельтешили целые стаи рыб, будто приплывших поглазеть на оружие. Но ружья безмолвствовали.
— Как приятно, что они молчат, правда? — сказал Формтень.
Я кивнул.
— Не забудьте афиши, — напомнил Формтень. Дипломы выпали у меня из рук. Он подобрал их и снова дал мне — эти свидетельства моих увлечений в младые годы, когда я мальчишкой носился взад-вперед по темным проходам между рядами с попкорном в руках, плечом к плечу с Призраком и Горбуном.
Возвращаясь, я прошел мимо маленького мальчика — он разглядывал останки «русских горок», громоздившиеся на песке, словно куча костей.
— Почему этот динозавр умер здесь, у нас на берегу? — спросил мальчик.
Я первый принял эти обломки за динозавра. Мне было досадно, что и мальчик увидел разрушенный аттракцион моими глазами — мертвое чудовище, выброшенное приливом.
Мне хотелось крикнуть:
«Не смей их так называть!»
Но вслух я ласково проговорил:
— О боже, сынок, я и сам не знаю.
И, повернувшись, побрел прочь, унося с собой с пирса невидимую охапку ружей.
В эту ночь мне приснились два сна.
В первом лавочку имени Зигмунда Фрейда и Шопенгауэра, где А. Л. Чужак торговал картами Таро, разнес в щепки озверевший от голода гигантский экскаватор, так что книги маркиза де Сада и Де Куинси, Сартра и больных дочерей Марка Твена[146] покачивались на волнах в темной воде, опускаясь на блестевшие на дне ружья из тира.
Второй сон был как виденный мной когда-то фильм о семье русского царя: их выстроили в ряд у вырытых могил и начали по ним стрелять, а они дергались, подпрыгивали, словно персонажи немых фильмов, и один за другим, будто пробки из бутылок, уничтоженные, сшибленные с ног, падали в яму. А вас в это время душил идиотский смех. Истерический! Неестественный! Бамс!
В моем сне в яму падали друг за другом Сэм, Джимми, Пьетро, леди с канарейками, Фанни, Кэл, старик в львиной клетке, Констанция, Чужак, Крамли, Пег и я сам!
Бамс!
Я в ужасе проснулся, обливаясь ледяным потом.
Телефон на заправочной станции напротив моего дома заходился звонками.
Замолчал.
Я затаил дыхание.
Он прозвонил еще один раз и снова смолк.
Я ждал.
Опять один звонок и молчание.
«Господи, — подумал я, — Пег так звонить не станет. Крамли тоже. Один звонок и вешают трубку. Кто же это?»
Телефон опять прозвонил один раз, и снова тишина.
Это он! Мистер Одинокая Смерть! Звонит, чтобы сообщить мне о том, чего я знать не хочу!
Я сел в постели, волоски у меня на груди встали дыбом, будто Кэл прошелся своим электрическим парикмахерским шмелем по моей шее, едва не задев нерв.
Я оделся и выбежал на берег. Глубоко втянул в себя воздух и удивленно уставился вдаль.
Южнее, на берегу, пылали огнями окна мавританской крепости Констанции Раттиган.
«Констанция! — подумал я. — Фанни это не понравилось бы».
«Фанни?»
И тут я пустился бежать.
Покинув линию прибоя, я двинулся на берег, как сама Смерть.
В замке Констанции все лампы были зажжены, все двери распахнуты, будто она решила впустить к себе всю природу, весь мир, и ночь, и ветер — пусть наведут порядок в доме, пока ее нет.
А ее не было.
Я понял это, даже не входя внутрь, потому что к волнам прилива вела длинная цепочка ее следов. Я остановился и попытался разглядеть, в каком месте они исчезли в воде, чтобы никогда больше не появиться.
Я не был удивлен. И сам поражался тому, что не был удивлен. Подойдя к широко раскрытой парадной двери, я чуть не позвал шофера, посмеялся над собственной глупостью и, ни до чего не дотрагиваясь, вошел внутрь. В арабской гостиной играл патефон, танцевальная музыка 1934 года. Какие-то мелодии из спектаклей Ноэля Кауарда[147]. Я не стал выключать патефон. Кинопроектор тоже был включен, пленка прокрутилась до конца, фильм завершился, и пустую стену освещал белый глаз кинолампы. Я не выключил и ее. В ведерке со льдом ждала бутылка французского шампанского, будто Констанция вышла на берег, собираясь привести к себе в гости золотого морского бога, выплывшего из глубин.
На подушке была приготовлена тарелочка с разными сырами, рядом уже запотевший шейкер с мартини. Лимузин стоял в гараже, а следы на песке все не исчезали, и вели они только в одну сторону. Я позвонил Крамли и поздравил себя с тем, что даже не плачу — до того ошеломлен.
— Крамли? — спросил я трубку. — Крамли, Крам, — позвал я.
— А, дитя ночи! — отозвался он. — Опять не на ту лошадку поставили?
Я объяснил ему, откуда звоню.
— Что-то меня ноги не держат. — И внезапно я сел, не выпуская трубку из рук. — Приезжайте за мной!
Крамли нашел меня на пляже.
Мы стояли, глядя на ярко освещенный арабский форт, он казался празднично украшенным шатром посреди песчаной пустыни. Дверь, выходившая на берег, так и оставалась распахнутой, и из нее лилась музыка. Запас пластинок никак не хотел кончаться. «Сезон сирени» сменяла «Диана», потом — «Языческая любовная песня», за ней — «Послушайте песню о Ниле». Я так и ждал, что вот-вот появится растрепанный, с безумными глазами Рамон Наварро, вбежит в дверь, выскочит обратно и бросится по берегу к морю.
— А здесь только я и Крамли.
— Что?
— Я и не заметил, что думаю вслух, — извинился я.
Мы медленно пошли к дому.
— Вы что-нибудь трогали?
— Только телефон.
У входа я пропустил Крамли внутрь, чтобы он мог все осмотреть, а сам подождал, когда он выйдет.
— А где шофер?
— Вот об этом я вам еще не сказал. Никакого шофера никогда не было.
— То есть?
Я объяснил ему, как Констанция Раттиган развлекалась, играя разные роли.
— Выходит, в собственном лице она имела целое созвездие звезд, все роли исполняла сама, — хмыкнул Крамли. — Здорово! Как говорится, чем дальше — тем смешнее.






