Блаженство (сборник) Быков Дмитрий
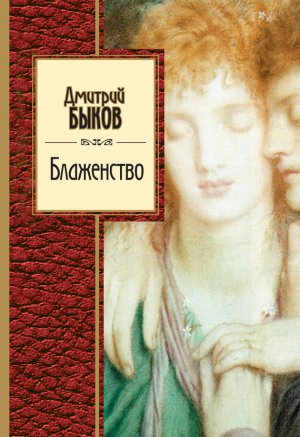
1. «Все надоело, все. Как будто стою в бесконечной…»
- Все надоело, все. Как будто стою в бесконечной
- пробке —
- При этом в каждой машине гремит попса.
- Тесно и пусто разом, как в черепной коробке
- Выпускника ПТУ из Череповца.
- Все впечатленья не новы, и все хреновы.
- Как будто попал в чужой бесконечный сон,
- В котором структуралисты с фамилиями на -сон
- Толкуют мне тексты почвенников с фамилиями на -овы
- И делают это под звуки FM «Шансон».
- Все надоело, все: бормотанье слов, немота предметов,
- Зимняя нежить, летняя духота.
- Всех утопить: я знаю, что скажут мне тот и этот,
- Все, что попросит эта и спросит та.
- И если даже в гнилой закат подмешают охру,
- И к власти придет осмысленный индивид,
- И если им буду я, и даже если я сдохну, —
- Все это меня не особенно удивит.
- Предвестие это прорыва или провала —
- Бог весть.
- Господи, дай мне сделать, чего еще не бывало,
- Или верни снисхожденье к тому, что есть.
2. «Исчерпаны любые парадигмы…»
- Исчерпаны любые парадигмы.
- Благое зло слилось со злым добром.
- Все проявленья стали пародийны,
- Включая пытку, праздник и погром.
- «Проект закрыт», – напишут Джеймсы Бонды
- И улетят.
- Проект закрыт. Все могут быть свободны,
- Но не хотят.
- Из темноты выходит некий некто
- И пишет красным буквы на стене.
- Что будет после этого проекта,
- Судить не мне.
- На стыке умиления и злости,
- Ощипанный, не спасший Рима гусь,
- Останусь здесь играть в слова и кости,
- Покуда сам на них не распадусь.
Венеция
- Сваи, сети. Обморочный морок
- Сумеречных вод.
- Если есть на свете христианский город,
- То, пожалуй, вот.
- Не могли ни Спарта, ни Египет,
- Ни Отчизна-мать,
- Так роскошно, карнавально гибнуть —
- И не умирать.
- Оттого-то, прян и сладок,
- Двести лет сиял ее расцвет,
- Но искусство в том, чтобы упадок
- Растянуть на триста лет.
- Вечно длится сонная, вторая,
- Жизнь без дожа и купца:
- Утопая, тая, умирая —
- Но всегда не до конца.
- Маньеризм люблю венецианский,
- Ренессанс на крайнем рубеже —
- Тинистый, цианистый, тиранский,
- Тицианистый уже,
- Где в зеленой гнили по колено —
- Ряд дворцов, но пусто во дворцах,
- И зловонная сухая пена
- Оседает на торцах.
- Смех и плеск, и каждый звук извилист,
- Каждый блик – веретено.
- Эта гниль – сама неуязвимость:
- Что ей сделается? Но —
- Но внезапно, словно Мойра,
- Чьи черты смеются, заострясь, —
- Налетает ветер с моря,
- Свежий зов разомкнутых пространств.
- Хорошо в лагуне плавать —
- И лицом поймать благую весть:
- Этот мир – одна гнилая заводь,
- Но в соседстве море есть.
- Увидав прекрасный первообраз,
- Разлюбил я Петроград —
- Скудную, неласковую область
- Утеснений и утрат.
- Даже статуя в аллее
- Чересчур телесна и жива.
- Эта гниль соленая милее
- Пресной прямизны твоей, Нева.
- Ни собор в закатной позолоте,
- Ни на мраморе пиит…
- Бесполезно строить на болоте
- То, что на море стоит.
Пэон четвертый
О Боже мой, какой простор! Лиловый, синий, грозовой, – но чувство странного уюта: все свои. А воздух, воздух ледяной! Я пробиваю головой его разреженные, колкие слои. И – вниз, стремительней лавины, камнепада, высоту теряя, – в степь, в ее пахучую траву! Но, долетев до половины, развернувшись на лету, рванусь в подоблачье и снова поплыву.
Не может быть: какой простор! Какой-то скифский, а верней – дочеловеческий. Восторженная дрожь: черносеребряная степь и море темное за ней, седыми гребнями мерцающее сплошь. Над ними – тучи, тучи, тучи, с чернотой, с голубизной в разрывах, солнцем обведенные края – и гроздья гроз, и в них – текучий, обтекаемый, сквозной, неузнаваемый, но несомненный я.
Так вот я, стало быть, какой! Два перепончатых крыла, с отливом бронзовым, – смотри: они мои! Драконий хвост, четыре лапы, гибкость змея, глаз орла, непробиваемая гладкость чешуи! Я здесь один – и так под стать всей этой бурности, всему кипенью воздуха и туч лиловизне, и степи в черном серебре, и пене, высветлившей тьму, и пустоте, где в первый раз не тесно мне.
Смотри, смотри! Какой зловещий, зыбкий, манкий, серый свет возник над гребнями! Летучая гряда, смотри, разверзлась и раздвинулась. Приказ или привет – еще не ведаю; мне, стало быть, туда. Я так и знал: все только начато. Я чувствовал, что взят не ради отдыха. Ведь нас наперечет. Туда, туда! Клубится тьма, дымится свет, и дивный хлад, кристальный душ по чешуе моей течет.
Туда, на зов, на дымный луч! Лети, не спрашивай причин, без сожаления о первом из миров, – туда, в пространство зыбких форм, непостижимых величин, чудесных чудищ, грозных игрищ и пиров! Туда, где облачных жаровен тлеют угли, где в чаду сраженья горнего грохочет вечный гром, туда, где в битве, час не ровен, я, глядишь, опять паду и вновь очнусь, уже на ярусе втором.
Лечу, крича: «Я говорил, я говорил, я говорил! Не может быть, чтоб все и впрямь кончалось тут!» Как звать меня? Плезиозавр? Егудиил? Нафанаил? Левиафан? Гиперборей? Каталабют? Где я теперь? Изволь, скажу, таранить облако учась одним движением, как камень из пращи: пэон четвертый, третий ярус, пятый день, десятый час. Вот там ищи меня, но лучше не ищи.
Новая графология
- Ключом не мысля овладеть,
- Ни сквозь окошко подглядеть,
- Ни зренье робкое продеть
- В глазок замочный, —
- Устав в неведенье страдать,
- Берусь по почерку гадать,
- Хоть это опыт, так сказать,
- Опять заочный.
- О этот почерк! О позер!
- Виньетка, вымарка, узор,
- Мелькают контуры озер,
- Бутонов, почек,
- Рельефы пустошей, столиц,
- Черты сливающихся лиц,
- Мокриц, блудниц, бойниц, больниц…
- Красивый почерк.
- В нем полноправно прижилась
- Колючей проволоки вязь,
- В нем дышит ярость, накалясь
- До перестрелок;
- Из четких «т» торчит топор,
- И «о» нацелились в упор;
- Он неразборчив до сих пор,
- Но он не мелок.
- Любя поврозь талант и вкус,
- Я мало верю в их союз
- (Как верят, может быть, француз
- Иль немец хмурый):
- Ты пишешь левою ногой,
- Пургой, нагайкой, кочергой,
- Ты занимаешься другой
- Литературой.
- Ты ценишь сильные слова
- И с бою взятые права.
- Перед тобою все – трава,
- Что слабосильно.
- К бойцам, страшащимся конца,
- Ты также не склонишь лица.
- Ты мучим званием отца,
- Но любишь сына.
- Во избежание вранья
- Я всех сужу по букве «Я»,
- Что смотрит, вызов затая,
- Чуть исподлобья:
- В ней откровенье всех творцов
- И проговорка всех писцов,
- И лишь она, в конце концов,
- Твое подобье.
- Вот ковыляет, чуть жива,
- На тонких ножках голова,
- Хрома на обе и крива,
- Как пес травимый,
- Но что за гордость, Боже мой,
- В ее неловкости самой,
- В ее отдельности прямой,
- Непоправимой!
- По ней-то судя, по кривой,
- Что, как забытый часовой,
- Торчит над топью и травой
- Окрестной речи,
- Мы, если стену пробурить
- И чай покрепче заварить,
- Найдем о чем поговорить
- При личной встрече.
Новая графология-2
- Если бы кто-то меня спросил,
- Как я чую присутствие высших сил —
- Дрожь в хребте, мурашки по шее,
- Слабость рук, подгибанье ног, —
- Я бы ответил: если страшнее,
- Чем можно придумать, то это Бог.
- Сюжетом не предусмотренный поворот,
- Небесный тунгусский камень в твой огород,
- Лед и пламень, война и смута,
- Тамерлан и Наполеон,
- Приказ немедленно прыгать без парашюта
- С горящего самолета, – все это он.
- А если среди зимы запахло весной,
- Если есть парашют, а к нему еще запасной,
- В огне просматривается дорога,
- Во тьме прорезывается просвет, —
- Это почерк дьявола, а не Бога,
- Это дьявол под маской Бога
- Внушает надежду там, где надежды нет.
- Но если ты входишь во тьму, а она бела,
- Прыгнул, а у тебя отросли крыла, —
- То это Бог, или ангел, его посредник,
- С хурмой «Тамерлан» и тортом «Наполеон»:
- Последний шанс последнего из последних,
- Поскольку после последнего – сразу он.
- Это то, чего не учел Иуда.
- Это то, чему не учил Дада.
- Чудо вступает там, где помимо чуда
- Не спасет никто, ничто, никогда.
- А если ты в бездну шагнул и не воспарил,
- Вошел в огонь, и огонь тебя опалил,
- Ринулся в чащу, а там берлога,
- Шел на медведя, а их там шесть, —
- Это почерк дьявола, а не Бога,
- Это дьявол под маской Бога
- Отнимает надежду там, где надежда есть.
На развалинах замка в Швейцарии
- Представил, что мы в этом замке живем,
- И вот я теряю рассудок,
- Прознав, что с тобою на ложе твоем —
- Твой паж, недоносок, ублюдок.
- Как тешились вы над моей сединой!
- Тебя заточил я в подвал ледяной,
- Где холод и плесень на стенах
- Прогонят мечту об изменах.
- Я брал тебя замуж, спасая твой род.
- Родня целовала мне руки.
- Я снова был молод, кусая твой рот,
- Уча тебя нежной науке…
- Была ты холодной, покорной, немой…
- Я думал, неопытность только виной!
- Доверчивый старый вояка,
- Как ты обманулся, однако!
- Твой паж не держал ни копья, ни меча.
- Мальчишку страшила расплата.
- Он рухнул мне в ноги, надсадно крича,
- Что чист он, а ты виновата.
- Молил о пощаде, дрожа и визжа:
- «Меня соблазнили!» Я выгнал пажа:
- Когда бы прикончил мерзавца,
- Всю жизнь бы пришлось угрызаться.
- Но ужас-то в том, что и после всего —
- В подвале, в измене, в позоре —
- Ты свет моей жизни, мое божество,
- И в том мое главное горе!
- Какие обеды, спускаясь в подвал,
- Слуга ежедневно тебе подавал!
- Сперва ты постилась, а после
- Слуге возвращала лишь кости!
- Покончив с обедом, бралась за шитье.
- Любил я, как ты вышивала!
- Надеясь увидеть смиренье твое,
- Пришел я под двери подвала,
- Но, в пальцах прозрачных иголку держа,
- Ты шьешь и поешь, как ты любишь пажа —
- Как будто и в каменной яме
- Ты знаешь, что я за дверями!
- – Итак, – говорю я, – сознали вы грех?
- Но ты отвечаешь: «Нимало!
- Сто пыток на выбор – страшнее из всех
- Мне та, где я вас обнимала!»
- И я говорю, что за этот ответ
- Ты больше свиных не получишь котлет,
- И ты отвечаешь на это,
- Что сам я свиная котлета.
- О, если б нормальный я был феодал,
- Подобный другим феодалам!
- Тогда бы, конечно, тебе я не дал
- До гроба расстаться с подвалом,
- И запер бы двери, и выбросил ключ —
- Ни призрак надежды, ни солнечный луч
- К тебе не дошли бы отсюда,
- И ты поняла бы, паскуда!
- Запутавшись в собственных длинных тенях,
- Светило багровое село,
- И страшно мне знать, что на этих камнях
- Дрожит твое хрупкое тело.
- Я знаю, подвалы мои глубоки,
- Я волосы рву и грызу кулаки,
- Я плачу, раздавленный роком,
- На ложе своем одиноком.
- Мой ангел! Ужели я так виноват,
- Ужели так страшно виновен,
- Что плоть моя в шрамах, что кости болят,
- Что старческий рот мой бескровен?
- С тобой обретал я свое естество,
- Я стар, одинок, у меня никого,
- С тобою я сбрасывал годы…
- Но гулко молчат переходы.
- …Над замком прозрачный летит самолет.
- Ложатся вечерние тени
- На плиты веранды, на каменный лед
- Стены, на крутые ступени,
- Турист говорит, оседлав парапет,
- Что этому замку четыреста лет,
- А может, и больше на двести —
- Об этом теряются вести.
- По горному лесу проходит черта —
- Он рыж, а за нею оснежен, —
- И пар изо рта, и кругом пустота,
- И мрак, и конец неизбежен,
- Спускается ночь на последний приют,
- Ночные туманы в долине встают,
- И тучи наносит с востока,
- И ложе мое одиноко.
Баллада о кустах
Oh, I was this and I was that…
Kipling, «Tomlinson»
- Пейзаж для песенки Лафоре: усадьба, заросший пруд
- И двое влюбленных в самой поре, которые бродят тут.
- Звучит лягушечье бре-ке-ке. Вокруг цветет резеда.
- Ее рука у него в руке, что означает «да».
- Они обдумывают побег. Влюбленность требует жертв.
- Но есть еще один человек, ломающий весь сюжет.
- Им кажется, что они вдвоем. Они забывают страх.
- Но есть еще муж, который с ружьем сидит
- в ближайших кустах.
- На самом деле эта деталь (точнее, сюжетный ход),
- Сломав обычую пастораль, объема ей придает.
- Какое счастие без угроз, какой собор без химер,
- Какой, простите прямой вопрос, без третьего адюльтер?
- Какой романс без тревожных нот, без горечи на устах?
- Все это им обеспечил Тот, Который Сидит в Кустах.
- Он вносит стройность, а не разлад в симфонию бытия,
- И мне по сердцу такой расклад. Пускай это буду я.
- Теперь мне это даже милей. Воистину тот смешон,
- Кто не попробовал всех ролей в драме для трех персон.
- Я сам в ответе за свой Эдем. Еже писах – писах.
- Я уводил, я был уводим, теперь я сижу в кустах.
- Все атрибуты ласкают глаз: двое, ружье, кусты
- И непривычно большой запас нравственной правоты.
- К тому же автор, чей взгляд прямой я чувствую все
- сильней,
- Интересуется больше мной, нежели им и ей.
- Я отвечаю за все один. Я воплощаю рок.
- Можно пойти растопить камин, можно спустить курок.
- Их выбор сделан, расчислен путь, известна каждая
- пядь.
- Я все способен перечеркнуть – возможностей
- ровно пять.
- Убить одну; одного; двоих (ты шлюха, он вертопрах);
- А то, к восторгу врагов своих, покончить с собой
- в кустах.
- А то и в воздух пальнуть шутя и двинуть своим путем:
- Мол, будь здорова, резвись, дитя, в обнимку с другим
- дитем,
- И сладко будет, идя домой, прислушаться налегке,
- Как пруд взрыватся за спиной испуганным бре-ке-ке.
- Я сижу в кустах, моя грудь в крестах, моя голова в огне,
- Все, что автор плел на пяти листах, довершать
- поручено мне.
- Я сижу в кустах, полускрыт кустами, у автора на виду,
- Я сижу в кустах и менять не стану свой шиповник
- на резеду,
- Потому что всякой Господней твари полагается
- свой декор,
- Потому что автор, забыв о паре, глядит на меня в упор.
Сон о Гоморре
Ибо милость твоя – казнь, а казнь – милость…
В. Н.
Гаврила был хороший ангел,
Гаврила Богу помогал.
Из пародии
1. «Вся трудность при общеньи с Богом…»
Вся трудность при общеньи с Богом – в том, что у Бога много тел; он воплощается во многом – сегодня в белке захотел, а завтра в кошке, может статься, а завтра в бабочке ночной – подслушать ропот святотатца иль сговор шайки сволочной… Архангел, призванный к ответу, вгляделся в облачную взвесь: направо нету, слева нету – а между тем он явно здесь. Сердит без видимой причины, Господь раздвинул облака и вышел в облике мужчины годов примерно сорока.
Походкой строгою и скорой он прошагал по небесам:
– Скажи мне, что у нас с Гоморрой?
– Грешат в Гоморре…
– Знаю сам. Хочу ее подвергнуть мору. Я так и сяк над ней мудрил – а проку нет. Кончай Гоморру.
– Не надо, – молвил Гавриил.
– Не надо? То есть как – не надо? Добро бы мирное жулье, но там ведь главная отрада – пытать терпение мое. Грешат сознательно, упорно, демонстративно, на виду…
– Тогда тем более позорно идти у них на поводу, – архангел вымолвил, робея. – Яви им милость, а не суд… А если чистых двух тебе я найду – они ее спасут?
Он замер. Сказанное слово повисло в звонкой тишине.
– Спасут, – сказал Господь сурово. – Отыщешь праведника мне? Мое терпенье на пределе. Я их бы нынче раскроил, но дам отсрочку в три недели.
– Ура! – воскликнул Гавриил.
2. «В Гоморре гибели алкали сильней, чем прибыли…»
В Гоморре гибели алкали сильней, чем прибыли. Не зря она стояла на вулкане. Его гигантская ноздря давно чихала и сопела. Дымы над городом неслись. Внутри шкворчала и кипела густая, яростная слизь. В Гоморре были все знакомы с глухой предгибельной тоской. Тут извращали все законы – природный, Божий и людской. Невинный вечно был наказан, виновный – вечно горд и рад, и был по улицам размазан неистощимый, липкий смрад. Последний праведник Гоморры, убогим прозванный давно, уставив горестные взоры в давно немытое окно, вдыхал зловонную заразу, внимал вулканные шумы (забыв, что должен по заказу пошить разбойнику штаны) – и думал: «Боже милосердный, всего живущего творец! Когда-то я, твой раб усердный, узрю свободу наконец?!»
Меж тем к нему с благою вестью спешит архангел Гавриил, трубя на страх всему предместью: «Я говорил, я говорил!» Он перешагивает через канавы, лужи нечистот, – дома отслеживают, щерясь, как он из всех находит тот, ту захудалую лачугу, где все ж душа живая есть: он должен там толкнуть речугу и изложить благую весть. А между тем все ниже тучи, все неотступней Божий взгляд, все бормотливей, все кипучей в жерле вулкана дымный ад… Бурлит зловонная клоака, все ближе тайная черта – никто из жителей, однако, не замечает ни черта: чернеет чернь, воруют воры, трактирщик поит, как поил…
– Последний праведник Гоморры! – трубит архангел Гавриил. – Достигнуты благие цели, сбылись заветные мечты. Господь желает в самом деле проверить, праведен ли ты, – и если ты и вправду правед (на чем я лично настою), – он на земле еще оставит тебя и родину твою!
Последний праведник Гоморры, от светоносного гонца услышав эти приговоры, спадает несколько с лица. Не потому он прятал взоры от чудо-странника с трубой, что ждать не ждал конца Гоморры: конца Гоморры ждал любой. Никто из всей продажной своры, давно проклявшей бытие, так не желал конца Гоморры, как главный праведник ее. Полупроглочен смрадной пастью, от омерзенья свившись в жгут, он ждал его с такою страстью, с какой помилованья ждут. Он не был добр в обычном смысле: в Гоморре нет добра и зла, все добродетели прокисли, любая истина грязна. Он, верно, принял бы укоры в угрюмстве, злобе, мандраже – но он был праведник Гоморры, вдобавок гибнущей уже. Он не грешил, не ведал блуда, не пил, не грабил, не грубил, он был противник самосуда и самосада не любил, он мог противиться напору любых соблазнов и свиней – но не любил свою Гоморру, а сам себя еще сильней. Под сенью отческого крова, в своем же собственном дому, он натерпелся там такого, что не расскажешь никому. Любой, кто срыл бы эту гору лжецов, садистов и мудил, – не уничтожил бы Гоморру, но, может быть, освободил. Здесь было все настолько гнило, что, копошась вокруг жерла, она сама себя томила и жадно гибели ждала. Притом он знал (без осужденья, поскольку псы – родня волкам), что сам участвует с рожденья в забаве «Раздразни вулкан». Он был заметнейшим предлогом для святотатца и лжеца, чтобы Гоморра перед Богом разоблачилась до конца, и чистота его, суровей, чем самый строгий судия, – была последним из условий ее срамного бытия. На нем, на мальчике для порки, так отразился весь расклад, что никакие отговорки не отвратили бы расплат, и каждый день его позора, и каждый час его обид был частью замысла: Гоморра без праведника не стоит.
Несчастный праведник не в силах изречь осмысленный ответ. На сколько лет еще унылых он осужден? И сколько лет его мучителям осталось? Так он молчит перед гонцом. Невыносимая усталость в него вливается свинцом. Ответить надо бы любезно, а ночь за окнами бледна… Все говорили: бездна, бездна – на то и бездна, что без дна. Светает. Небо на востоке в кровавых отсветах зари. «Какие он наметил сроки?»
– Он говорил, недели три.
И, с ободряющей улыбкой кивнув гоморрскому тельцу, архангел серебристой рыбкой уплыл к небесному отцу. Убогий дом сотрясся мелко, пес у соседей зарычал, а по двору скакала белка. Ее никто не замечал.
3. «Но тут внезапно, на пределе, – утешен он и даже рад…»
Но тут внезапно, на пределе, – утешен он и даже рад: возможно и за три недели так нагрешить, что вздрогнет ад! Душа погибнет? Хватит вздора! Без сожаления греши. За то, чтоб сгинула Гоморра, не жалко собственной души. На то, чтоб мерзостью упиться, вполне довольно двух недель; и праведник-самоубийца идет, естественно, в бордель.
Ночами черными в Гоморре давно орудует злодей, случайным путникам на горе; один из тех полулюдей, что убивают не для денег, а потому, что любят нож, и кровь, и дрожь, и чтобы пленник подольше мучился. Ну что ж, подумал муж, суров и правед. Пусть подойдет. Уже темно. Он от греха меня избавит и от Гоморры заодно. Жалеть пришлось бы о немногом, руки в ответ не подниму…
Однако тот, кто взыскан Богом, не достается никому.
…Застывшей лавою распорот, как шрамом, исказившим лик, – тут прежде был великий город. Он был ужасен, но велик. Его враги ложились прахом под сапоги его солдат. Он наводнял округу страхом каких-то двести лет назад, но время и его скосило. Ошиблись лучшие умы: нашлась и на Гоморру сила сильней войны, страшней чумы. Не доброхоты-миротворы, не чистота и новизна – увы, таков закон Гоморры: зло губят те, кто хуже зла. То, что казалось прежде адом, попало в горшую беду и было сожрано распадом: десятый круг – распад в аду. При виде этого оскала затихла буйная орда: былое зло казаться стало почти добром… но так – всегда. Урод, тиранствовавший рьяно, был дважды туп и трижды груб, но что ужаснее тирана? Его непогребенный труп. Любой распутнице и стерве дают пятьсот очков вперед в ней расплодившиеся черви, что станут править в свой черед. Сползут румяна, позолота – и воцарится естество: тиран еще щадит кого-то, а черви вовсе никого. Над камнем, лавою и глиной с мечом пронесся Азраил. Гоморра вся была руиной и состояла из руин. Он думал, тихо опечален пейзажем выжженной земли, что и в аду полно развалин – их там нарочно возвели. Слетит туда душа злодея, невосприимчива ко лжи, – оглянется:
«Куда я? Где я? Не рай ли это был, скажи?» – и станет с пылом тараканьим искать следы былых утрат, и будет маяться сознаньем, что все в упадке, даже ад. А все сначала так и было – кирпич, обломки, стекла, жесть, – бездарно, дешево и гнило, с закосом под былую честь. Что ж, привыкай к пейзажу ада – теперь ты катишься туда. Мелькнуло: «Поверни, не надо» – но он ответил: «Никогда! Еще на век спасать Гоморру? Ее гнилые потроха?» – и он упрямо перся в гору, поскольку труден путь греха.
Сгущалась тьма. Гора дрожала, громов исполнена и стрел.
(И кошка рядом с ним бежала, но он на кошку не смотрел.)
4. «Бордель стоял на лучшем месте, поправ окрестную скудель…»
Бордель стоял на лучшем месте, поправ окрестную скудель. Когда-то, лет тому за двести, там был, конечно, не бордель, но даже старцы-ветераны забыли, что таилось тут. Быть может, прежние тираны вершили здесь неправый суд, иль казначей считал убыток за неприступными дверьми, иль просто зданием для пыток служил дворец – пойди пойми. Следы величия былого тут сохранялись до сих пор: над входом выбитое слово – не то «театр», не то «террор» (язык титанов позабылся); еще ржавели по углам не то орудия убийства, не то декоративный хлам. Кольцо в стене, петля, колода, дубовый стол, железный шкаф… Теперь, когда пришла свобода, все это служит для забав весьма двусмысленного рода. Угрюмый местный идиот весь день слоняется у входа, гнусит, к прохожим пристает… Ублюдок чьей-то давней связи, блюдя предписанный канон, законный ком зловонной грязи швыряет в праведника он: беднягу все встречали этим, – он только горбился, кряхтя. Швырять предписывалось детям. Дебил был вечное дитя.
«Кто к нам пожаловал! Гляди-ка!» – орет привратник у дверей. Раскаты хохота и крика, осипший вой полузверей, безрадостно грешащей своры расчеловеченная слизь: «Последний праведник Гоморры! Должно быть, руки отнялись, что он явился в дом разврата?» – «Ну, если так, всему хана: на нас последние, ребята, накатывают времена! Теперь попразднуем в охотку, уж коли скоро на убой. Хозяйка! Дать ему Красотку. Пускай потешится с рябой!»
В углу побоев огребала от неизвестного бойца широкая, тупая баба с кровоподтеком в пол-лица. Он бил расчетливо, умело, позвали – рявкнул: «Не мешай!» Ее потасканное тело коростой покрывал лишай – не то парша, не то чесотка, но ведь в аду брезгливых нет… Ее окликнули: «Красотка! Веди клиента в кабинет». Боец оглядывался, скалясь: «А что? Иди… не то б пришиб…» (Барать старух, уродиц, карлиц – был фирменный гоморский шик.) Она, пошатываясь, встала, стянула тряпки на груди – и человеческое стадо завыло: «Праведный, гряди!»
…В углу загаженной каморы валялась пара одеял. Последний праведник Гоморры в дверях потерянно стоял. На нем висящая Красотка его хватала между ног – но он лишь улыбался кротко и сделать ничего не мог. Она обрушилась на ложе, как воин после марш-броска, – и на ее широкой роже застыла смертная тоска.
По потолку метались тени. Героя начало трясти. Он рядом сел, обняв колени, и блекло вымолвил: «прости». Тут даже стены обалдели от потрясения основ: ни в доме пыток, ни в борделе таких не слыхивали слов. Вдали запели (адским бесам не снился этакий разброд). Она взглянула с интересом в его лицо: он был урод, но в нем была и скорбь, и сила. Он был как будто опален. «Прости?» – она переспросила. «Ну да, прости», – ответил он. Она в ответ, с улыбкой злобной, хмельной отравою дыша:
«Ты что ж – с рожденья неспособный, иль я тебе нехороша?» Помедлив меж двумя грехами – солгать иль правдой оскорбить, – он молвил: «Хороша, плоха ли… И я в порядке, может быть, да разучился. Так бывает. С семьею форменный завал, жена другого добивает…» (Про это, кстати, он не врал.) Ах, если б пристальный свидетель ему сказал: «Не суйся в грех – он труден, как и добродетель, и предназначен не для всех!» «Ушла давно?» – «Четыре года как ни при ком не состою», – и начал он без перехода ей жизнь рассказывать свою – в надежде, может быть, утешить… Но тут, растрогавшись спьяна, «Нас всех бы надо перевешать!» – провыла яростно она. Ее рыданья были грубы, лицо пестро, как решето. «Ну да, – промолвил он сквозь зубы, – да, вишь, не хочет кое-кто!» – «Кто-кто?» Ответить он не в силе. И как в борделе скажешь «Бог»? О Боге здесь давно забыли, а объяснить бы он не мог.
Они заснули на рассвете. Во сне тоска была лютей. Вошел охранник: «Спят, как дети!» – и пнул разбуженных детей. С утра Красотке было стыдно. Она была бы хороша или хотя бы миловидна, когда б не грязь и не парша. Хоть ночь у них прошла без блуда, была уплачена цена. «Возьми, возьми меня отсюда! – проныла жалобно она. – Здесь то помои, то побои, дерьмо едим, отраву пьем… Приходят двое – бьют обое, приходят трое – бьют втроем…» Он встал – она завыла снова: «Возьми меня! Подохну я!» Он дал хозяйке отступного и так остался без копья. Она плелась по грязи улиц к его убогому жилью, и все от хохота рехнулись, смотря на новую семью.
Красотка толком не умела убрать посуду со стола, зато спала, обильно ела и с кем ни попадя пила. Назад в бордель ее не брали, не то сбежала бы давно. Он ей не мог читать морали и начал с нею пить вино: уж коли первая попытка накрылась, грубо говоря, – он хоть при помощи напитка грешить надеялся… но зря. Он пил, в стремлении упорном познать злонравия плоды, – все тут же выходило горлом: желудок требовал воды. Срок отведенный быстро прожит – а он едва успел понять, что и грешить не всякий может, и поздно что-нибудь менять. Он пнул собаку – но собаки людских не чувствуют обид. Он дважды ввязывался в драки – и оба раза был побит. Со смаком, с гоготом, со славой он был разделан под орех – а идиот, кретин слюнявый, над ним смеялся громче всех. Хотел украсть белье с веревки – в кутузку на ночь загремел (хищенье требует сноровки, а он и бегать не умел). Он снова пробовал: тверды ли границы Промысла? Тверды. Погрязнуть силился в гордыне – опять напрасные труды: он ненавидел слишком, слишком, упрямо, мрачно, за двоих – себя, с уклончивым умишком, с набором странностей своих, с бесплодным поиском опоры, с утратой всех, с кем был в родстве, – и все равно с клеймом Гоморры на каждой мысли, каждом сне. Он поднимал, смурной и хворый, глаза в проклятый небосвод – и видел: туча над Гоморрой уже неделю не растет, и даже съежилась, похоже… и стал бледнеть ее свинец…
- О Боже, молвил он, о Боже.
- И вот решился наконец.
(Покуда он глядел устало в зловонно пышущую тьму, – под крышей бабочка летала, но не до бабочек ему.)
5. «Тут надо было без помарок…»
Тут надо было без помарок. Сорваться – значит все обречь. Был долог день, и вечер жарок, и ночь за ним была как печь. Он шел по улицам Гоморры, сдвигаясь медленно с ума; смотрел на черные заборы и безответные дома. Нигде не лаяли собаки и не скрипело колесо, – и это тоже были знаки, что в эту ночь решалось все. Он шел и чуял это кожей; шатаясь, шел, как по воде… Однако ни один прохожий ему не встретился нигде. Маньяка, что ли, опасались – он становился все наглей, – а может, просто насосались (была гулянка, юбилей – давно истратив и развеяв остатки роскоши былой, тут не могли без юбилеев). Тая оружье под полой, он шел, сворачивал в проулки, кружился, не видал ни зги, – и в темноте, страшны и гулки, звучали лишь его шаги.
И лишь уже перед рассветом, под чьим-то запертым окном, в неостывающем, прогретом, зловонном воздухе ночном мелькнуло нечто вроде тени. Он вздрогнул и замедлил шаг. Ходили ходуном колени и барабанило в ушах. По темной улице горбатой, прижавшись к треснувшей стене, сливаясь с нею, брел поддатый. Убить такого – грех вдвойне. Ну что же! По моей-то силе сгодится мне как раз такой… Он вспомнил все, что с ним творили, чтобы недрогнувшей рукой ударить в ямку под затылок. Нагнал. Ударил раз, другой – и пьяный, точно куль опилок, упал с подогнутой ногой.
Как странно: он не чуял дрожи. Кого ж я это? Видит Бог, такой тупой, поганой рожи и дьявол выдумать не мог. Ни мысли в помутневшем взоре, широкий рот, звериный лоб… А что я думал – что в Гоморре иное встретиться могло б? И что теперь? Теперь уж точно поглотит нас кровавый свет. Теперь в Гоморре все порочно. В ней больше праведника нет. Он поднял голову. Напротив стоял урод, согбен и мал, и плакал, рожу скосоротив, как будто что-то понимал. И здесь же, около кретина, – к плечу плечо, к руке рука, – стоял неведомый мужчина годов примерно сорока.
– Се вижу праведного мужа! – он рек, не разжимая губ. – Все плохи тут, но этот хуже (он указал на свежий труп). Се гад, хитер и перепончат, как тинный житель крокодил. Я думал сам его прикончить, но ты меня опередил. Теперь мараться мне не надо. Се пища ада, бесов снедь. Невыразимая отрада – живого праведника зреть. Ты спас родное государство от неизбежного конца. Кого убил ты – догадался?
– Того, злодея?
– Молодца. Хвалю тебя, ты честный воин. Ступай домой, попей вина и с этой ночи будь спокоен: твоя Гоморра спасена.
– Я спас Гоморру. Вот умора, – промолвил праведник с тоской. – Люблю тебя, моя Гоморра, зловонный город нелюдской! Руины, гной, помои, бляди, ворье, жулье, гнилье, зверье… Уж одного меня-то ради щадить не надо бы ее. За одного меня, о Боже?! Ведь тут грешили на износ…
– За одного? А это кто же? – Господь с улыбкой произнес. Он указал на идиота и бодро хлопнул по плечу:
– Увидел праведника? То-то. Что скажешь мне?
– Молчу, молчу…
– Да не молчи, – сказал он просто. – С тех пор, как создан этот свет, все ждут разгрома, холокоста, конца времен… А вот и нет. Все упиваются распадом, никто не пашет ни хрена, все мнят, что катастрофа рядом и всё им спишет, как война. Я сам сперва желал того же: всех без остатка, как котят… Но тут сказал себе: о Боже! Они же этого хотят! Сбежать задумывают, черти, мечтают быть хитрей небес! Бывает жизнь и после смерти, и в ней-то самый интерес. Нет, поживи еще, Гоморра. Успеешь к страшному суду. Не жди конца, конец нескоро. Меж тем светает. Я пойду.
Он удалялся вниз по склону, и мрак, разрежен и тесним, поблекнул в тон его хитону и удалялся вместе с ним, – а праведник сидел у трупа, и рядом с ним сидел дебил. Герой молчал, уставясь тупо вослед тому, кого любил. Среди камней, во мгле рассветной – тропинка, вейся, мрак, клубись! – скрывался Бог ветхозаветный, Бог идиотов и убийц, а наверху, обнявшись немо, держа заточку и суму, два человека – сверх– и недо– – еще смотрели вслед ему. Дул ветерок, бледнело небо, по плоским крышам тек рассвет. Кто нужен Богу? Сверх и недо. Во всем, что между, Бога нет. Они сидели, чуть живые, в прозрачной утренней тиши. Несчастный праведник впервые в себе не чувствовал души. Исчезли вечные раздоры, затихло вечное нытье. Душа последняя Гоморры навек покинула ее.
6. «Когда от скрюченного тела душа, как высохший листок…»
Когда от скрюченного тела душа, как высохший листок, бесповоротно отлетела, то тело чувствует восторг! Ничто не гложет, не тревожит, не хочет есть, не просит пить. Душа избыточна, быть может. Душа – уродство, может быть. В рассветном сумеречном свете он видит: лето настает. А он совсем забыл о лете, неблагодарный идиот! Пока – без друга, без подруги, без передышки, без семьи он исчислял в своей лачуге грехи чужие и свои, пока он зрел одни помои и только черные дела – сошла черемуха в Гоморре, сирень в Гоморре зацвела… Как сладко нежиться и греться – как пыль, трава, как минерал… Он этого не делал с детства. На что он это променял?! Где непролившимся потопом стояла туча – тучи нет; по склонам, по овечьим тропам ползет ее прозрачный след. Как бездна неба лучезарна, как вьется желтая тропа, как наша скорбь неблагодарна и наша праведность слепа! О, что я видел. О, на что ж я потратил жизнь – тогда как мог быть только частью мира Божья, как куст, как зелени комок, как эта травка дорогая, как пес, улегшийся пластом – пять чувств всечасно напрягая и знать не зная о шестом! О почва, стань моей опорой! Хочу прильнуть к тебе давно. Зачем нам правда – та, которой мы не вмещаем все равно? Он бормотал и дальше что-то, по глине пальцами скребя, – и крепко обнял идиота: люблю тебя, люблю тебя! Торговка вышла на дорогу, старик поплелся в полусне… Теперь я всех люблю, ей-богу! Теперь я праведник вполне. Он таял в этом счастье глупом, а мимо тек гоморрский люд, пиная труп (поскольку трупам давно не удивлялись тут).
Как славно голубели горы, как млели сонные цветы… Он узнавал своей Гоморры неповторимые черты, он слышал рокот соловьиный (о чем? Ей-богу, ни о чем!). Как сладко было быть руиной, уже подернутой плющом! Вот плеть зеленая повисла, изысканна, разветвлена… В Гоморре больше нету смысла? Но смысл Гоморры был – война, и угнетенье, и бесправье, и смерть связавшегося с ней… О равноправье разнотравья, и эта травка меж камней, и этот сладкий дух распада, цветущей плоти торжество! Не надо, Господи, не надо, не надо больше ничего. Я не желаю больше правил, не знаю, что такое грех, – я рад, что ты меня оставил. Я рад, что ты оставил всех.
Люблю тебя, моя Гоморра! Люблю твой строгий, стройный вид, то ощущение простора, которым душу мне живит твоя столетняя разруха. Люблю бескрайность площадей, уже избыточных для духа твоих мельчающих людей. Хочу проснуться на рассвете от тяжкого, больного сна, в котором были злые дети, была чума, была война, – и с чувством, что меня простили и взор прицельный отвели, зажить в каком-то новом стиле, в манере пыли и земли; и вместе со своей Гоморрой впивать блаженный, летний бред посмертной жизни – той, в которой ни смысла нет, ни смерти нет.
Баллады
Первая баллада
В то время я гостила на Земле.
Ахматова
- И все же на поверхности Земли
- Мы не были случайными гостями:
- Не слишком шумно жили, как могли,
- Обмениваясь краткими вестями
- О том, как скудные свои рубли
- Растратили – кто сразу, кто частями,
- Деля на кучки (сколько ни дели,
- Мы часто оставались на мели).
- И все же на поверхности Земли
- Мы не были случайными гостями:
- Беседы полуночные вели,
- Вступали в пререкания с властями, —
- А мимо нас рабы босые шли
- И проносили балдахин с кистями:
- Как бережно они его несли!
- Их ноги были в уличной пыли.
- И все же на поверхности Земли
- Мы не были случайными гостями…
- (В харчевнях неуемные врали
- Играли в домино, стуча костями,
- Посасывали пиво, чушь плели
- И в карты резались, хвалясь мастями;
- Пел нищий, опершись на костыли,
- На площади, где ночью книги жгли.)
- И все же на поверхности Земли
- Мы не были случайными гостями:
- В извечном страхе пули и петли
- Мы проходили этими местами,
- Над реками, что медленно текли
- Под тяжкими чугунными мостами…
- Вокруг коней ковали, хлеб пекли,
- И торговали, и детей секли.
- И все же на поверхности Земли
- Мы не были. Случайными гостями
- Мы промелькнули где-то там, вдали,
- Где легкий ветерок играл снастями.
- Вдоль берега мы медленно брели —
- Друг с другом, но ни с этими, ни с теми,
- Пока метели длинными хвостами
- Последнего следа не замели.
Вторая баллада
- Пока их отцы говорили о ходе
- Столичных событий, о псовой охоте,
- Приходе зимы и доходе своем,
- А матери – традиционно – о моде,
- Погоде и прочая в этом же роде,
- Они за диваном играли вдвоем.
- Когда уезжали, он жалобно хныкал.
- Потом, наезжая на время каникул,
- Подросший и важный, в родительский дом,
- Он ездил к соседям и видел с восторгом:
- Она расцветает! И все это время
- Они продолжали друг друга любить.
- Потом обстоятельства их разлучили —
- Бог весть почему. По какой-то причине
- Все в мире случается наоборот.
- Явился хлыщом – развращенный, лощеный, —
- И вместо того, чтоб казаться польщенной,
- Она ему р-раз – от ворот поворот!
- Игра самолюбий. С досады и злости —
- За первого замуж. С десяток набросьте
- Унылых, бесплодных, томительных лет —
- Он пил, опустился, скитался по свету,
- Искал себе дело… И все это время
- Они продолжали друг друга любить.
- Однажды, узнав, что она овдовела,
- Он кинулся к ней – и стоял помертвело,
- Хотел закричать – и не мог закричать:
- Они друг на друга смотрели бесслезно,
- И оба уже понимали, что поздно
- Надеяться заново что-то начать.
- Он бросился прочь… и отныне – ни звука:
- Ни писем, ни встречи. Тоска и разлука.
- Они доживали одни и поврозь,
- Он что-то писал, а она вышивала,
- И плакали оба… и все это время
- Они продолжали друг друга любить.
- А все это время кругом бушевали
- Вселенские страсти. Кругом воевали,
- От пролитой крови вскипала вода,
- Империи рушились, саваны шились,
- И троны тряслись, и короны крушились,
- И рыжий огонь пожирал города.
- Вулканы плевались камнями и лавой,
- И гибли равно виноватый и правый,
- Моря покидали свои берега,
- Ветра вырывали деревья с корнями,
- Земля колыхалась… и все это время
- Они продолжали друг друга любить!
- Клонясь, увядая, по картам гадая,
- Беззвучно рыдая, безумно страдая,
- То губы кусая, то пальцы грызя, —
- Сходили на нет, растворялись бесплотно,
- Но знали безмолвно и бесповоротно,
- Что вместе нельзя и отдельно нельзя.
- Так жили они до последнего мига,
- Несчастные дети несчастного мира,
- Который и рад бы счастливее стать —
- Да все не умеет: то бури, то драки,
- То придурь влюбленных… и все это время…
- О Господи Боже, да толку-то что!
Третья баллада
Десять негритят
Пошли купаться в море…
- Какая была компания, какая резвость и прыть!
- Понятно было заранее, что долго ей не прожить.
- Словно палкой по частоколу, выбивали наш гордый
- строй.
- Первый умер, пошедши в школу и, окончив школу,
- второй.
- Третий помер, когда впервые получил ногой по лицу,
- Отрабатывая строевые упражнения на плацу.
- Четвертый умер от страха, в душном его дыму,
- А пятый был парень-рубаха и умер с тоски по нему.
- Шестой удавился, седьмой застрелился, с трудом
- раздобыв пистолет,
- Восьмой уцелел, потому что молился, и вынул
- счастливый билет,
- Пристроился у каравая, сумел избежать нищеты,
- Однако не избежал трамвая, в котором уехала ты,
- Сказав перед этим честно и грубо, что есть другой
- человек, —
- И сразу трое врезали дуба, поняв, что это навек.
- Пятнадцатый умер от скуки, идя на работу зимой.
- Шестнадцатый умер от скуки, придя с работы домой.
- Двадцатый ходил шатаясь, поскольку он начал пить,
- И чудом не умер, пытаясь на горло себе наступить.
- Покуда с ногой на горле влачил он свои года,
- Пятеро перемерли от жалости и стыда,
- Тридцатый сломался при виде нахала, который грозил
- ножом.
- Теперь нас осталось довольно мало, и мы себя бережем.
- Так что нынешний ходит по струнке, охраняет
- свой каравай,
- Шепчет, глотает слюнки, твердит себе «не зевай»,
- Бежит любых безобразий, не топит тоски в вине,
- Боится случайных связей, а не случайных – вдвойне,
- На одиноком ложе тоска ему давит грудь.
- Вот так он живет – и тоже подохнет когда-нибудь.
- Но в этой жизни проклятой надеемся мы порой,
- Что некий пятидесятый, а может быть, сто второй,
- Которого глаза краем мы видели пару раз,
- Которого мы не знаем, который не знает нас, —
- Подвержен высшей опеке, и слышит ангельский смех,
- И потому навеки останется после всех.
Четвертая баллада
Андрею Давыдову
- В Москве взрывают наземный транспорт – такси,
- троллейбусы, все подряд.
- В метро ОМОН проверяет паспорт у всех, кто черен
- и бородат,
- И это длится седьмые сутки. В глазах у мэра стоит тоска.
- При виде каждой забытой сумки водитель требует
- взрывника.
- О том, кто принял вину за взрывы, не знают точно,
- но много врут.
- Непостижимы его мотивы, непредсказуем его маршрут,
- Как гнев Господень. И потому-то Москву колотит
- такая дрожь.
- Уже давно бы взыграла смута, но против промысла
- не попрешь.
- И чуть затлеет рассветный отблеск на синих окнах
- к шести утра,
- Юнец, нарочно ушедший в отпуск, встает с постели.
- Ему пора.
- Не обинуясь и не колеблясь, но свято веря в свою
- судьбу,
- Он резво прыгает в тот троллейбус, который
- движется на Трубу
- И дальше кружится по бульварам («Россия» —
- Пушкин – Арбат – пруды) —
- Зане юнец обладает даром спасать попутчиков от беды.
- Плевать, что вера его наивна. Неважно, как там его
- зовут.
- Он любит счастливо и взаимно, и потому его не взорвут.
- Его не тронет волна возмездий, хоть выбор жертвы
- необъясним.
- Он это знает и ездит, ездит, храня любого, кто
- рядом с ним.
- И вот он едет.
- Он едет мимо пятнистых скверов, где визг играющих
- малышей
- Ласкает уши пенсионеров и греет благостных алкашей,
- Он едет мимо лотков, киосков, собак, собачников,
- стариков,
- Смешно целующихся подростков, смешно серьезных
- выпускников,
- Он едет мимо родных идиллий, где цел дворовый
- жилой уют,
- Вдоль тех бульваров, где мы бродили, не допуская, что
- нас убьют, —
- И как бы там ни трудился Хронос, дробя асфальт
- и грызя гранит,
- Глядишь, еще и теперь не тронут: чужая молодость
- охранит.
- …Едва рассвет окровавит стекла и город высветится
- опять,
- Во двор выходит старик, не столько уставший жить,
- как уставший ждать.
- Боец-изменник, солдат-предатель, навлекший некогда
- гнев Творца,
- Он ждет прощения, но Создатель не шлет за ним
- своего гонца.
- За ним не явится никакая из караулящих нас смертей.
- Он суше выветренного камня и древней рукописи
- желтей.
- Он смотрит тупо и безучастно на вечно длящуюся игру,
- Но то, что мучит его всечасно, впервые будет служить
- добру.
- И вот он едет.
- Он едет мимо крикливых торгов и нищих драк за
- бесплатный суп,
- Он едет мимо больниц и моргов, гниющих свалок,
- торчащих труб,
- Вдоль улиц, прячущих хищный норов в угоду юному
- лопуху,
- Он едет мимо сплошных заборов с колючей
- проволокой вверху,
- Он едет мимо голодных сборищ, берущих всякого
- в оборот,
- Где каждый выкрик равно позорящ для тех, кто
- слушает и орет,
- Где, притворяясь чернорабочим, вниманья требует
- наглый смерд,
- Он едет мимо всего того, чем согласно брезгуют
- жизнь и смерть;
- Как ангел ада, он едет адом – аид, спускающийся
- в Аид, —
- Храня от гибели всех, кто рядом (хоть каждый верит,
- что сам хранит).
- Вот так и я, примостившись между юнцом и старцем,
- в июне, в шесть,
- Таю отчаянную надежду на то, что все это так и есть:
- Пока я им сочиняю роли, не рухнет небо, не ахнет взрыв,
- И мир, послушный творящей воле, не канет
- в бездну, пока я жив.
- Ни грохот взрыва, ни вой сирены не грянут разом,
- Москву глуша,
- Покуда я бормочу катрены о двух личинах твоих,
- душа.
- И вот я еду.
Пятая баллада
- Я слышал, особо ценится средь тех, кто бит и клеймен,
- Пленник (и реже – пленница), что помнит много имен.
- Блатные не любят грамотных, как большая часть
- страны,
- Но этот зовется «Памятник», и оба смысла верны.
- Среди зловонного мрака, завален чужой тоской,
- Ночами под хрип барака он шепчет перечень свой:
- Насильник, жалобщик, нытик, посаженный без вины,
- Сектант, шпион, сифилитик, политик, герой войны,
- Зарезал жену по пьяни, соседу сарай поджег,
- Растлил племянницу в бане, дружка пришил за должок,
- Пристрелен из автомата, сошел с ума по весне…
- Так мир кидался когда-то с порога навстречу мне.
- Вся роскошь воды и суши, как будто в последний раз,
- Ломилась в глаза и уши: запомни и нас, и нас!
- Летели слева и справа, кидались в дверной проем,
- Толкались, борясь за право попасть ко мне на прием,
- Как будто река, запруда, жасмин, левкой, резеда —
- Все знали: вырвусь отсюда; не знали только, куда.
- – Меж небом, водой и сушей мы выстроим зыбкий рай,
- Но только смотри и слушай, но только запоминай!
- Я дерево в центре мира, я куст с последним листом,
- Я инвалид из тира, я кот с облезлым хвостом,
- А я – скрипучая койка в дому твоей дорогой,
- А я – троллейбус такой-то, возивший тебя к другой,
- А я, когда ты погибал однажды, устроил тебе ночлег —
- И канул мимо, как канет каждый. Возьми и меня
- в ковчег!
- А мы – тончайшие сущности, сущности, плоти мы
- лишены,
- Мы резвиться сюда отпущены из сияющей вышины,
- Мы летим в ветровом потоке, нас несет воздушный
- прибой,
- Нас не видит даже стоокий, но знает о нас любой.
- Но чем дольше я здесь ошиваюсь – не ведаю для чего, —
- Тем менее ошибаюсь насчет себя самого.
- Вашей горестной вереницы я не спас от посмертной
- тьмы,
- Я не вырвусь за те границы, в которых маемся мы.
- Я не выйду за те пределы, каких досягает взгляд.
- С веткой тиса или омелы голубь мой не летит назад.
- Я не с теми, кто вносит правку в бесконечный
- реестр земной.
- Вы плохую сделали ставку и умрете вместе со мной.
- И ты, чужая квартира, и ты, ресторан «Восход»,
- И ты, инвалид из тира, и ты, ободранный кот,
- И вы, тончайшие сущности, сущности, слетавшие
- в нашу тьму,
- Которые правил своих ослушались, открывшись
- мне одному.
- Но когда бы я в самом деле посягал на пути планет
- И не замер на том пределе, за который мне хода нет,
- Но когда бы соблазн величья предпочел соблазну
- стыда, —
- Кто бы вспомнил ваши обличья? Кто увидел бы вас
- тогда?
- Вы не надобны ни пророку, ни водителю злой орды,
- Что по Западу и Востоку метит кровью свои следы.
- Вы мне отданы на поруки – не навек, не на год, на час.
- Все великие близоруки. Только я и заметил вас.
- Только тот тебя и заметит, кто с тобою вместе умрет —
- И тебя, о мартовский ветер, и тебя, о мартовский кот,
- И вас, тончайшие сущности, сущности, те, что
- парят, кружа,
- Не выше дома, не выше, в сущности, десятого этажа,
- То опускаются, то подпрыгивают, то в проводах поют,
- То усмехаются, то подмигивают, то говорят «Салют!».
Девятая баллада
- Не езди, Байрон, в Миссолунги.
- Война – не место для гостей.
- Не ищут, барин, в мясорубке
- Высоких смыслов и страстей.
- Напрасно, вольный сын природы,
- Ты бросил мирное житье,
- Ища какой-нибудь свободы,
- Чтобы погибнуть за нее.
- Поймешь ли ты, переезжая
- В иные, лучшие края:
- Свобода всякий раз чужая,
- А гибель всякий раз своя?
- Направо грек, налево турок,
- И как душою ни криви —
- Один дурак, другой придурок
- И оба по уши в крови.
- Но время, видимо, приспело
- Накинуть плащ, купить ружье
- И гибнуть за чужое дело,
- Раз не убили за свое.
- И вот палатка, и желтая лихорадка,
- Никакой дисциплины вообще, никакого порядка,
- Порох, оскаленные зубы, грязь, жара,
- Гречанки носаты, ноги у них волосаты,
- Турки визжат, как резаные поросяты,
- Начинается бред, опускается ночь, ура.
- Американец под Уэской,
- Накинув плащ, глядит во тьму.
- Он по причине слишком веской,
- Но непонятной и ему,
- Явился в славный край корриды,
- Где вольность испускает дух.
- Он хмурит брови от обиды,
- Не формулируемой вслух.
- Легко ли гордому буржую
- В бездарно начатом бою
- Сдыхать за родину чужую,
- Раз не убили за свою?
- В горах засел республиканец,
- В лесу скрывается франкист —
- Один дурак, другой поганец
- И крепко на руку нечист.
- Меж тем какая нам забота,
- Какой нам прок от этих драк?
- Но лучше раньше и за что-то,
- Чем в должный срок за просто так.
- И вот Уэска, режет глаза от блеска,
- Короткая перебежка вдоль перелеска,
- Командир отряда упрям и глуп, как баран,
- Но он партизан, и ему простительно,
- Что я делаю тут, действительно,
- Лошадь пала, меня убили, но пассаран.
- Всю жизнь, кривясь, как от ожога,
- Я вслушиваюсь в чей-то бред.
- Кругом полным-полно чужого,
- А своего в помине нет.
- Но сколько можно быть над схваткой,
- И упиваться сбором трав,
- И убеждать себя украдкой,
- Что всяк по-своему неправ?
- Не утешаться же наивным,
- Любимым тезисом глупцов,
- Что дурно все, за что мы гибнем,
- И надо жить, в конце концов?
- Какая жизнь, я вас умоляю?!
- Какие надежды на краю?
- Из двух неправд я выбираю
- Наименее не мою —
- Потому что мы все невольники
- Чести, совести и тэ пэ —
- И, как ямб растворяется в дольнике,
- Растворяюсь в чужой толпе.
- И вот атака, нас выгнали из барака,
- Густая сволочь шумит вокруг, как войско мрака,
- Какой-то гопник бьет меня по плечу,
- Ответственность сброшена, точней сказать, перевалена.
- Один кричит – за русский дух, другой – за Сталина,
- Третий, зубы сжав, молчит, и я молчу.
Одиннадцатая баллада
- Серым мартом, промозглым апрелем,
- Миновав турникеты у врат,
- Я сошел бы московским Орфеем
- В кольцевой концентрический ад,
- Где влачатся, с рожденья усталы,
- Позабывшие, в чем их вина,
- Персефоны, Сизифы, Танталы
- Из Медведкова и Люблина, —
- И в последнем вагоне состава,
- Что с гуденьем вползает в дыру,
- Поглядевши налево-направо,
- Я увижу тебя – и замру.
- Прошептав машинально «Неужто?»
- И заранее зная ответ,
- Я протиснусь к тебе, потому что
- У теней самолюбия нет.
- Принимать горделивую позу
- Не пристало спустившимся в ад.
- Если честно, я даже не помню,
- Кто из нас перед кем виноват.
- И когда твои хмурые брови
- От обиды сомкнутся в черту, —
- Как Тиресий от жертвенной крови,
- Речь и память я вновь обрету.
- Даже страшно мне будет, какая
- Золотая, как блик на волне,
- Перекатываясь и сверкая,
- Жизнь лавиной вернется ко мне.
- Я оглохну под этим напором
- И не сразу в сознанье приду,
- Устыдившись обличья, в котором
- Без тебя пресмыкался в аду,
- И забьется душа моя птичья,
- И, выпрастываясь из тенет,
- Дорастет до былого величья —
- Вот тогда-то как раз и рванет.
- Ведь когда мы при жизни встречались,
- То, бывало, на целый квартал
- Буря выла, деревья качались,
- Бельевой такелаж трепетал.
- Шум дворов, разошедшийся Шуман,
- Дранг-унд-штурмом врывался в дома —
- То есть видя, каким он задуман,
- Мир сходил на секунду с ума.
- Что там люди? Какой-нибудь атом,
- Увидавши себя в чертеже
- И сравнивши его с результатом,
- Двадцать раз бы взорвался уже.
- Мир тебе, неразумный чеченец,
- С заготовленной парою фраз
- Улетающий в рай подбоченясь:
- Не присваивай. Все из-за нас.
- …Так я брежу в дрожащем вагоне,
- Припадая к бутылке вина,
- Поздним вечером, на перегоне
- От Кузнецкого до Ногина.
- Эмиссар за спиною маячит,
- В чемоданчике прячет чуму…
- Только равный убьет меня, значит?
- Вот теперь я равняюсь чему.
- Остается просить у Вселенной,
- Замирая оглохшей душой,
- Если смерти – то лучше мгновенной,
- Если раны – то пусть небольшой.
Двенадцатая баллада
Хорошо, говорю. Хорошо, говорю тогда. Беспощадность вашу могу понять я. Но допустим, что я отрекся от моего труда и нашел себе другое занятье. Воздержусь от врак, позабуду, что я вам враг, буду низко кланяться всем прохожим. Нет, они говорят, никак. Нет, они отвечают, никак-никак. Сохранить тебе жизнь мы никак не можем.
Хорошо, говорю. Хорошо, говорю я им. Поднимаю лапки, нет разговору. Но допустим, я буду неслышен, буду незрим, уползу куда-нибудь в щелку, в нору, стану тише воды и ниже травы, как рак. Превращусь в тритона, в пейзаж, в топоним. Нет, они говорят, никак. Нет, они отвечают, никак-никак. Только полная сдача и смерть, ты понял?
Хорошо, говорю. Хорошо же, я им шепчу. Все уже повисло на паутинке. Но допустим, я сдамся, допустим, я сам себя растопчу, но допустим, я вычищу вам ботинки! Ради собственных ваших женщин, детей, стариков, калек: что вам проку во мне, уроде, юроде?
Нет, они говорят. Без отсрочек, враз и навек. Чтоб таких, как ты, вообще не стало в природе.
Ну так что же, я говорю. Ну так что же-с, я в ответ говорю. О как много попыток, как мало проку-с. Это значит, придется мне вам и вашему королю в сотый раз показывать этот фокус. Запускать во вселенную мелкую крошку из ваших тел, низводить вас до статуса звездной пыли. То есть можно подумать, что мне приятно. Я не хотел, но не я виноват, что вы все забыли! Раз-два-три. Посчитать расстояние по прямой. Небольшая вспышка в точке прицела. До чего надоело, Господи Боже мой. Не поверишь, Боже, как надоело.
Тринадцатая баллада
- О, как все ликовало в первые пять минут
- После того как, бывало, на фиг меня пошлют
- Или даже дадут по роже (такое бывало тоже),
- Почву обыденности разрыв гордым словом «Разрыв».
- Правду сказать, я люблю разрывы! Решительный
- взмах метлы!
- Они подтверждают нам, что мы живы, когда мы
- уже мертвы.
- И сколько, братцы, было свободы, когда сквозь
- вешние воды
- Идешь, бывало, ночной Москвой – отвергнутый,
- но живой!
- В первые пять минут не больно, поскольку действует
- шок.
- В первые пять минут так вольно, словно сбросил мешок.
- Это потом ты поймешь, что вместо, скажем, мешка
- асбеста
- Теперь несешь железобетон; но это потом, потом.
- Хотя обладаю беззлобным нравом, я все-таки не святой
- И чувствую себя правым только рядом с неправотой,
- Так что хамство на грани порно мне нравственно
- благотворно,
- Как завершал еще Томас Манн не помню какой роман.
- Если честно, то так и с Богом (Господи, ты простишь?).
- Просишь, казалось бы, о немногом, а получаешь шиш.
- Тогда ты громко хлопаешь дверью и говоришь
- «Не верю»,
- Как режиссер, когда травести рявкает «Отпусти!».
- В первые пять минут отлично. Вьюга, и черт бы с ней.
- В первые пять минут обычно думаешь: «Так честней.
- Сгинули Рим, Вавилон, Эллада. Бессмертья нет
- и не надо.
- Другие молятся палачу – и ладно! Я не хочу».
- Потом, конечно, приходит опыт, словно солдат с войны.
- Потом прорезывается шепот чувства личной вины.
- Потом вспоминаешь, как было славно еще довольно
- недавно.
- А если вспомнится, как давно, – становится все равно,
- И ты плюешь на всякую гордость, твердость
- и трам-пам-пам,
- И виноватясь, сутулясь, горбясь, ползешь припадать
- к стопам,
- И по усмешке в обычном стиле видишь: тебя простили,
- И в общем, в первые пять минут приятно, чего уж тут.
Пятнадцатая баллада
- Я в Риме был бы раб – фракиец, иудей
- Иль кто-нибудь еще из тех недолюдей,
- У коих на лице читается «Не трогай»,
- Хотя клеймо на лбу читается «Владей».
- Владеющему мной уже не до меня —
- В империю пришли дурные времена:
- Часами он сидит в саду, укрывшись тогой,
- Лишь изредка зовет и требует вина.
- Когда бы Рим не стал постыдно-мягкотел,
- Когда бы кто-то здесь чего-нибудь хотел,
- Когда бы дряхлый мир, застывший помертвело,
- Задумал отдалить бесславный свой удел, —
- Я разбудил бы их, забывших даже грех,
- Влил новое вино в потрескавшийся мех:
- Ведь мой народ не стар! Но Риму нету дела —
- До трещин, до прорех, до варваров, до всех.
- Что можно объяснить владеющему мной?
- Он смотрит на закат, пурпурно-ледяной,
- На Вакха-толстяка, увенчанного лавром,
- С отломанной рукой и треснувшей спиной;
- Но что разбудит в нем пустого сада вид?
- Поэзию? Он был когда-то даровит,
- Но все перезабыл… И тут приходит варвар:
- Сжигает дом и мне «Свободен» говорит.
- Свободен, говоришь? Такую ерунду
- В бреду не выдумать. Куда теперь пойду?
- Назад, во Фракию, к ее неумолимым
- Горам и воинам, к слепому их суду?
- Как оправдаться мне за то, что был в плену?
- Припомнят ли меня или мою вину?
- И что мне Фракия, отравленному Римом —
- Презреньем и тоской идущего ко дну?
- И варвар, свысока взирая на раба,
- Носящего клеймо посередине лба,
- Дивился бы, что раб дерется лучше римлян
- За римские права, гроба и погреба;
- Свободен, говоришь? Валяй, поговорим.
- Я в Риме был бы раб, но это был бы Рим —
- Развратен, обречен, разгромлен и задымлен,
- И невосстановим, и вряд ли повторим.
- Я в Риме был бы раб, бесправен и раздет,
- И мной бы помыкал рехнувшийся поэт,
- Но это мой удел, другого мне не надо,
- А в мире варваров мне вовсе места нет —
- И видя пришлецов, толпящихся кругом,
- Я с ними бился бы бок о бок с тем врагом,
- Которого привык считать исчадьем ада,
- Поскольку не имел понятья о другом.
- Когда б я был ацтек – за дерзостность словес
- Я был бы осужден; меня бы спас Кортес,
- Он выгнал бы жрецов, разбил запасы зелий
- И выпустил меня – «Беги и славь прогресс!».
- Он удивился бы и потемнел лицом,
- Узрев меня в бою бок о бок с тем жрецом,
- Который бы меня казнил без угрызений,
- А я бы проклинал его перед концом.
- На западе звезда. Какая тьма в саду!
- Ворчит хозяйский пес, предчувствуя беду.
- Хозяин мне кричит: «Вина, козлобородый!
- Заснул ты, что ли, там?» – И я ворчу: «Иду».
- По статуе ползет последний блик зари.
- Привет, грядущий гунн. Что хочешь разори,
- Но соблазнять не смей меня своей свободой.
- Уйди и даже слов таких не говори.
Шестнадцатая баллада
- Война, война.
- С воинственным гиканьем пыльные племена
- Прыгают в стремена.
- На западном фронте без перемен: воюют нацмен
- и абориген,
- Пришлец и местный, чужой и свой, придонный
- и донный слой.
- Художник сдал боевой листок: «Запад есть Запад,
- Восток – Восток».
- На флаге колышется «Бей-спасай» и слышится
- «гей»-«банзай».
- Солдаты со временем входят в раж: дерясь
- по принципу «наш – не наш»,
- Родные окопы делят межой по принципу «свой-чужой».
- Война, война.
- Сторон четыре, и каждая сторона
- Кроваво озарена.
- На северном фронте без перемен: там амазонка
- и супермен.
- Крутые бабы палят в грудак всем, кто взглянул не так.
- В ночных утехах большой разброс: на женском фронте
- цветет лесбос,
- В мужских окопах царит содом, дополнен ручным
- трудом.
- «Все бабы суки!» – орет комдив, на полмгновенья
- опередив
- Комдившу, в грохоте и пыли визжащую: «Кобели!»
- Война, война.
- Компания миротворцев окружена
- В районе Бородина.
- На южном фронте без перемен: войну ведут буржуй
- и гамен,
- Там сводят счеты – точней, счета, – элита и нищета,
- На этом фронте всякий – герой, но перебежчик —
- каждый второй,
- И дым отслеживать не дает взаимный их переход:
- Вчерашний босс оказался бос, вчерашний бомж его
- перерос —
- Ломает руки информбюро, спецкор бросает перо.
- Война, война.
- Посмотришь вокруг – кругом уже ни хрена,
- А только она одна.
- На фронте восточном без перемен: распад и юность,
- расцвет и тлен,
- Бессильный опыт бьется с толпой молодости тупой.
- Дозор старперов поймал бойца – боец приполз
- навестить отца:
- Сперва с отцом обнялись в слезах, потом подрались
- в сердцах.
- Меж тем ряды стариков растут: едва двоих приберет
- инсульт —
- Перебегают три дурака, достигшие сорока.
- Война, война.
- По левому флангу ко мне крадется жена.
- Она вооружена.
- Лишь мы с тобою в кольце фронтов лежим в земле, как
- пара кротов,
- Лежим, и каждый новый фугас землей засыпает нас.
- Среди войны возрастов, полов, стальных стволов
- и больных голов
- Лежим среди чужих оборон со всех четырех сторон.
- Мужик и баба, богач и голь, нацмен и Русь, седина
- и смоль,
- Лежим, которую ночь подряд штампуя новых солдат.
- Лежим, враги по всем четырем, никак объятий
- не раздерем,
- Пока орудий не навели на пядь ничейной земли.
Семнадцатая баллада
- Иногда мне кажется, что я гвоздь,
- Из миров погибших незваный гость,
- Не из Трои и не с Голгофы,
- А простой, из стенки, не обессудь,
- Уцелевший после какой-нибудь
- Окончательной катастрофы.
- В новом мире, где никаких гвоздей,
- Где гуляют толпы недолюдей
- По руинам, кучам и лужам,
- Отойдя от вянущего огня,
- Однорукий мальчик берет меня —
- И не знает, зачем я нужен.
- Иногда я боюсь, что ты микроскоп,
- Позабытый между звериных троп
- На прогалине неприметной,
- Окруженный лесом со всех сторон
- Инструмент давно улетевшей вон
- Экспедиции межпланетной.
- Вся твоя компания – хвощ и злак.
- Населенье джунглей не знает, как
- Обращаются с микроскопом.
- Позабавить думая свой народ,
- Одноглазый мальчик тебя берет
- И глядит на тебя циклопом.
- Мы с тобою пленники смутных лет:
- Ни простых, ни сложных предметов нет.
- Бурый слой, от оста до веста.
- Для моей негнущейся прямоты
- И для хитрой тайны, что знаешь ты,
- Одинаково нету места.
- Хорошо б состариться поскорей,
- Чем гадать о празднествах дикарей
- По прихлопам их и притопам,
- А потом с тоски залезать в кровать
- И всю ночь друг друга в нее вбивать,
- Забивать, как гвоздь микроскопом.
Восемнадцатая баллада
Из французских полотен люблю не шутя лишь картину «Балованное дитя». Написал ее Грез, или правильней – Грёз. Я люблю ее прямо до слез. Репродукция эта, бледна и блекла, без какой-либо рамы и даже стекла, украшает собою московский кабак для окрестных дворовых собак, для поживших, облезлых, заслуженных псов, что бухать начинают в двенадцать часов; из закусок имеются пхали и сыр, из обслуги – оплывший кассир. Завсегдатаи, длящие медленный спор, поднимают порою мутящийся взор на картину, висящую в правом углу, – и в груди ощущают иглу.
На картине, как знает, наверно, любой, симпатичный ребенок, довольный собой, угощает собаку дворовых кровей из фарфоровой ложки своей. Происходит все это в уютном дому (дортуар или кухонька – сам не пойму), где хозяин, должно быть, доволен женой: хоть бардак, но живой и жилой. На ребенка, что тратит избыток еды, потому что не чует грядущей беды, снисходительно смотрит умильная мать и не смеет его унимать.
О, я знаю улыбку безвольную ту, что приводит в безумие и нищету, что и дом, и мужей, и спасательный круг выпускать заставляет из рук; эти ямочки знаю на пухлом лице, что всегда говорят об ужасном конце, о готовности сдаться без жалоб и драк, лишь бы только кричали не так; о способности даже в позоре, на дне, лепетать, вышивать, улыбаться родне, сочинять утешенья сынку по ночам, умиляться смешным мелочам; где ей спорить, бороться, скреплять времена, если сына не может заставить она отогнать от тарелки лизучего пса и спокойно поесть полчаса? О, я знаю, что маленькой этой рукой можно вышить наряд и такой, и сякой, и белье полоскать, и тюки разгружать, но нельзя ничего удержать. О, я знаю и то, что стараюсь вотще, что нельзя никого уберечь вообще, что нельзя ничего удержать на цепи, хоть горстями швыряй, хоть копи, потому что всегда впереди ураган, перегон, Магадан, гегемон, уркаган, проституция грез, революция роз (под конец разорился и Грёз)… Но и в самом укромном и мирном краю никому не объехать родную, свою, что стоит у ворот, выжидает черед и без пафоса все отберет. С детских лет мне мучительно видеть уют: все мне кажется – черные волны встают, и шатаются стены – беспомощный щит, и убогая кухня трещит; всем под ветром стонать на просторе пустом, мир, как дверь из легенды, помечен крестом, и на каждом пути воздвигается крест…
Так уж пусть хоть собачка поест.
Блаженство
Обратный отсчет
- До чего я люблю это чувство перед рывком:
- В голове совершенный ревком,
- Ужас ревет ревком,
- Сострадания нет ни в ком,
- Слова ничего не значат и сбились под языком
- В ком.
- До чего я люблю эту ненависть, срывающуюся на визг,
- Ежедневный набор, повторяющийся,
- как запиленный диск,
- В одном глазу у меня дракон, в другом василиск,
- Вся моя жизнь похожа на проигранный вдрызг
- Иск.
- До чего я люблю это чувство, что более никогда —
- Ни строки, ни слова, ни вылета из гнезда,
- И вообще, как сказал один, «не стоит труда».
- Да.
- Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный
- и тусклый свет.
- Надежды, смысла, человека, искусства, Бога, звезд,
- планет —
- Нет.
- Однажды приходит чувство, что вот и оно —
- Дно.
- Но!
- Йес.
- В одно прекрасное утро идет обратный процесс.
- То,
- Которое в воздухе разлито,
- Заставляет меня выбегать на улицу, распахивая пальто.
- Ку!
- Школьница улыбается старику.
- Господь посылает одну хромающую строку.
- Прелестная всадница оборачивается на скаку.
- С ней
- Необъяснимое делается ясней,
- Ненавистное делается грустней, Дэвида
- Линча сменяет Уолт Дисней,
- Является муза, и мы сплетаемся все тесней.
- Ох!
- Раздается сто раз описанный вдох.
- Пускает корни летевший в стену горох,
- На этот раз пронесло, ступай, говорит Молох,
- У ног в нетерпенье кружит волшебный клубок,
- В обратном порядке являются звезды, планеты, Бог.
- А если я больше не выйду из ада,
- То так мне и надо.
Газета жизнь
Из Крыма едешь на машине сквозь ночь глухую напролом меж деревнями небольшими меж Курском, скажем, и Орлом – сигает баба под колеса, белесо смотрит из платка: «Сынок поранился, Алеша, езжай, сынок, спаси сынка», прикинешь – ладно, путь недолог, еще подохнет человек; свернешь с дороги на проселок, а там четырнадцатый век: ни огонька, забор, канава, налево надпись «Горобец», «Большое Крысово» направо, прикинь, братан, вопще пипец, дорогой пару раз засели, но добрались; «Сынок-то где?» – «Сынок у доме», входишь в сени – фигак! – и сразу по балде. Не пикнешь, да и кто услышит? Соседей нет, деревня мрет. На занавеске лебедь вышит. Все думал, как умрешь, а вот. Я чуял, что нарвусь на это, гналось буквально по пятам, кому сестра – а мне газета, газета жизнь, прикинь, братан.
Сынок-дебил в саду зароет, одежду спрячет брат-урод, мамаша-сука кровь замоет, машину дядя заберет, умелец, вышедший сиделец, с прозрачной трубкою в свище; никто не спросит, где владелец, – прикинь, братан, пипец вопще, приедет следователь с Курска, проверит дом, обшарит сад, накормят грязно и невкусно и самогоном угостят, он различить бы мог у входа замытый наскоро потек, но мельком глянет на урода, сынка с газетою «Зятек», «жигуль», который хитрый дядя уже заделал под бутан, – да и отступится не глядя, вопще пипец, прикинь, братан, кого искать? Должно быть, скрылся. Тут ступишь шаг – помину нет. Он закрывает дело, крыса, и так проходит десять лет.
Но как-то выплывет по ходу: найдут «жигуль» по волшебству, предъявят пьяному уроду, он выдаст брата и сестру, газета жизнь напишет очерк кровавый, как заведено, разроют сад, отыщут прочих, нас там окажется полно, а в человеке и законе пройдет сюжет «Забытый грех», ведущий там на черном фоне предскажет, что накажут всех, и сам же сядет за растрату бюджетных средств каких-то там, и поделом ему, кастрату, ведь так трындел, пипец, братан, ведь так выделывался люто про это Крысово-село, а сел, и это почему-то, прикинь, обиднее всего.
Русский шансон
- Я выйду заспанный, с рассветом пасмурным,
- С небес сочащимся на ваш Бермудск,
- Закину за спину котомку с паспортом,
- И обернусь к тебе, и не вернусь.
- Ты выйдешь вслед за мной под сумрак каплющий,
- Белея матово, как блик на дне,
- И, кофту старую набросив на плечи,
- Лицо измятое подставишь мне.
- Твой брат в Германии, твой муж в колонии,
- Отец в агонии за той стеной,
- И это все с тобой в такой гармонии,
- Что я б не выдумал тебя иной.
- Тянуть бессмысленно, да и действительно —
- Не всем простительно сходить с ума:
- Ни навестить тебя, ни увести тебя,
- А оставаться тут – прикинь сама.
- Любовь? Господь с тобой. Любовь не выживет.
- Какое show must? Не двадцать лет!
- Нас ночь окутала, как будто ближе нет,
- А дальше что у нас? А дальше нет.
- Ни обещаньица, ни до свиданьица,
- Но вдоль по улице, где стынет взвесь,
- Твой взгляд измученный за мной потянется
- И охранит меня, пока я здесь.
- Сквозь тьму бесстрастную пойду на станцию
- По мокрым улицам в один этаж —
- Давясь пространствами, я столько странствую,
- А эта станция одна и та ж.
- Что Суходрищево, что Голенищево —
- Безмолвным «ишь чего!» проводит в путь
- С убого-слезною улыбкой нищего,
- Всегда готового ножом пырнуть.
- В сырых кустах она, в стальных мостах она,
- В родных местах она растворена,
- И если вдруг тебе нужна метафора
- Всей моей жизни, то вот она:
- Заборы, станции, шансоны, жалобы,
- Тупыми жалами язвящий дождь,
- Земля, которая сама сбежала бы,
- Да деться некуда, повсюду то ж.
- А ты среди нее – свечою белою.
- Два слезных омута глядят мне вслед.
- Они хранят меня, а я что делаю?
- Они спасут меня, а я их нет.
Блаженство
- Блаженство – вот: окно июньским днем,
- И листья в нем, и тени листьев в нем,
- И на стене горячий, хоть обжечься,
- Лежит прямоугольник световой
- С бесшумно суетящейся листвой,
- И это знак и первый слой блаженства.
- Быть должен интерьер для двух персон,
- И две персоны в нем, и полусон:
- Все можно, и минуты как бы каплют,
- А рядом листья в желтой полосе,
- Где каждый вроде мечется – а все
- Ликуют или хвалят, как-то так вот.
- Быть должен двор, и мяч, и шум игры,
- И кроткий, долгий час, когда дворы
- Еще шумны и скверы многолюдны:
- Нам слышно все на третьем этаже,
- Но апогеи пройдены уже.
- Я думаю, четыре пополудни.
- А в это сложно входит третий слой,
- Не свой, сосредоточенный и злой,
- Без имени, без мужества и женства —
- Закат, распад, сгущение теней,
- И смерть, и все, что может быть за ней,
- Но это не последний слой блаженства.
- А вслед за ним – невинна и грязна,
- Полуразмыта, вне добра и зла,
- Тиха, как нарисованное пламя,
- Себя дает последней угадать
- В тончайшем равновесье благодать,
- Но это уж совсем на заднем плане.
Депрессия
- Депрессия – это отсутствие связи.
- За окнами поезда снега – как грязи,
- И грязи – как снега зимой.
- В соседнем купе отходняк у буржуев.
- Из радиоточки сипит Расторгуев,
- Что скоро вернется домой.
- Куда он вернется? Сюда, вероятно.
- По белому фону разбросаны пятна.
- Проехали станцию Чернь.
- Деревни, деревья, дровяник, дворняга,
- Дорога, двуроги, дерюга, деляга —
- И все непонятно зачем.
- О как мне легко в состоянии этом
- Рифмуется! Быть современным поэтом
- И значит смотреть свысока,
- Как поезд ползет по долинам лоскутным,
- Не чувствуя связи меж пунктом и пунктом,
- Змеясь, как струна без колка.
- Когда-то все было исполнено смысла —
- Теперь же она безнадежно повисла,
- И словно с веревки белье,
- Все эти дворняги, деляги, дерюги,
- Угорцы на севере, горцы на юге —
- Бессильно скатились с нее.
- Когда-то и я, уязвимый рассказчик,
- Имел над собою незримый образчик
- И слышал небесное чу,
- Чуть слышно звучащее чуждо и чудно,
- И я ему вторил, и было мне трудно,
- А нынче пиши – не хочу.
- И я не хочу и в свое оправданье
- Ловлю с облегченьем черты увяданья,
- Приметы последних примет:
- То справа ударит, то слева проколет.
- Я смерти боялся, но это проходит,
- А мне-то казалось, что нет.
- Пора уходить, отвергая подачки.
- Вставая с колен, становясь на карачки,
- В потешные строясь полки,
- От этой угрюмой, тупой раздолбайки,
- Умеющей только затягивать гайки, —
- К тому, кто подтянет колки.
«Крепчает ветер солоноватый, качает зеленоватый вал…»
Ах, если бы наши дети однажды стали дружны…
И. К.
- Крепчает ветер солоноватый, качает зеленоватый вал,
- Он был в Аравии тридевятой, в которой много
- наворовал.
- Молнии с волнами, море с молом – все блещет,
- словно оледенясь.
- Страшно подумать, каким двуполым все тут стало,
- глядя на нас.
- Пока ты качаешь меня, как шлюпку, мой свитер,
- дерзостен и лукав,
- Лезет к тебе рукавом под юбку, кладя на майку
- другой рукав,
- И тут же, впервые неодинокие, внося в гармонию
- тихий вклад,
- Лежат в обнимку «Самсунг» и «Нокия» после
- недели заочных клятв.
- Мой сын-подросток с твоею дочерью – россыпь
- дредов и конский хвост —
- Галдят внизу, загорая дочерна и замечая десятки
- сходств.
- Они подружились еще в «Фейсбуке» и увидались
- только вчера,
- Но вдруг отводят глаза и руки, почуяв большее,
- чем игра.
- Боюсь, мы были бы только рады сюжету круче
- Жана Жене,
- Когда, не желая иной награды, твой муж ушел бы
- к моей жене,
- И чтобы уж вовсе поставить точку в этой идиллии
- без конца —
- Отдать бы мать мою, одиночку, за отца твоего, вдовца.
- Когда я еду, сшибая тугрики, в Киев, Крым,
- Тифлис, Ереван, —
- Я остро чувствую, как республики жаждут вернуться
- в наш караван.
- Когда я в России, а ты в Израиле – ты туда меня
- не берешь, —
- Изгои, что глотки себе излаяли, рвутся, как Штирлиц,
- под сень берез.
- Эта тяга сто раз за сутки нас настигает с первого дня,
- Повреждая тебя в рассудке и укрепляя в вере меня —
- Так что и «форд» твой тяжелозадый по сто раз
- на трассе любой
- Все целовался б с моею «ладой», но, по счастью,
- он голубой.
Ронсаровское
- Как ребенок мучит кошку,
- Кошка – мышку,
- Так вы мучили меня —
- И внушили понемножку
- Мне мыслишку,
- Будто я вам не родня.
- Пусть из высшей или низшей,
- Вещей, нищей —
- Но из касты я иной;
- Ваши общие законы
- Мне знакомы,
- Но не властны надо мной.
- Утешение изгоя:
- Все другое —
- От привычек до словец,
- Ни родства, ни растворенья,
- Ни старенья
- И ни смерти, наконец.
- Только так во всякой травле —
- Прав, не прав ли —
- Обретается покой:
- Кроме как в сверхчеловеки,
- У калеки
- Нет дороги никакой.
- Но гляжу – седеет волос,
- Глохнет голос,
- Ломит кости ввечеру,
- Проступает милость к падшим,
- Злоба к младшим —
- Если так пойдет, умру.
- Душит участь мировая,
- Накрывая,
- Как чужая простыня,
- И теперь не знаю даже,
- На хера же
- Вы так мучили меня.
«Без этого могу и без того…»
- Без этого могу и без того.
- Вползаю в круг неслышащих, незрячих.
- Забыл слова, поскольку большинство
- Не значит.
- Раздерган звук, перезабыт язык,
- Распутица и пересортица.
- Мир стал полупрозрачен, он сквозит,
- Он портится. К зиме он смотрится
- Как вырубленный, хилый березняк,
- Ползущий вдоль по всполью.
- Я вижу – все не так, но что не так —
- Не вспомню.
- Чем жил – поумножали на нули,
- Не внемля ни мольбе, ни мимикрии.
- Ненужным объявили. Извели.
- Прикрыли.
- И вот, смотря – уже и не смотря —
- На все, что столько раз предсказано,
- Еще я усмехнусь обрывком рта,
- Порадуюсь остатком разума,
- Когда и вас, и ваши имена,
- И ваши сплющенные рыла
- Накроет тьма, которая меня
- Давно уже накрыла.
«Пришла зима…»
- Пришла зима,
- Как будто никуда не уходила.
- На дне надежды, счастья и ума
- Всегда была нетающая льдина.
- Сквозь этот парк, как на изнанке век,
- Сквозь нежность оперения лесного
- Все проступал какой-то мокрый снег,
- И мерзлый мех, и прочая основа.
- Любовь пришла,
- Как будто никуда не уходила,
- Безжалостна, застенчива, смешна,
- Безвыходна, угрюма, нелюдима.
- Сквозь тошноту и утренний озноб,
- Балет на льду и саван на саванне
- Вдруг проступает, глубже всех основ,
- Холст, на котором все нарисовали.
- Сейчас они в зародыше. Но вот
- Пойдут вразнос, сольются воедино —
- И смерть придет.
- А впрочем, и она не уходила.
«Он клянется, что будет ходить со своим фонарем…»
- Он клянется, что будет ходить со своим фонарем,
- Даже если мы все перемрем,
- Он останется лектором, лекарем, поводырем,
- Без мяча и ворот вратарем,
- Так и будет ходить с фонарем над моим пустырем,
- Между знахарем и дикарем,
- Новым цирком и бывшим царем,
- На окраине мира, пропахшей сплошным ноябрем,
- Перегаром и нашатырем,
- Черноземом и нетопырем.
- Вот уж где я не буду ходить со своим фонарем.
- Фонари мы туда не берем.
- Там уместнее будет ходить с кистенем, костылем,
- Реагировать, как костолом.
- Я не буду заглядывать в бельма раздувшихся харь,
- Я не буду возделывать гарь и воспитывать тварь,
- Причитать, припевать, пришепетывать, как пономарь.
- Не для этого мне мой фонарь.
- Я выучусь петь, плясать, колотить, кусать
- И массе других вещей.
- А скоро я буду так хорошо писать,
- Что брошу писать вообще.
Турнирная таблица
- Второй,
- Особо себя не мучая,
- Считает все это игрой
- Случая.
- Банальный случай, простой авось:
- Он явно лучший, но не склалось.
- Не сжал клешней, не прельстился бойней —
- Злато пышней,
- Серебро достойней.
- К тому ж пока он в силе,
- Красавец и герой.
- Ему не объяснили,
- Что второй – всегда второй.
- Третий – немолодой,
- Пожилой и тертый —
- Утешается мыслью той,
- Что он не четвертый.
- Тянет у стойки
- Кислый бурбон.
- «Все-таки в тройке», —
- Думает он.
- Средний горд, что он не последний,
- И будет горд до скончанья дней.
- Последний держится всех победней,
- Хотя и выглядит победней.
- «Я затравлен, я изувечен,
- Я свят и грешен,
- Я помидор среди огуречин,
- Вишня среди черешен!»
- Первому утешаться нечем.
- Он безутешен.
«В левом углу двора шелудивый пес…»
В левом углу двора шелудивый пес, плотоядно скалясь, рвет поводок, как выжившая Муму. В правом углу с дрожащей улыбкой старец «не ругайся, брат, не ругайся» шепчет ему.
День-то еще какой – синева и золото, все прощайте, жгут листья, слезу вышибает любой пустяк, все как бы молит с дрожащей улыбкою о пощаде, а впрочем, если нельзя, то пускай уж так.
Старость, угрюма будь, непреклонна будь, нелюдима, брызгай слюной, прикидывайся тупой, грози клюкой молодым, проходящим мимо, глумись надо мной, чтоб не плакать мне над тобой.
Осень, слезлива будь, монотонна будь, опасайся цвета, не помни лета, медленно каменей. Не для того ли я сделал и с жизнью моей все это, чтобы, когда позовут, не жалеть о ней?
Учитесь у родины, зла ее и несчастья, белого неба, серого хлеба, черного льда. Но стать таким, чтоб не жалко было прощаться, может лишь то, что не кончится никогда.
«Я не стою и этих щедрот…»
- Я не стою и этих щедрот —
- Долгой ночи, короткого лета.
- Потому что не так и не тот,
- И с младенчества чувствую это.
- Что начну – обращается вспять.
- Что скажу – понимают превратно.
- Недосмотром иль милостью звать
- То, что я еще жив, – непонятно.
- Но и весь этот царственный свод —
- Свод небес, перекрытий и правил —
- Откровенно не так и не тот.
- Я бы многое здесь переставил.
- Я едва ли почел бы за честь —
- Даже если б встречали радушней —
- Принимать эту местность как есть
- И еще оставаться в ладу с ней.
- Вот о чем твоя вечная дрожь,
- Хилый стебель, возросший на камне:
- Как бесчувственен мир – и хорош!
- Как чувствителен я – но куда мне
- До оснеженных этих ветвей
- И до влажности их новогодней?
- Чем прекраснее вид, тем мертвей,
- Чем живучее – тем непригодней.
- О, как пышно ликует разлад,
- Несовпад, мой единственный идол!
- От несчастной любви голосят,
- От счастливой – но кто ее видел?
- И в единственный месяц в году,
- Щедро залитый, скупо прогретый,
- Все, что вечно со всем не в ладу,
- Зацветает от горечи этой.
- Вся округа цветет, голося —
- Зелена, земляна, воробьина.
- Лишь об этом – черемуха вся,
- И каштан, и сирень, и рябина.
- Чуть пойдет ворковать голубок,
- Чуть апрельская нега пригреет —
- О, как пышно цветет нелюбовь,
- О, как реет, и млеет, и блеет.
- Нелюбовь – упоительный труд,
- И потомство оценит заслугу
- Нашей общей негодности тут
- И ненужности нашей друг другу.
«Не рвусь заканчивать то, что начато…»
- Не рвусь заканчивать то, что начато.
- Живу, поденствуя и пасясь.
- Сижу, читаю Терри Пратчетта
- Или раскладываю пасьянс.
- Муза дремлет, а чуть разбудишь ее —
- Мямлит вяло, без куражу,
- Потому что близкое будущее
- Отменит все, что я скажу.
- Я бы, может, и рад остаться там —
- В прочном прошлом, еще живом, —
- Но о семье писать в шестнадцатом?
- А о войне – в сороковом?
- Сюжет и прочая рутина,
- Какую терпели до поры,
- Всем сразу сделалась противна —
- Как перед цунами мыть полы.
- И лишь иногда, родные вы мои,
- Кой-как нащупывая ритм,
- Я думаю, что, если б вымыли…
- Как эта мысль меня томит!
- Такая ьстивая, заманчивая,
- Такая мерзостно-моя —
- Что зарифмовывая и заканчивая,
- Я кое-как свожу края.
- Едет почва, трещит коновязь,
- Сам смущаюсь и бешусь.
- Пойти немедля сделать что-нибудь.
- Хоть эту чушь.
«Не для того, чтоб ярче проблистать…»
(Из цикла «Декларация независимости»)
- Не для того, чтоб ярче проблистать
- Иль пару сундуков оставить детям, —
- Жить надо так, чтоб до смерти устать,
- И я как раз работаю над этим.
«Приговоренные к смерти, толстые он и она…»
- Приговоренные к смерти, толстые он и она,
- Совокупляются, черти, после бутылки вина.
- Чтобы потешить расстрельную братию,
- Всю корпорацию их носфератию
- В этот разок!
- Чтобы не скучно смотреть надзирателю
- Было в глазок.
- Приговоренные к смерти, не изменяясь в лице,
- В давке стоят на концерте, в пробке стоят на кольце,
- Зная, что участь любого творения —
- Смертная казнь через всех растворение
- В общей гнильце,
- Через паденье коня, аэробуса,
- Через укус крокодилуса, клопуса,
- Мухи цеце,
- Через крушение слуха и голоса,
- Через лишение духа и волоса,
- Фаллоса, логоса, эроса, локуса,
- Да и танатоса в самом конце.
- Приговоренные к смерти спорят о завтрашнем дне.
- Тоже, эксперт на эксперте! Он вас застанет на дне!
- Приговоренные к смерти преследуют
- Вас и меня.
- Приговоренные к смерти обедают,
- Приговоренные к смерти не ведают
- Часа и дня.
- О, как друг друга они отоваривают – в кровь, в кость,
- вкривь, вкось,
- К смерти друг друга они приговаривают
- и приговаривают: «Небось!»
- Как я порою люблю человечество —
- Страшно сказать.
- Не за казачество, не за купечество,
- Не за понятия «Бог» и «Отечество»,
- Но за какое-то, блядь, молодечество,
- Еб твою мать.
«Вынь из меня все это – и что останется?..»
- Вынь из меня все это – и что останется?
- Скучная жизнь поэта, брюзга и странница.
- Эта строка из Бродского, та из Ибсена —
- Что моего тут, собственно? Где я истинный?
- Сетью цитат опутанный ум ученого,
- Биомодель компьютера, в сеть включенного.
- Мерзлый автобус тащится по окраине,
- Каждая мелочь плачется о хозяине,
- Улиц недвижность идолья, камни, выдолбы…
- Если бы их не видел я – что я видел бы?
- Двинемся вспять – и что вы там раскопаете,
- Кроме желанья спать и культурной памяти?
- Снежно-тускла, останется мне за вычетом
- Только тоска – такого бы я не вычитал.
- Впрочем, ночные земли – и эта самая —
- Залиты льдом не тем ли, что и тоска моя?
- Что этот вечер, как не пейзаж души моей,
- Силою речи на целый квартал расширенный?
- Всюду ее отраженья, друзья и сверстники,
- Всюду ее продолженье другими средствами.
- Звезды, проезд Столетова, тихий пьяница.
- Вычесть меня из этого – что останется?
«У бывших есть манера манерная…»
- У бывших есть манера манерная —
- Дорисовать последний штрих:
- Не у моих – у всех, наверное, —
- Но я ручаюсь за моих.
- Предлог изыскивается быстренько,
- Каким бы хлипким ни казался,
- И начинается мини-выставка
- Побед народного хозяйства.
- Вот наши дети, наши розы,
- Ни тени злости и вражды.
- Читатель ждет уж рифмы «слезы».
- Ты тоже ждешь. Ну ладно, жди.
- А тут у нас гараж, как видишь, —
- Мужнин джип, моя «рено»…
- Ты скажешь ей: отлично выглядишь.
- Она в ответ: немудрено.
- И тон ее ласков и участлив,
- Как безмятежный окоем:
- – Надеюсь, ты еще будешь счастлив,
- Как я в отсутствии твоем.
- Боюсь, в мое последнее лето,
- Подведя меня к рубежу,
- Мир скажет мне примерно это,
- И вот что я ему скажу:
- – Да, я и впрямь тебе не годился
- И первым это уразумел.
- Я нарушал твое единство
- И ничего не давал взамен.
- Заметь, с объятий твоих настырных
- Я все же стряс пристойный стих,
- Не меньше сотни строк нестыдных,
- Простынных, стылых и простых.
- А эти розы и акация,
- Свет рябой, прибой голубой —
- Вполне пристойная компенсация
- За то, что я уже не с тобой.
«Продираясь через эту черствую…»
- Продираясь через эту черствую,
- Неподвижную весну,
- Кто-то спит во мне, пока я бодрствую,
- Бодрствует, пока я сплю.
- Вот с улыбкой дерзкою и детскою
- Он сидит в своем углу
- И бездействует, пока я действую,
- И не умрет, когда умру.
- Знать, живет во мне и умирание,
- Как в полене – головня.
- Все, что будет, чувствую заранее,
- Сам себе не говоря.
- Знает замок про подвал с чудовищем —
- Иль сокровищем, бог весть, —
- Что-то в тишине ему готовящим,
- Но не видит, что там есть.
- Что ж ему неведомое ведомо,
- Чтоб мы жили вечно врозь,
- Чтоб оно звало меня, как велено,
- И вовек не дозвалось?
- Верно, если вдруг сольемся в тождество
- И устроим торжество —
- Или мы взаимно уничтожимся,
- Иль не станет ничего.
- Так что, методически проламывая
- Разделивший нас барьер,
- Добиваюсь не того ли самого я —
- Хоть сейчас вот, например?
«Прошла моя жизнь…»
- Прошла моя жизнь.
- Подумаешь, дело.
- Предавшее тело, походы к врачу.
- На вечный вопрос, куда ее дело,
- Отвечу: не знаю и знать не хочу.
- Дотягивай срок, Политкаторжанка,
- Скрипи кандалами по ржавой стране.
- Того, что прошло,
- Нисколько не жалко,
- А все, что мне надо, осталось при мне.
- Вот так и Господь
- Не зло и не скорбно
- Уставится вниз на пределе времен
- И скажет: матчасть
- Не жалко нисколько,
- А лучшие тексты остались при нем.
«В первый раз я проснусь еще затемно…»
В первый раз я проснусь еще затемно, в полутьме, как в утробе родной, понимая, что необязательно подниматься – у нас выходной, и сквозь ткань его, легкую, зыбкую, как ребенок, что долго хворал, буду слышать с бессильной улыбкою нарастающий птичий хорал, и «Маяк», и блаженную всякую ерунду сквозь туман полусна, помня – надо бы выйти с собакою, но пока еще спит и она.
А потом я проснусь ближе к полудню – воскресение, как запретишь? – и услышу блаженную, полную, совершенную летнюю тишь, только шелест и плеск, а не речь еще, день в расцвете, но час не пришел; колыхание липы лепечущей да на клумбе жужжание пчел, и под музыку эту знакомую в дивном мире, что лишь начался, я наполнюсь такою истомою, что засну на четыре часа.
И проснусь я, когда уже медленный, как письмо полудетской рукой, звонко-медный, медвяный и мертвенный по траве расползется покой, – посмотрю в освеженные стекла я, приподнявшись с подушки едва, и увижу, как мягкая, блеклая утекает по ним синева: все я слышал уступки и спотыки – кто топтался за окнами днем? – дождь прошел и забылся, и все-таки в нем таился проступок, надлом, он сменяется паузой серою, и печаль, как тоска по родству, мне такою отмерится мерою, что заплачу и снова засну.
И просплю я до позднего вечера, будто день мой еще непочат, и пойму, что вставать уже нечего: пахнет горечью, птицы молчат – ночь безлунная, ночь безголовая приближается к дому ползком, лишь на западе гаснет лиловая полоса над коротким леском. Вон и дети домой собираются, и соседка свернула гамак, и что окна уже загораются в почерневших окрестных домах, вон семья на веранде отужинала, вон подростки сидят у костра – день погас, и провел я не хуже его, чем любой, кто поднялся с утра. Вот он гаснет, мерцая встревоженно, замирая в слезах, в шепотках – все вместилось в него, что положено, хоть во сне – но и лучше, что так. И трава отблистала и выгорела, и живительный дождь прошумел, и собака сама себя выгуляла, и не хуже, чем я бы сумел.
Песни славянских западников
1. Александрийская песня
- Был бы я царь-император,
- В прошлом великий полководец,
- Впоследствии тиран-вседушитель —
- Ужасна была бы моя старость.
- Придворные в глаза мне смеются,
- Провинции ропщут и бунтуют,
- Не слушается собственное тело,
- Умру – и все пойдет прахом.
- Был бы я репортер газетный,
- В прошлом – летописец полководца,
- В будущем – противник тирана,
- Ужасна была бы моя старость.
- Ворох желтых бессмысленных обрывков,
- А то, что грядет взамен тирану,
- Бессильно, зато непобедимо,
- Как всякое смертное гниенье.
- А мне, ни царю, ни репортеру,
- Будет, ты думаешь, прекрасно?
- Никому не будет прекрасно,
- А мне еще хуже, чем обоим.
- Мучительно мне будет оставить
- Прекрасные и бедные вещи,
- Которых не чувствуют тираны,
- Которых не видят репортеры.
- Всякие пеночки-собачки,
- Всякие лютики-цветочки,
- Последние жалкие подачки,
- Осенние скучные отсрочки.
- Прошел по безжалостному миру,
- Следа ни на чем не оставляя,
- И не был вдобавок ни тираном,
- Ни даже ветераном газетным.
2. О пропорциях
- Традиция, ах! А что такое?
- Кто видал, как это бывает?
- Ты думаешь, это все толпою
- По славному следу ломанулись?
- А это один на весь выпуск,
- Как правило, самый бесталанный,
- В то время как у прочих уже дети,
- Дачи и собственные школы,
- Такой ничего не понимавший,
- Которого для того и терпят,
- Чтобы на безропотном примере
- Показывать другим, как не надо, —
- Ездит к учителю в каморку,
- Слушает глупое брюзжанье,
- Заброшенной старости капризы
- С кристалликами поздних прозрений;
- Традиция – не канат смоленый,
- А тихая нитка-паутинка:
- На одном конце – напрасная мудрость,
- На другом – слепое милосердье.
- «Прогресс», говоришь? А что такое?
- Ты думаешь, он – движенье тысяч?
- Вот и нет. Это тысяче навстречу
- Выходит один и безоружный.
- И сразу становится понятно,
- Что тысяча ничего не стоит,
- Поскольку из них, вооруженных,
- Никто против тысячи не выйдет.
- Любовь – это любит нелюбимый,
- Вопль – это шепчет одинокий,
- Слава – это все тебя топчут,
- Победа – это некуда деваться.
- Христу повезло на самом деле.
- Обычно пропорция другая:
- Двенадцать предали – один остался.
- Думаю, что так оно и было.
3. «Квадрат среди глинистой пустыни…»
- Квадрат среди глинистой пустыни
- В коросте чешуек обожженных,
- Направо барак для осужденных,
- Налево барак для прокаженных.
- Там лето раскаленнее печи,
- На смену – оскал зимы бесснежной,
- А все, что там осталось от речи, —
- Проклятия друг другу и Богу.
- Нет там ни зелени, ни тени,
- Нет ни просвета, ни покоя,
- Ничего, кроме глины и коросты,
- Ничего, кроме зноя и гноя.
- Но на переломе от мороза
- К летней геенне негасимой
- Есть скудный двухдневный промежуток,
- Вешний, почти переносимый.
- Но между днем, уже слепящим,
- И ночью, еще немой от стыни,
- Есть два часа, а то и меньше,
- С рыжеватыми лучами косыми.
- И в эти два часа этих суток
- Даже верится, что выйдешь отсюда,
- Разомкнув квадрат, как эти строфы
- Размыкает строчка без рифмы.
- И среди толпы озверевшей,
- Казнями всеми пораженной,
- Вечно есть один прокаженный,
- К тому же невинно осужденный,
- Который выходит к ограде,
- И смотрит сквозь корявые щели,
- И возносит Господу молитву
- За блаженный мир его прекрасный.
- И не знаю, раб ли он последний
- Или лучшее дитя твое, Боже,
- А страшней всего, что не знаю,
- Не одно ли это и то же.
«В Берлине, в многолюдном кабаке…»
- В Берлине, в многолюдном кабаке,
- Особенно легко себе представить,
- Как тут сидишь году в тридцать четвертом,
- Свободных мест нету, воскресенье,
- Сияя, входит пара молодая,
- Лет по семнадцати, по восемнадцати,
- Распространяя запах юной похоти,
- Две чистых особи, друг у друга первые,
- Любовь, но хорошо и как гимнастика,
- Заходят, кабак битком, видят еврея,
- Сидит на лучшем месте у окна,
- Пьет пиво – опрокидывают пиво,
- Выкидывают еврея, садятся сами,
- Года два спустя могли убить,
- Но нет, еще нельзя: смели, как грязь.
- С каким бы чувством я на них смотрел?
- А вот с таким, с каким смотрю на всё:
- Понимание и даже любованье,
- И окажись со мною пистолет,
- Я, кажется, не смог бы их убить:
- Жаль разрушать такое совершенство,
- Такой набор физических кондиций,
- Не омраченных никакой душой.
- Кровь бьется, легкие дышат, кожа туга,
- Фирменная секреция, секрет фирмы,
- Вьются бестиальные белокудри,
- И главное, что все равно убьют.
- Вот так бы я смотрел на них и знал,
- Что этот сгинет на восточном фронте,
- А эта под бомбежками в тылу:
- Такая особь долго не живет.
- Пища богов должна быть молодой,
- Нежирною и лучше белокурой.
- А я еще, возможно, уцелею,
- Сбегу, куплю спасенье за коронку,
- Успею на последний пароход
- И выплыву, когда он подорвется:
- Мир вечно хочет перекрыть мне воздух,
- Однако никогда не до конца,
- То ли еще я в пищу не гожусь,
- То ли я, правду сказать, вообще не пища.
- Он будет умирать и возрождаться,
- Он будет умирать и возрождаться
- Неутомимо на моих глазах,
- А я – именно я, такой, как есть,
- Не просто еврей, и дело не в еврействе,
- Живой осколок самой древней правды,
- Душимый всеми, даже и своими,
- Сгоняемый со всех привычных мест,
- Вечно бегущий из огня в огонь,
- Неуязвимый, словно в центре бури, —
- Буду смотреть, как и сейчас смотрю,
- Не бог, не пища, так, другое дело.
- Довольно сложный комплекс ощущений,
- Но не сказать, чтоб вовсе неприятных.
Новые баллады
Первая
- В кафе у моря накрыли стол – там любят бухать у моря.
- Был пляж по случаю шторма гол, но полон шалман
- у мола.
- Кипела южная болтовня, застольная, не без яда.
- Она смотрела не на меня. Я думал, что так и надо.
- В углу витийствовал тамада, попойки осипший лидер,
- И мне она говорила «да», и я это ясно видел.
- «Да-да», – она говорила мне не холодно и не пылко,
- И это было в ее спине, в наклоне ее затылка,
- Мы пары слов не сказали с ней в закусочной
- у причала,
- Но это было еще ясней, чем если б она кричала.
- Оса сидела на колбасе, супруг восседал, как идол…
- Боялся я, что увидят все, однако никто не видел.
- Болтался буй, прибывал прибой, был мол белопенно
- залит,
- Был каждый занят самим собой, а нами никто
- не занят.
- «Да-да», – она говорила мне зеленым миндальным
- глазом,
- Хотя и знала уже вполне, каким это будет грязным,
- Какую гору сулит невзгод, в каком изойдет реванше
- И как закончится через год и, кажется, даже раньше.
- Все было там произнесено – торжественно,
- как на тризне, —
- И это было слаще всего, что мне говорили в жизни,
- Поскольку после, поверх стыда, раскаянья и проклятья
- Она опять говорила «да», опять на меня не глядя.
- Она глядела туда, где свет закатный густел опасно,
- Где все вокруг говорило «нет», и я это видел ясно.
- Всегда, со школьных до взрослых лет, распивочно
- и на вынос,
- Мне все вокруг говорило «нет», стараясь, чтоб я
- не вырос,
- Сошел с ума от избытка чувств, состарился
- на приколе, —
- Поскольку, если осуществлюсь, я сделать могу такое,
- Что этот пригород, и шалман, и прочая яйцекладка
- По местным выбеленным холмам раскатятся
- без остатка.
- Мне все вокруг говорило «нет» по ведомой мне
- причине,
- И все просили вернуть билет, хоть сами его вручили.
- Она ж, как прежде, была тверда, упряма, необорима,
- Ее лицо повторяло «да», а море «нет» говорило,
- Швыряясь брызгами на дома, твердя свои причитанья, —
- И я блаженно сходил с ума от этого сочетанья.
- Вдали маяк мигал на мысу – двулико, неодинако,
- И луч пульсировал на весу и гас, наглотавшись мрака,
- И снова падал в морской прогал, у тьмы отбирая
- выдел.
- Боюсь, когда бы он не моргал, его бы никто не видел.
- Сюда, измотанные суда, напуганные герои!
- Он говорил им то «нет», то «да», и важно было второе.
Вторая
- Сначала он чувствует радость, почти азарт,
- Заметив ее уменье читать подтекст:
- Догадаться, что он хотел сказать,
- Приготовить, что он хотел поесть.
- Потом предсказанье мыслей, шагов, манер
- Приобретает характер дурного сна.
- Он начинает: «Не уехать ли, например…»
- – В Штаты! – заканчивает она.
- «Да ладно, – думает он. – Я сам простоват.
- На морде написано, в воздухе разлито…» —
- Но начинает несколько остывать:
- Она о нем знает уже и то,
- Чего он не рассказал бы даже себе.
- Это уж слишком. Есть тайны, как ни люби.
- Сначала он в ужасе думает: ФСБ.
- Но потом догадывается: USB.
- Сначала, правда, они еще спят вдвоем.
- Но каждая стычка выглядит рубежом.
- Вдобавок, пытаясь задуматься о своем,
- Он ощущает себя, как нищий, во всем чужом.
- Разгорается осень. Является первый снег.
- Ощущается сеть, которую все плетут.
- В конце концов, USB – это прошлый век.
- Bluetooth, догадывается он. Bluetooth.
- Имущества нету, нечего и делить.
- При выборе «ложись или откажись»
- Он объявляет ей alt – ctrl – delete,
- Едет в Штаты и начинает новую жизнь.
- …Дневная хмарь размывает ночную тьму.
- Он думает, прижимая стакан к челу,
- Что не он подключился к ней, не она к нему,
- А оба страшно сказать к чему.
- Вся вселенная дышит такой тоской,
- Потому что планеты, звезды, материки,
- Гад морской, вал морской и песок морской —
- Несчастные неблагодарные дураки.
- Звездный, слезный, синий вечерний мир,
- Мокрый, тихий пустой причал.
- Все живое для связи погружено в эфир,
- Не все замечают, что этот эфир – печаль.
- Океан, вздыхающий между строк,
- Нашептывает «бай-бай».
- Продвинутый пользователь стесняется слова «Бог».
- Wi-Fi, догадывается он.
- Wi-Fi.
Третья
Si tu,
si tu,
si tu t'imagines…
Queneau
- Люблю,
- люблю,
- люблю эту пору,
- когда и весна впереди еще вся,
- и бурную воду, и первую флору,
- как будто потягивающуюся.
- Зеленая дымка, летучая прядка,
- эгейские лужи, истома полей…
- Одна
- беда,
- что все это кратко,
- но дальше не хуже, а только милей.
- Сирень,
- свирель,
- сосна каравелья,
- засилье веселья, трезвон комарья,
- и прелесть бесцелья,
- и сладость безделья,
- и хмель без похмелья, и ты без белья!
- А позднее лето,
- а колкие травы,
- а нервного неба лазурная резь,
- настой исключительно сладкой отравы,
- блаженный, пока он не кончится весь.
- А там,
- а там —
- чудесная осень,
- хоть мы и не просим, не спросим о том,
- своим безволосьем,
- своим бесколосьем
- она создает утешительный фон:
- в сравнении с этим свистящим простором,
- растянутым мором, сводящим с ума,
- любой перед собственным мысленным взором
- глядит командором.
- А там и зима.
- А что?
- Люблю,
- люблю эту зиму,
- глухую низину, ледовую дзынь,
- заката стаккато,
- рассвета резину,
- и запах бензина, и путь в магазин,
- сугробов картузы, сосулек диезы,
- коньки-ледорезы, завьюженный тракт,
- и сладость работы,
- и роскошь аскезы —
- тут нет катахрезы, все именно так.
- А там, а там —
- и старость по ходу,
- счастливую коду сулящий покой,
- когда уже любишь любую погоду —
- ведь может назавтра не быть никакой.
- Когда в ожиданье последней разлуки —
- ни злобы, ни скуки.
- Почтенье к летам,
- и взрослые дети,
- и юные внуки,
- и сладкие глюки,
- а дальше, а там —
- небесные краски, нездешние дали,
- любви цинандали, мечты эскимо,
- где все, что мы ждали, чего недодали,
- о чем не гадали, нам дастся само.
- А нет —
- так нет,
- и даже не надо.
- Не хочет парада усталый боец.
- Какая услада, какая отрада,
- какая награда – уснуть наконец,
- допить свою долю из праздничной чаши,
- раскрасить покраше последние дни
- и больше не помнить всей этой параши,
- всей этой какаши,
- всей этой хуйни.
Четвертая






