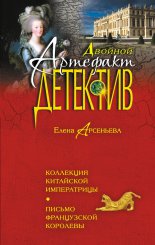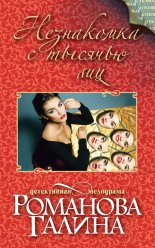Иван Бунин. Поэзия в прозе Быков Дмитрий
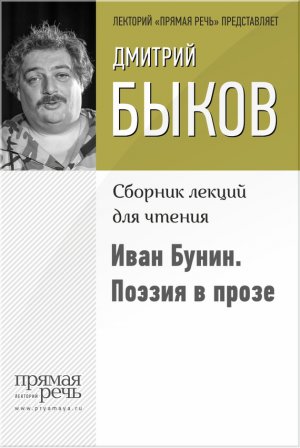
То, что я вижу здесь так много людей, свидетельствует, конечно, не о моих собственных заслугах, а о том, что Бунин каким-то неожиданным образом очень соответствует эпохе. Я впервые в этом убедился, увидев, что мои школьники читают его с особенным наслаждением, причем читают не ради эротических деталей, которые были сенсационны для нашего поколения. Тогда голубой пятитомник Бунина 1957 года воспринимался скорее, как первая «Камасутра», но нынешний школьник находит там удивительную гармонию с собственным мироощущением. С той черной пустотой на месте всех ценностей, которая могла бы называться одним из величайших, катастрофических провалов в русской литературе, если бы не авторитет Нобелевской премии и не то словесное мастерство, не та парча, которой все это затянуто.
Мне вспоминается один разговор с Чингизом Айтматовым, который при всем своем медлительном, подчеркнуто замкнутом азиатском облике чрезвычайно живо следил за литературным процессом. Когда-то на вопрос о Набокове он сказал, что Бунин ему как-то ближе. Я в интервью спросил, не пересмотрел ли он с тех пор свою точку зрения. И он с улыбкой некоторого изумления перед собственными ощущениями ответил: «Да, с годами я начал понимать, что Набоков-то, пожалуй, помягче».
И, как ни странно это выглядит, действительно, на фоне этого вечного противопоставления, этой вечной дихотомии между Набоковым и Буниным всегда считалось, что Бунин – продолжатель, последний, может быть, продолжатель русской классической традиции. Набоков – инородное тело, холодный сноб, и, как предсказал ему Бунин, если он не врет в «Других берегах»: «Вы умрете в совершенном одиночестве». Все это звучит таким приговором новому поколению. Тем не менее, с годами, как Набоков и сам предсказывал в одном из интервью в книге «Strong Opinions», получился совершенно удивительный перевертыш. Стало ясно, что Набоков – традиционалист, выше всего ставящий, как он сказал, нежность, талант и гордость, понимающий, что главное в жизни – not to be stink, то есть, по-русски говоря, не вонять, не производить вокруг себя отвратительных ощущений. А Бунин, который представлялся наследником русской классической традиции – страшный релятивист, ни во что не верящий, с черной пустотой и зиянием в душе, с абсолютным пессимизмом относительно человеческой природы. Стало ясно, что Набоков – добряк, у которого порок всегда наказуем, у которого в конечном итоге мир гармоничен и правильно устроен. Бунин, напротив, это какая-то чудовищная, все всасывающая черная дыра, в которой нет ни верха, ни низа, ни правды, ни справедливости. И что страшнее всего – это твердое осознание собственных противоречий и, как ни ужасно, полного отсутствия мировоззрения, полной дыры на месте любых ценностей, которая так понятна, так родственна сегодняшнему человеку.
Аля Эфрон вспоминала о замечательном диалоге, который случился у нее перед самым отъездом в Россию. Она собиралась ехать задолго до того, как разоблачили отца, после сильной, серьезной ссоры с матерью, после пощечины от нее. После интенсивных приглашений она решила в 1935 году все-таки податься сюда. На прощанье она встретилась с Буниным в Париже, и Бунин ей сказал: «Дура! Девчонка! Не понимаешь, куда едешь! К подлецам! На верную смерть! Господи, было бы мне, как тебе, двадцать лет – пешком пошел бы туда, ноги бы стер до колен!» Вот в этом действительно такая удивительная бунинская внутренняя, вполне органическая, кстати, противоречивость. Она дословно почти копирует известную фразу Толстого, сохраненную Леопольдом Сулержицким, я тоже чрезвычайно люблю ее цитировать, потому что она очень наглядно показывает то же самое противоречие в толстовской душе. Толстой с «Сулером», любимым Левушкой идут по Арбату и видят впереди двух кавалергардов: «Какая гадость! – говорит Толстой. – Смотри, Левушка, животные, ничего духовного! Идут, шпорами бренчат! Какие-то слоны! Как можно! Никакой искры души в глазах!» Потом, поравнявшись с ними, проходит и говорит: «Господи, как хорошо – молодость, счастье, здоровье! Все бы отдал, чтобы сейчас вот так идти по Арбату!» И в этом смысле, конечно, Бунин наследует Толстому наиболее прямо, поскольку носит в душе тоже неразрешимые противоречия между прелестью и бренностью, между очарованием и смертностью и никакого выхода из этого противоречия он не может предложить.
Удивительное дело случилось с Буниным. Он родился эмигрантом, родился человеком, для которого странничество не только естественное состояние, но и, пожалуй, наиболее органичная цель. Цель, которой он обязан достигнуть, чтобы его мировоззрение, его художественный результат пришли наконец в соответствие с биографией. Ведь в чем особенность: мы, поскольку для нас Бунин был источником слишком экзотических сюжетов и слишком ярких описаний, слишком удивительных женских образов, мы в свои семнадцать (и даже, чего там говорить, пятнадцать) лет, к сожалению, совершенно не задумывались о том, как это беспомощно с литературной точки зрения. Конечно, когда это говорится о нобелевском лауреате и говорится литератором, который сам далеко не доказал свое право на это… Но я же не хочу сказать, что это плохо: беспомощно не всегда означает плохо.
Бунин поразителен тем редким в русской литературе сочетанием, которое, кстати говоря, Толстой отмечал применительно к Тургеневу. Он говорил: «Одно, после чего руки опускаются писать, это его описания природы. А как подумаешь, какая глупость происходит среди этой природы!..» Вот, пожалуй, действительно: руки отнимаются писать после того, как увидишь прописанный Буниным антураж. Но представить себе, что происходит в этом антураже, в принципе невозможно. То есть ни одного нормального, классически развивающегося, хоть сколько-нибудь достоверного, хоть сколько-то психологически убедительного сюжета мы у Бунина почему-то не находим.
Для подросткового читателя это выглядит, наверное, еще большим издевательством над здравым смыслом, потому что у подростка есть врожденный естественный здравый смысл, которого не успели еще у него отбить жизненные обстоятельства. Когда он читает «Чистый понедельник», рассказ, бог знает чьим попущением включенный в школьную программу, рассказ, который, я думаю, из всех «Темных аллей» менее всего понятен школьнику и именно поэтому ему рекомендованный… Когда читаешь эту удивительную вещь, все время задаешься вопросом: с какой же стати мы любим эту героиню и интересуемся ею? Ведь перед нами банальная московская купчиха с придурью, девушка с запросами, о которой мы знаем, что она кушает с большим аппетитом и любит это дело и умеет по-московски, ходит на лекции Андрея Белого, увлекается то Индией, то монашеством, то красавцем, похожим на змея в естестве человеческом, зело прекрасном, и все это вместе ужасно напоминает нам что-то уже читанное, но мы боимся себе в этом признаться. Ах, господи, да это же «Володя большой и Володя маленький» – чеховский рассказ о женщине, которая металась между мужем и любовником и всякий раз, согрешивши, ехала в монастырь, будила там монахов и требовала, чтобы они вместе с ней замаливали ее грехи. Бред? Разумеется. Отвратительная, пошлая московская бабенка, которая вот здесь, в этом бунинском рассказе возвышается до каких-то непостижимых высот. Тем не менее нас, детей, когда мы это еще читаем, почему-то вот эта безумная иррациональность поведения бунинских героев не то что не раздражает – она как-то сглаживается на фоне блистательно описанных событий с огромными вечными цепочками однородных определений, с огромными цепочками точнейших наблюдений. Эти декорации отвлекают наше внимание от абсолютной недостоверности происходящего в них.
И вот, пожалуй, тот единственный фактор, который и доказывает, что Бунин – безусловный гений. Все его минусы блистательно обращаются в плюсы. Он с помощью вот этих сочетаний несочетаемого создает то поразительное впечатление, которым заканчивается всякая жизнь. Господи, как все неправильно и при этом, Господи, как все хорошо! Вот, собственно говоря, почему Бунин и является по преимуществу поэтом. Ведь он считал себя всю жизнь прежде всего поэтом. И это справедливо, потому что стихи его (я думаю, здесь Набоков как раз абсолютно прав) не только не уступают прозе, а иногда и превосходят ее. Но дело в том, что бунинская проза была сенсационной именно своей откровенностью, и поэтому его поэзия оказалась навеки в тени этих удивительных поздних текстов. Тем не менее, поэт он по преимуществу потому, что, как ни ужасно это звучит, мы ведь толком не знаем разницу между поэзией и прозой. Это сформулировать внятно невозможно. Попробуем же, наконец, это сделать.
В прозе эффект достигается хоть сколько-нибудь рациональными средствами, по крайней мере, он как-то мотивирован. В поэзии – чем иррациональнее эти средства, тем лучше. И в этом смысле бунинская проза с ее изумительной достоверностью деталей и абсолютной недостоверностью психологии героев создает ровно то ощущение, которое Бунин тщится передать – ощущение роковой изначальной неправильности жизни. Вот с этим ощущением он живет, и это ощущение после эмиграции окончательно в нем укрепляется.
Бунин сегодня самый наш писатель, потому что все мы эмигранты. Только так получилось, что не мы уехали из страны, а страна из-под нас уехала вследствие разных довольно сложных перипетий. Как замечал когда-то Ленин, замаскированный – у Надежды Мандельштам в этой цитате «как писал один известный публицист»: наследникам, последним представителям обреченных классов всегда присуще катастрофическое мировоззрение. Может быть, потому, что эта катастрофа с ними случилась в их личной жизни и им хотелось бы как-то распространить ее на весь окружающий мир.
В общем, мы все, собравшиеся в этом зале (что особенно приятно – нас еще довольно много), последние представители класса вырождающейся советской интеллигенции или советского среднего класса, как называется это теперь. Поэтому нам более чем понятно это бунинское ощущение изначального катастрофизма мира, ощущение, которое заставляло его ко всем своим рассказам об идеальной любви непременно приписывать идиотский, чаще всего немотивированный, внезапный трагический финал.
Ну, возьмем «Русю», лучший, во всяком случае, самый пронзительный, самый невыносимый рассказ «Темных аллей». Перед автором «Темных аллей» стоит довольно простая задача – написать тридцать новелл о катастрофически заканчивающейся любви, потому что сам он только что пережил такую же с Галиной Кузнецовой, закончившуюся не только трагически, но и трагифарсово и абсурдно. Так вот, задача Бунина – любой ценой уничтожить намечающееся счастье. У героев в некоторых рассказах все уж совсем было хорошо. Вот, например, в «Русе» – взаимная, гармоническая любовь двух умных, ранимых, ироничных подростков. Нервных, замечательных, мучающихся к тому же творческими комплексами. Невероятная какая-то глупость обрывает течение их романа: вбегает сумасшедшая мамаша с незаряженным пистолетом или заряженным холостыми, стреляет этими холостыми патронами, кричит: «Или он, или я – выбирай, несчастная!» – ну та, конечно, лепечет: «Вы, мама, вы…» И роман, который начался так бурно, так страстно, заканчивается абсолютно ничем. Я уверен, что этого быть не могло, уж как-нибудь он бы ее нашел, отстоял бы, встретил бы ее в Москве – это получило бы какое-то продолжение. Нет, везде все время рисуется этот страшный обрыв.
«Муза», в которой тоже ничто не предвещает горя. Муза Граф, консерваторка, влюбленная в композитора, все прекрасно, все взаимно. Вдруг она влюбляется в абсолютное ничтожество и, будучи девушкой умной и тонкой, почему-то не разочаровывается в этом ничтожестве, надолго и накрепко с ним остается. Любой ценой уничтожить счастье героев! Я уж не говорю о более ранней «Митиной любви», в которой Митя стреляется, в общем, от тех вещей, которые любой подросток переживает, переживает несколько раз, переживает спокойно и под конец даже не без удовольствия, поскольку это хоть как-то разнообразит уже более-менее устоявшуюся жизнь. Конечно, когда подростку уже под тридцать… (смех в зале)
Это желание любой ценой произвести мрачный и роковой финал, разумеется, лежит в мироощущении человека, изначально видящего жизнь как катастрофу, мыслящего ее как катастрофу и принадлежащего к обреченному классу. В нашем случае эта обреченность простирается еще дальше. Потому, что, глядя на усиливающийся и сгущающийся буквально с каждым днем абсурд происходящего, доходящий уже до полного бадминтона, мы понимаем, что заканчивается не советская и не наша с вами жизнь, не наш класс – заканчивается определенная цивилизация, происходит вырождение. И в этом смысле Бунин «Окаянных дней» и, более того, Бунин «Господина из Сан-Франциско» нам понятен абсолютно. Нам вместе с ним внятно ощущение антропологической катастрофы. И вот за это ощущение антропологической катастрофы, караулящей на каждом углу, мы готовы простить ему натянутость сюжетов, повышенное и явно патологическое (здесь можно, пожалуй, согласиться с Набоковым) внимание к патологическим же типам. К женщинам, не знающим, чего они хотят, к мужчинам, не могущим никак взять свою жизнь в руки. Мы прощаем ему эту вечную атмосферу с одной стороны праздника, а с другой – похорон, с этим непременным сочетанием. Прощаем даже невероятную стилистическую избыточность. Когда мне приходится сегодняшним школьникам читать вслух «Господина из Сан-Франциско», – потому что исчезающе малы шансы, что они прочтут это сами, – я испытываю определенную неловкость не только от великолепной избыточной инструментовки этого рассказа, не только от его абсолютно серебряновековой пряной пошлости многословия, библейских аллюзий, библейского же музыкального слога, но испытываю неловкость прежде всего от того, что автор гробит своего героя абсолютно ни за что. Этот американец, который всю жизнь трудился, копил и теперь должен почему-то в рамках бунинского эсхатологизма за это расплатиться, не вызывает у меня ничего, кроме сострадания. Более того, в эпиграфе «горе тебе, Вавилон, город крепкий…», в описании парохода, который вот-вот потонет, в постоянном подчеркивании слова «крепкий», когда заходит речь о голове американца, о напитке, о ветре (то есть все крепкое должно погибнуть, это подчеркивается) – в этом видится мне, к сожалению, некоторая отсылка к ненавидимому им, но все-таки его современнику Блоку, который после гибели «Титаника» записал в дневнике ни много ни мало: «Слава богу, есть еще океан». То есть, я вижу здесь некоторое смутное, как это ни ужасно звучит, злорадство человека, чья внутренняя постоянная обреченность срезонировала наконец с чьей-то чужой гибелью. Бунин потому так ценит катастрофы в мире и так любит описывать катастрофически завершающуюся любовь, что это гармонирует с его ощущением человека, чья усадьба распалась, чья семья обнищала, чья работа оказалась не нужна и, наконец, чья страна гибнет на глазах.
В этом смысле Бунин – наш, родной писатель еще и потому, что он первый, кто почувствовал в упадке не столько ужас, сколько повод для речи, утешения и пиршеств. Не будем забывать, что его главная поэма «Листопад», которая удостоилась пушкинской премии, (впоследствии он ее же получил за «Гайавату») – это удивительное свидетельство того, что увядание для Бунина и трагедия для Бунина не столько повод отчаяться, сколько повод сделать из этого некое почти пиршество. Ведь этот «лес, словно терем расписной, зеленый, золотой, багряный» – самые зацитированные две бунинские строчки – это как раз мощный символ умирания, символ гибели. И это праздничное умирание, эта гибель – и есть главная бунинская тема. Посмотрите, с каким восторгом, с каким, страшно сказать, аппетитом, описывает он этот корабль, тяжко преодолевающий ночь, мрак, бурю! Посмотрите, какие роскошные предметы обстановки, какие хрустальные висюльки, какие пластроновые рубашки! Как ему ужасно нравится все это, обреченное гибели вот сейчас! Более того, какой-то уже почти неприкрытой некроманией веет от того, как он убивает разнообразными способами все любящее и цветущее. В этом видится не столько патология, патологии нет, сколько месть за собственную жизнь, с самого начала поруганную.
Если бы меня спросили, не дай бог, кто сегодня самый близкий Бунину писатель, я бы с ужасом ответил – Петрушевская. Почему? Хотя ее принято возводить к Леониду Андрееву, и они так и идут в одной связке, потому что оба имеют несчастье писать одновременно и пьесы, и рассказы, и вечно мучиться виной перед критикой, как любой человек, умеющий больше, чем положено. Но, тем не менее, что поделать? Петрушевская, будучи, по-моему, единственным гениальным прозаиком сегодня, непосредственно наследует Бунину в очень важной интенции – это страшное желание предъявить счет за собственную поруганную жизнь и удвоенное отчаяние от того, что предъявить этот счет некому. Вот это у нее особенно отчетливо в блестящем рассказе «Кто ответит?» Это же, собственно говоря, особенно видно и у Бунина.
Бунин, как никто другой из русских прозаиков, жаждет диалога с Богом. И, как никто другой из русских поэтов, он понимает, что этого диалога нет, что не будет ответа, что не к кому обратиться. И тогда поневоле возникает вопрос: каковы же ценности этого бунинского мира? Еще с «Антоновских яблок», первого его рассказа, обратившего на него внимание прессы, мы замечаем, что вырождается дворянство, что вырождается прелестный усадебный мир, который, может, и не был никогда особенно хорош, но теперь среди этой грозной прелести, осенней прелести увядания он действительно обретает какие-то прекрасные, почти титанические черты. Вырождается Россия, вырождается на глазах. Что происходит с общиной, он рассказал в «Деревне». И рассказал так, что после этого уже у всех, читавших Чехова, последние иллюзии развеялись окончательно.
С любовью происходит та же самая история, потому что единственная доступная бунинским героям любовь – это «Солнечный удар»: встретились, все стремительно произошло, расстались навеки, а хорошо бы еще и застрелились оба, но это не всегда получается. Вот в «Деле корнета Елагина» вышло, а в «Солнечном ударе» просто постарели на десять лет. Все абсолютно обманывает и гибнет. Что же остается спасительной ценностью?
И вот здесь, наверное, один из самых удивительных парадоксов Бунина. Бунин умер непримиренным. Бунин ушел, страшно боясь смерти, ненавидя смерть; его вдова, Вера Муромцева, вспоминала, что «на лице его был ужас человека, поглощаемого в ничто, как говорил он сам о смерти брата». Тем не менее, на кровати его осталась раскрытая книга Толстого, и это было «Воскресение». Пожалуй, более символического конца нет в русской литературе. Человек, так боявшийся смерти, умер с таким явным знаком воскресения. Получается, что единственной абсолютной ценностью в бунинском мире – в страшном мире, который постоянно гибнет, чтобы никогда не возродиться – единственной ценностью оказывается слово, а единственной задачей – постоянное, ни на секунду не прекращающееся, мучительное и счастливое творение этого мира заново. Единственная доступная радость, единственная доступная опора в бунинском мире – это воссоздание мира в максимальной точности и полноте с помощью слова.
Вспомним, как в «Жизни Арсеньева» герой, который переживает тяжелую любовную драму (а он там, собственно, ничего другого и не переживает), как раз в пятой части, в знаменитой отдельно печатавшейся «Лике», вдруг испытывает внезапный приступ счастья! Ему удалось заметить, что в трактире крышечка чайника крепится на измочаленной мокрой веревочке, а у селедки, подаваемой в том же трактире, перламутровые щеки. И вот в эту секунду он ощущает какую-то внезапную остроту счастья, большую даже, чем любовное блаженство. Он почувствовал на секунду, что мир подчиняется ему, что можно с помощью этой мокрой веревочки и этого перламутрового существа воссоздать, удержать стремительно распадающееся, постоянно гибнущее – и на этом как-то удержаться. Получается парадоксальный вывод: Бунин, которого мы привыкли числить по разряду все-таки усадебной прозы, которого мы привыкли считать наследником Чехова, Толстого, Тургенева, Достоевского, на самом деле не просто самый отъявленный модернист, но самый брутальный эстет в русской литературе. Для него никаких ценностей, кроме словесного искусства, не существует вообще. И если мы действительно возьмем вот эту жесточайшую поверку, которой Бунин подверг мир, мы узнаем, что уцелело от всего только одно:
- Тебе сердца любивших скажут:
- «В преданьях сладостно живи».
- И внукам, правнукам покажут
- Сию грамматику любви.
Уцелели четыре строчки, написанных на форзаце. Это все, что осталось от страстной любви барина к крепостной.
Лучший бунинский рассказ, мне кажется, – хотя в этом, думаю, со мной никто не согласится, уж подростки точно – рассказ «Холодная осень», в котором нет совсем традиционной бунинской эротики, нет традиционной бунинской трагической любви, а есть просто такая элегическая скорбь. Это, кстати, единственный рассказ у Бунина, где появляется советский мир, где после революции героиня живет, прячется в подвале у горничной, которая все время издевательски ее спрашивает: «Ну, Ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» И согласитесь, что этот вопрос преследует нас сегодня из каждой подворотни, с каждой афиши, мы слышим его постоянно и не знаем, что ответить. Так вот, бунинская «Холодная осень» еще нагляднее демонстрирует главную ценность его мира – страшный, я бы сказал, сардонический финал. Помните, когда героиня вспоминает последние слова жениха: «Ты поживи, порадуйся, а потом приходи за мной». «Я пожила, порадовалась… теперь уже скоро приду». Понимаете, последнее, что осталось от жизни, это четыре строчки:
- Какая холодная осень,
- Надень свою шаль и капот,
- Смотри, среди зябнущих сосен
- Как будто пожар восстает.
Вот это единственное, что остается от жизни. Пожалуй, никто радикальнее Бунина не подверг критике все иллюзии обобщения: от социальных до эротических, от философских до собственно экзистенциальных, потому что даже экзистенциализм Бунина не утешает. Он честно попытался читать своих великих французов-современников и понял, что это не говорит ни уму, ни сердцу ровно ничего. Остается какая-то случайно сказанная прелестная строчка. А в этой прелестной строчке сконцентрированы, как правило, ровно две вещи – прелесть и ужас.
- Ты одна, ты одна,
- Страшной сказки осенней коза…
Вот здесь, в этом образе, который Катаев совершенно справедливо назвал автобиографическим, вот это козье страшное сухое лицо Бунина с вечно вытаращенными розовыми воспаленными глазами – вот этот страшный автобиографический образ оказывается самым исчерпывающе точным. Это сочетание ужаса и восторга каким-то невероятным образом оказывается единственным, что ценно в жизни. И за это в конце концов мы прощаем Бунину и недостоверность, и навязчивость старческого эротизма, как назвал это Набоков, и полное неверие в человеческую природу.
Здесь нам придется сделать небольшой петлистый, по-бунински выражаясь, забег на толстовскую территорию. Собственно говоря, ведь горьковская пьеса «На дне» удалась, как и подавляющее большинство горьковских текстов, случайно. Известно, что когда Горький ставил себе задачу, у него не получалось ничего. Но иногда случайно выходило гениально. Это, в общем, большая примета большого писателя. Так вот, Горький же собирался писать «На дне» совершенно иначе. Там не было никакого Сатина, никакого «бога свободного человека», никакой «лжи, религии рабов и хозяев» – это была сентиментальная история о том, как живут люди в ночлежке, разговаривают. Ну, вот пришла весна, они вышли и начали как-то благоустраивать территорию вокруг своей ночлежки (в 1903 году провидчески угадан субботник). В общем, как-то полюбили друг друга, помирились, все стало хорошо, стало можно жить. Горький рассказал об этой идее Толстому и прочел первый акт. Он думал, ну сейчас покажу всю грубость, всю правду жизни. Толстой думает, я не знаю мужика, сейчас я ему покажу, чего я знаю. А Толстой, против ожидания, сказал: «Зачем тащить, зачем вытаскивать эту грубость, эту грязь? Это все есть, но зачем это показывать? Что это такое, я не понимаю. У вас нет единого взгляда, единого, целого художественного мировоззрения, и я этого слушать дальше не хочу». Горький обиделся настолько, что вставил туда Толстого. И вещь заиграла. Получилось прекрасное произведение.
В самом деле, толстовский персонаж – этот Лука, который несет в себе абсолютно все толстовские черты: лукавый старичок, насмешник, к тому же каторжник, «беспачпортный»… И кроме того, пьеса недурно построена, мы-таки не знаем, кто убил Костылева, почему-то первым драпает Лука… Хотя ясно, конечно, что постарался Пепел, а вместе с тем это мог быть кто угодно, как мог убить кто угодно из братьев Карамазовых, тоже недурно построенный роман. Так вот, как раз в «На дне» образ Толстого вдруг обрел очень важное измерение, о котором всегда забывают. Возник спор Сатина (ну, естественно, что в Сатине угадывается его создатель) и Луки, лукавого старичка, который не верит в человека. Вот это главная черта Луки – неверие его в то, что человек может обходиться без подпорок. Человека надо утешать. И, как пишет Горький в одном из писем, «это утешитель, который утешает, чтобы не тревожили покоя ко всему притерпевшейся холодной души». Ясно совершенно, в чей яснополянский огород пролетает этот булыжник, действительно хорошо просчитанный. Ужас-то в том, что, как всегда, когда злость промывает глаза, Толстой здесь увиден в каком-то главном, почти невидимом, почти забываемым нами своем измерении. Мы видим толстовское глубочайшее неверие в человеческую природу. Более того, Лука не верит в человека в принципе. Не в то, что его надо утешать, он вообще понимает, что человек слаб, грешен и каждую секунду владеют его жизнью два главных побуждения – страх и похоть. Ну, и Толстой добавил бы сюда еще тщеславие. Но все толстовские апологии мира, семьи, связей между людьми, даже патриотизма в ранние годы – все это апология тех скреп, которые удерживают расползающееся, хаотическое, неверное себе человеческое существо.
И вот это неверие в человека страшным образом унаследовал Бунин. Унаследовал прямо, и именно поэтому это та зона умолчания, вокруг которой он ходит кругами в книге «Освобождение Толстого», на 2/3 состоящей из цитат, но так и не решается сказать об этом прямо. Так и не решается обозначить ту линию, по которой он наследует главному, безусловно, лучшему русскому классику. Человеку, который создал всю русскую литературную матрицу, и в результате именно эта литературная матрица вышла таким безнадежно мрачным произведением. И поэтому она так мрачна, осуществляясь в нашей жизни. Ведь и Пьер, и Наташа, и, безусловно, Анна, и, безусловно, Стива – это люди, все время ощущающие в себе ад хаоса и страстно желающие к чему-нибудь прислониться, чтобы этот ад победить. Такого неверия в человека мы не встретим у Чехова, который все-таки верит, что на дне обязательно есть если не добро, так хотя бы здравый смысл, хотя бы ирония. Этого неверия мы не встретим у Достоевского, который, проводя своего героя через любой ад, все-таки обнаруживает на дне, даже у Раскольникова, даже у Свидригайлова, какую-то совесть, какую-то надежду. У Толстого ничего этого нет. Это тот самый старец Лука с мировоззрением, страшно сказать, «беспачпортного» беглого каторжника, который, к каждому человеку подходя, видит внутри прежде всего зияющую черную дыру. И с этим ощущением зияющей дыры Бунин и пишет всю свою Россию, Россию, которая уже в ранних текстах выглядит изначально трагически обреченной.
Главной антитезой Бунину в русской литературе выглядит, конечно, не Набоков, – который, как правильно о нем сказал Валерий Попов, немножечко гимназический писатель, писатель, слишком рационально подходящий к человеческой жизни, – а, пожалуй, главным противоречием ему выглядит Куприн.
Такой странный противовес. Они дружили, враждовали, соперничали. Но вот удивительное дело – как раз то же буйство жизни, то же счастье, то же наслаждение избытком мы везде у Куприна найдем, но нигде мы не встретим у него ощущения грядущей катастрофы. Напротив, мы каким-то образом почувствуем, что эта грядущая катастрофа – это очень хорошо, здорово, это входит в божий замысел, это правильно. Это так надо для того, чтобы мы явили лучшие свои качества. Лучший, на мой взгляд, текст Куприна, который всегда так любят школьники, – это, конечно, «Звезда Соломона», или в первом варианте «Каждое желание». История добродетельного чиновника Цвета, который с помощью криптографии вдруг получил ключ к миру – знаменитое словосочетание «афро-аместигон». Благодаря этому словосочетанию, он мог бы устроить ТАКОЕ, а в результате не устроил ничего, кроме одной победы на бегах. И когда Мефодий Исаич Тоффель, он же Мефистофель, забирает у него этот ключ к всевластью, он говорит: «Афансий Васильевич, вы такой милый малый, но какой же вы скучный малый! Вы могли мир залить кровью, вы могли подарить человечеству величайшее счастье, величайшее отчаяние, а вы что сделали?! Вы не сделали ни-че-го! Ну, прощайте, господь с вами. Напоследок могу исполнить одно ваше желание. Чего вы хотите?» – «Хочу быть коллежским регистратором», – отвечает Цвет. И вот это как раз то, чего Куприн категорически не приемлет, потому что в следующей сцене пьяные товарищи входят к Цвету и дружно поют: «Коллежский регистратор, чуть-чуть не император, зубровку пьет запоем, страдает геморроем», – и это все, что получает главный герой в виде награды.
Так вот, Куприн воспринимает мир как радостный вызов. Будет катастрофа – хорошо, отлично! Украдут белого пуделя – украдем белого пуделя обратно! Случится война – покажем себя молодцами! Случится величайшая несправедливость – как-нибудь Господь так устроит, что любой ценой все-таки (как в «Святой лжи») покается злодей и восторжествует любовь. Я уж не говорю про «Гамбринус», самый трагический, самый отчаянный рассказ Куприна, в котором скрипачу ломают руку. И что же скрипач? А скрипач вынимает грубую глиняную свистульку и начинает свистать, а потому что ни хрена ты не сделаешь с человеком!
И вот на фоне этого бунинского, роскошно ниспадающего, мраморного, отлично отшлифованного памятника человечеству, который стоит где-нибудь в заброшенной усадьбе, купринское творчество – это именно глиняная свистулька, жизнерадостно высвистывающая все тот же гимн миру. Конечно, слабО Куприну с той же силой проникновения описать, допустим, антоновские яблоки в усадьбе, и, кстати говоря, именно Куприн написал на Бунина единственно точную пародию, которая начинается классической фразой: «Сижу я под окном, жую мочалу, и в моих козьих барских глазах светится красивая печаль». Вот это «сижу я под окном, жую мочалу» – это, конечно, точнейшая картина того, чем занимается предреволюционный Бунин. Кстати говоря, две пародии убийственные купринские: одна на Горького, где два ницшеанца, Челкаш и Мальва, лежат в тени городского писсуара, и вторая на Бунина, где он жует мочалу, эти два удивительных текста демонстрируют великолепное торжество живой жизни над любым умозрением. Поэтому и страстно любя Бунина, и признавая величие Бунина, я все-таки счел бы, при всей его точности и подходящести нашему времени, я счел бы его скорее симптомом, а вот лекарством я счел бы Куприна. Но время для Куприна еще не настало. И, может быть, именно поэтому сегодня такой роковой безнадежностью веет от нашего нынешнего разговора.
Но завершая его на более-менее оптимистической ноте, хотел бы я вспомнить вот о чем. Есть тематический анекдот, когда Эйнштейн попадает в рай и Господь обещает исполнить за его творческий подвиг любое его желание. Он говорит: «Господи, покажи мне формулу мироздания!» Бог пишет ему знаменитую формулу единой теории поля, которую Эйнштейн искал всю жизнь, он смотрит и говорит: «Господи, вот здесь же ошибка!» И Господь спокойно отвечает: «Я знаю». (смех в зале) Так вот, это ощущение мира, сотворенного с непоправимой ошибкой, но сотворенного так прекрасно – это, пожалуй, и есть главный бунинский ответ на постоянную катастрофу мироздания. И, может быть, нам в нашем нынешнем состоянии сегодня полезнее всего читать и перечитывать Бунина с твердым сознанием того, куда мы идем. Но мы должны постараться идти туда как можно более красиво, как можно более торжественно, соблазняя на этом пути как можно большее количество по-бунински очаровательных женщин.
Я ничего не сказал про главного бунинского ученика и наследника – про Катаева, в надежде, что буду спрошен на эту тему, поэтому давайте…
– Расскажите про Катаева.
– Обычно мне удается сказать во время лекции нечто провокативное, за что можно зацепиться, но о Бунине очень трудно сказать что-либо нестандартное, поскольку автор очень ярок, очень нагляден, все сам про себя сказал и вдобавок получил за это Нобелевскую премию, что как бы делает его литературный авторитет уже подлинно бесспорным. Хотя, как большинство лауреатов Нобелевской премии, он очень четко выражает один определенный момент, а другой воспринимается уже с огромной поправкой. Бунину в этом смысле повезло, потому что у советского человека, прямого наследника бунинского читателя, у него была дача. И на даче он прошел впервые и эти бесконечные зеленые летние закаты, и маленькую станцию за Подольском, и влюбленность в дачную соседку, которая всегда ведет себя не так, как положено по логике, а наиболее алогичным и дурацким путем. У нас были свои девушки Серебряного века, свои изломанные девушки 80-х годов, нервно курящие, никогда не понимающие, чего они хотят, хотя хотят они на самом деле всегда денег и еще чего-то… Поэтому Бунин страшным образом умудрился попасть и в наше время тоже.
Что касается Катаева, о котором я сам себя так элегантно спросил, Катаев удивительным образом развивает вот эту же страшную, никогда не оставляющую, неотступную бунинскую мысль о тщете всего сущего и о неизбежности конца. Мысль, которая наполняет такой невероятной яркостью лучшие катаевские тексты, мысль, которая неотступно светится в лучшей, наверное, советской повести «Трава забвения», когда, после нескольких цитат из разных авторов (а у Катаева была же, вы знаете, эта прелестная строфическая манера, идущая, конечно, из Андрея Белого, разбивать текст на такие короткие фрагменты), после этого вдруг идет одна обреченная строчка: «Неужели всему конец?» И после этого, после такой же отбивки еще одна строчка: «На “Маяке” легкая музыка» – это потому, что он все время вписывает туда то, что доносится в Переделкине из радиоприемника, звучащего над дачами. И, действительно, вот это сочетание «неужели всему конец?» и «на “Маяке” легкая музыка» – оно, конечно, квинтэссенция «Травы забвения».
Но с Катаевым получилось интересно, вот почему чтение Катаева кажется мне несколько более душеполезным делом. Катаев – это тот удивительный случай, когда апперцепция, что ли, восприятия, переделка дворянской грусти осуществляется на одесской почве типичным здоровым южанином, который чувствует себя не только не последним представителем рода, а наоборот, ощущает себя некоторым началом новой прекрасной жизни, и это ощущение он впитал с молоком матери. В конце концов, он живет в начале века, от которого многого ждет, он читает «Пещеру Лейхтвейса», он страстно увлечен полетами на воздушном шаре – ничего, кроме прогресса, ему ХХ век не сулит. Потом он прапорщиком идет на войну, сначала вольноопределяющимся, потом он получает Георгиевский крест. Даже на войне он умудряется испытать некоторое количество патриотических подъемов, радости, упоения молодостью, романов с поселянками. Наконец, революция приносит ему довольно много тех же радостей, хотя он успел пометаться от красных к белым и от белых к красным, все-таки переживает и тиф, и арест, и много раз смертельную опасность… Но Катаев никогда не чувствует себя последним, у Катаева всегда впереди жизнь. И эта удивительная получается история, вот Аркадьев, конечно, поймет – это как бы Бунин, сыгранный в мажоре, причем мажоре бравурном, радостном, несколько даже маршеобразном. Это, действительно, придает катаевской прозе совершенно удивительный оттенок, так же, как у каждого гения все минусы обращаются в плюсы. Все время ощущение: да-да, все кончено, как это, черт побери, хорошо! Сколько еще радости! Как прекрасно булькает вода, пахнет фиалка, как хорошо выглядит свежая купюра! То есть каким-то образом вещный мир, декорации в творчестве Катаева заслонили вечную экзистенциальную тоску и утешили главного героя. И в этом мне видится тоже, в общем, какое-то счастье, потому что Бунин – это уникальный пример того, как можно одну эмоцию – чувство хрупкости и бренности всего – использовать в сплошном позитиве.
Кстати, мне вспоминается замечательная история, когда одного своего ученика в школе, мальчика, принципиально известного своей неспособностью запоминать стихи, я заставил выучить ради зачета хоть что-то наизусть. Он выбрал четверостишие, естественно, потому что на большее он не тянул. Четверостишие из Бунина. И замечательно показал на этом четверостишии (я «пять» поставил не глядя), как можно Бунина переиграть в мажоре. И будет хорошо и весело. Он взял «Светляков».
- В зеленом мраке черной ели
- Горела темная заря,
- И светляки всю ночь горели…
…здесь он забыл четвертую строчку и мрачно закончил:
- И вместе с ними на фиг я!
(смех в зале)
Вот с такой строчкой это лучше, чем у Бунина, веселее, полнее, чем у Бунина, если угодно, и весь пафос выражен с абсолютной круглотой. Я бы такого не выдумал никогда!
– Расскажите об отношении Бунина к цветаевской и ахматовской поэзии.
– Бунину приписывается четверостишие, хотя, конечно, автор не он, он просто его любил цитировать:
- Увы, свидание с Ахматовой
- Всегда кончается тоской,
- Как эту даму не охватывай,
- Доска останется доской.
Я думаю, проблема в том, что здесь редкий случай, когда «своя своих не познаша». Бунин слишком видит в Ахматовой свою героиню, изломанную девушку из «Чистого понедельника», и поэтому она для него большого интереса не представляет. Ну, что нам до стихов нашей лирической героини, выдуманной нами девушки?
Что касается Цветаевой, то она дружила с Верой Николаевной, Вера Николаевна ее очень любила и, думаю, понимала. Бунин относился снисходительно и не понимал совсем. И даже есть у него высказывание, что если бы стихов не писала, то и совсем была бы хорошая. И, в общем, с этим трудно не согласиться. Я, пожалуй, солидарен с Новеллой Матвеевой, которая ставит цветаевскую прозу гораздо выше ее стихов. Хотя и стихи, конечно, гениальные, чего там говорить, дай бог каждому. Дай бог Бунину, сказал бы я. Но, тем не менее, здесь были границы его понимания.
За что я его люблю особенно, так это за четкое сознание этих границ. Он никогда не пытался делать вид, что ему нравится. Он не пытался соответствовать общественному мнению. Он честно, всерьез спрашивал Берберову, потрясая томиком Пруста, как можно всерьез относиться к этой лабуде? И я охотно повторил бы этот вопрос, если бы меня не сковывал страх перед образованными людьми. (смех в зале) А ему нечего было боятся. И когда Берберова робко лепетала на это: «Но это лучший писатель Европы в двадцатом веке…», Бунин краснел от негодования, пыжился, не понимая, как в его присутствии можно сказать такое. (смех в зале) Это как классический, всегда цитируемый Веллером ответ Гюго на вопрос «Кто первый поэт Франции?»: Гюго долго кряхтит, почесывается и наконец с отвращением говорит: «Второй – Альфред де Мюссе». (смех в зале). Это верно, но здесь та же история. Конечно, в присутствии Бунина хвалить Пруста – ну, это, я не знаю, примерно, то же самое, что в присутствии де Голля хвалить Саркози, чтоб уж брать свежий пример.
Что касается человеческого отношения Бунина к Цветаевой, то здесь были явлены лучшие его человеческие качества. Раздраженная доброта. Он относился к ней с раздраженной, раздражительной, сердитой, милосердной, несколько сентиментальной добротой. И думаю, что она к нему так же. Он считал ее сумасшедшей, она его – безнадежно устаревшим. Они очень друг друга любили. Дай бог нам всем так преодолевать наши противоречия.
А насчет Ахматовой, я полагаю, он был прав отчасти, потому что Ахматова при своих попытках воспроизводить русский усадебный миф как-то безнадежно вторична. Ну, вот, например:
- Перенеся двухдневную разлуку,
- К нам едет гость вдоль нивы золотой.
- Целует бабушке в гостиной руку
- И губы мне на лестнице крутой.
Мандельштам замечательно же это переделал. Он говорил: «Аня, ну насколько лучше было бы…
- Целует мне в гостиной руку
- И бабушку на лестнице крутой.
(смех в зале)
Насколько сразу интереснее становится зрительно! Получается живой такой усадебный вариант.
– А к Набокову?
– Что касается Набокова, то здесь имели место какие-то, понимаете, врожденное непонимание и ревность. Я не знаю, насколько достоверна – она в устной передаче нам известна – фраза про «мальчишку, который вытащил пистолет и уложил всех стариков, включая меня». Зверев ее подвергает сомнению, я думаю, это действительно сказано как-то слишком любезно. Но, по большому счету, это вот как раз редкий случай, когда писательская ревность заслонила правильное понимание ситуации. Ему показалось, что Набоков – сноб. Показалось, что этот мальчик богатый, которому всегда везло, мальчик, который пишет легко, мальчик без внутреннего содержания. Но, помилуйте, такой нежности, такого одиночества, такого страдания, какое мы видим у Набокова, ну где вы еще найдете? Такую жалость к несчастному толстому аутичному ребенку, как в «Защите Лужина». Такое сострадание, как к Цинциннату в «Приглашении». Такую невероятную тоску по России, как в «Даре». Я-то абсолютно убежден, что «Дар» – это апология Чернышевского и осуждение Годунова-Чердынцева, потому что Годунов-Чердынцев – самодовольный атлет, которому не дано главного, не дано ключей – вот эта финальная метафора очень важна. Чернышевский похож на мертвого Христа Гольбейна. Это все-таки очень не случайные вещи. Мне-то всегда казалось, что это роман, который противопоставляет Чернышевского Чердынцеву со знаком плюс, безусловно. И всего этого не увидели. Более того, эту главу не напечатали. И уж конечно, если бы Бунин вгляделся, он бы увидел в Набокове как раз продолжателя традиций – традиционалиста. А он увидел в нем легкого жонглера словами, и это еще раз доказывает, что ни один писатель, к сожалению, не может правильно отнестись к живому современнику. Будем же милосердны. Будем же снисходительны к этому. Хотелось бы всех к этому призвать.
– «Уже написан Вертер» и «Окаянные дни»…
– Это интересное, на самом деле, сочетание. В замечательных работах Лущика доказано, что «Уже написан Вертер» – не о Катаеве, но вопреки этой точке зрения я продолжаю считать, что это вещь исповедальная и что речь идет о нем самом, наделенном чертами многих современников. Это такая страшная прикидка собственной судьбы. «Уже написан Вертер» – третье обращение Катаева к этому сюжету. Первым была повесть «Отец», вторым – «Трава забвения» и глава «Девушка из совпартшколы» о Клавдии Зарембе. А третья – «Уже написан Вертер». Страшная, конечно, книга о беспощадности века. И не случайно там пастернаковская мысль: «что ж, мученики догмата, вы тоже жертвы века». Особняком стоящая вещь в катаевском творчестве, как-то не входящая даже в катаевский канон. Но какая удивительная в ней есть важная нота и какое важное несходство с «Окаянными днями» (вот сейчас скажу важную вещь, и на этом можно будет заканчивать), «Окаянные дни» – это ощущение давно копившейся, справедливо ожидаемой катастрофы, того возмездия, которого ожидали все. Катастрофа есть норма. Это не более чем гнойник, вышедший наружу. Всё это знали, всё это предчувствовали, к этому всё шло. Мы говорили, мы предупреждали, и вот оно взорвалось – это лейтмотив «Окаянных дней».
В «Уже написан Вертер» чудовищная жестокость мира – это все-таки не норма, это все-таки эксцесс, это все-таки страшный сон. И поэтому заканчивается она счастливым пробуждением в сосновом лесу в Переделкине, самолетом, который проезжает как бы по самой крыше… и только в открытое окно влетает какой-то страшный сквознячок, напоминающий «открыть окно, что жилы отворить».
В общем, жестокость мира и жестокость века для Катаева страшный сон. А для Бунина – подспудная правда жизни, выходящая иногда наружу. Вот в этом, по-моему, основополагающая разница. Кроме того, если у Катаева по преимуществу во всем виноват Наум Бесстрашный, в котором, конечно, угадывается Блюмкин, во всем виноват Троцкий и другие замечательные люди, то для Бунина между большевиками разницы нет, они все для него одинаковое рыло. Особенно приятно, что здесь он не делает разницы между евреями и неевреями. Все революционеры одинаково мерзки. И это очень по-бунински. Тогда как Катаев все-таки оставляет какой-то шанс всем, кто не Наум Бесстрашный.
Ну, будем думать все-таки, что дурное – это страшный сон. Спасибо вам за долготерпение. Бог даст, увидимся. Ходите на лекции мои и Аркадьева. Пока.