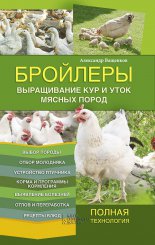Лев в тени Льва. История любви и ненависти Басинский Павел
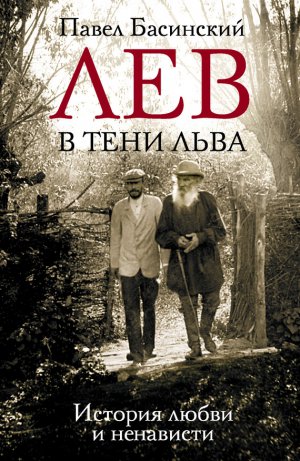
«Ромен Роллан говорит, что в романах Толстого женские типы гораздо ярче и правдивее мужских, – пишет Лев Львович. – Не объясняется ли это только указанным семейным условием? Но не объясняется ли еще и самый характер мысли отца, даже его крайности, всё его миросозерцание, отчасти тем, что он был, как мужской ум, одинок и совершенно свободен от того строгого, неумолимого судьи, каким всегда бывает искренний ум близкого старшего родственника или хотя бы такого же сверстника?»
В Москву! В Москву!
«Перед тем, как наша семья переехала в 1881 году из Ясной Поляны в Москву, в доме царила нездоровая, нервная атмосфера. Мать уже не справлялась одна со всеми семейными заботами; отец, хотя и видел, что для воспитания выросших детей деревня не давала нужных условий, в то время переживал свой так называемый “религиозный кризис” и думал о переезде в город с большим неудовольствием», – пишет Лев Львович в «Опыте моей жизни».
Трудно сказать, насколько переезд в Москву был оправдан. Да, Сергею нужно было поступать в университет, Татьяне – выезжать в свет, чтобы выйти замуж, а Илье и Льву – учиться в гимназии. Но выезды Татьяны в свет не принесли ей семейного счастья. Университет закончил только Сергей Львович, но как раз он не учился в гимназии, а получил домашнее образование в Ясной Поляне. Илья учился в гимназии с грехом пополам. В то же время переезд в Москву совпал с началом семейного кризиса.
Одним из доказательств нездоровой семейной атмосферы было то, что искать пристанище в Москву поехала одна Софья Андреевна, находясь на шестом месяце беременности. Муж от участия в поисках жилья поначалу устранился. Летом 1881 года со слугой Сергеем Арбузовым он пешком ходил в Оптину пустынь и беседовал со старцем Амвросием, затем поехал в самарское имение с сыном Сережей, а вернувшись в Ясную Поляну, видимо, отказался помогать Софье Андреевне, хотя в письме из Самарской губернии обещал: «Даст Бог приеду, я тебе буду служить по москвским делам усердно, только приказывай…»
В этих поисках нового жилья мама сопровождал сын Лёля, которого она взяла в Москву лечить зубы. Именно он наблюдал за тем, как неопытная в таких делах беременная женщина сначала пыталась купить дом, а затем решила снять квартиру в Денежном переулке, но она оказалась неудачной…
«Все меня смущали, – вспоминала Софья Андреевна, – всякий говорил свое мнение, и всякий находил что-нибудь неудобным в домах, которые я смотрела. Наконец, я остановилась на том, что дом я, во всяком случае, купить не решусь, а взяла довольно дешевую квартиру в Денежном переулке в доме (особняке) князя Волхонского. Мне понравился большой кабинет, выходивший на двор окнами и совершенно в стороне от других комнат. Но этот-то великолепный кабинет впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича тем, что был слишком просторен и слишком роскошен…»
В выборе квартиры она руководствовалась мыслями о муже, а ради детей пошла почти на подвиг. «Жара была невыносимая, пыль, треск пролеток, одиночество – всё это было ужасно тяжело. Целыми днями я тряслась в извозчичьих пролетках, влезая и вылезая из них, чтобы осматривать квартиры и дома. Удивительно, что я не родила преждевременно от всего этого». А в результате? «Приехали в Денежный переулок, в дом Волхонского. Встретили нас там брат Петя с женой Ольгой. Всё было приготовлено: и чай, и холодный ростбиф, и постели всем; всё было освещено, всё обдуманно. Дом похвалили, но, несмотря ни на что, все сразу поверглись в уныние; и все легли спать с какой-то непобедимой тоской в душе».
«Дом на самом деле оказался вроде карточного, – вспоминал Сергей Львович. – Расположение комнат было таково, что в каждой комнате шум и разговор из других комнат был слышен. Это мешало работе отца, мешало и мне: я почти не находил времени играть на фортепиано, а когда было время, я боялся мешать отцу».
Толстой с его новыми настроениями был возмущен видом огромного кабинета, обставленного роскошной мебелью, которую с любовью подбирала жена. Софья Андреевна в отчаянии пишет сестре Т. А. Кузминской: «Лёвочка говорит, что если бы я его любила и думала о его душевном состоянии, то я не избрала бы эту огромную комнату, где ни минуты нет покоя, где всякое кресло составило бы счастье мужика, то есть эти 22 рубля дали бы лошадь или корову, что ему плакать хочется и т. д.».
В первые месяцы в Москве Софья Андреевна и Лев Николаевич постоянно плачут. «Вонь, роскошь, нищета, разврат, – пишет Толстой в дневнике о Москве. – Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют». И собственная семейная жизнь ему видится в том же освещении. «Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные!»
«Лев Николаевич почти со мной не разговаривал и всё время давал мне чувствовать, что я его мучаю, что жизнь его отравлена мной; и я не переставая плакала». «Лёвочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. – жалуется она своей сестре. – Он не спал и не ел, сам la lettre[7] плакал иногда, и я думала, что я с ума сойду».
Отпадение Толстого
В мае 1880 года во время торжественного открытия памятника А. С. Пушкину в Москве, когда Достоевский произносил знаменитую «пушкинскую» речь, среди собравшихся писателей циркулировал слух, что Толстой в Ясной Поляне сошел с ума. 27 мая Достоевский писал жене: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел». И насколько же легко приняли этот слух братья-писатели, если на следующий день в письме к жене Достоевский сообщает: «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было».
В феврале 1881 года Достоевский скончался. Возможность знакомства великих писателей была навсегда потеряна.
Слухи о «сумасшествии» Толстого ходили не только среди писателей. В феврале 1881 года в Ясную Поляну приезжает родной брат Софьи Андреевны, Александр Берс. После его отъезда Софья Андреевна пишет сестре Татьяне Кузминской: «Меня Саша напугал, что находит в Лёвочке нравственную перемену к худшему, то есть боится за его рассудок. Ты знаешь, что когда Лёвочка чем-нибудь занят, то он весь отдается своей мысли. Так и теперь. Но религиозное и философское настроение всегда самое опасное. Теперь он здоров и весел, пополнел, и я ничего не вижу в нем опасного, и голова меньше стала болеть…»
В Туле тоже ходили разговоры о «помешательстве» Толстого. Сын Сергей считал, что этот слух пустил председатель земской управы Кислинский.
Но тот же Сергей Львович вспоминал: «В 1881 году финансовые дела нашей семьи были в блестящем состоянии… В то время у него скопилось много денег. Он продал мельницу в Никольском-Вяземском за 9 500 рублей, продал часть леса (Заказа) в Ясной Поляне, не помню за сколько, и получил за Полное собрание своих сочинений 25 000 рублей».
«Несмотря на перемену во взглядах, – пишет он дальше, – образ жизни отца в Ясной Поляне до переезда в Москву мало изменился. Он продолжал вести хозяйство в имениях, курить, есть мясо и даже охотиться. Только он стал гораздо меньше и как бы поневоле заниматься хозяйством и стал больше работать над своими писаниями, не давая себе отдыха летом. В 1881 году из большого предположенного им труда, состоявшего из четырех частей: 1) Введения («Исповедь»), 2) “Критики догматического богословия”, 3) “Исследования Евангелия” и 4) “Изложения веры”, первые две части уже были написаны, и он трудился над третьей».
Единственное, в чем он нуждается в это время, – это уединение и меньшая зависимость от хозяйственных забот. Он это вполне заслужил, ибо финансовые дела семьи идут успешно. Жена и дети сыты, одеты, обуты. Однако…
Кто страдает в Ясной Поляне?! Кто рвется в Москву, кроме Сергея и Татьяны, которые молоды и которым страстно хочется убежать из деревенской глуши? Он мечтает о студенческой жизни с ее свободой и независимостью. Она – о балах, нарядах, поклонниках! Но кому еще плохо в деревне?!
«…хочется много читать, образовываться, умствовать… хочется быть красивой», – пишет в дневнике 1878 года Софья Андреевна. «В это время был полный расцвет моего физического и умственного развития, – вспоминает она в “Моей жизни”. – Мне было 34 года, и, по словам всех без исключения, меня находили и тогда, и долго, долго после очень моложавой».
А что в Ясной Поляне?
«Перед обедом рассердилась на Илюшу и Лёлю, что утащили икры, и побила Илью и очень бранила обоих».
«Дети, то есть Илюша и Таня, всё в неудержимом духе: таскают мороженую клюкву у няни, бегают в кухню за редькой… Всё это меня суетит, и я чувствую себя несчастной и беспомощной».
«Была страшная ссора с Лёвочкой. Чувствую себя несчастной, но еще не чувствую себя виноватой. Как я всё ненавижу: и себя, и свою жизнь, и мое так называемое счастье».
«Я шью, шью, до дурноты, до отчаяния; спазмы в горле, голова болит, тоска… а всё шью, шью. Хочется иногда стены растолкать и вырваться на волю…»
«Сижу и жду каждую минуту родов, которые запоздали. Новый ребенок наводит уныние, весь горизонт сдвинулся, стало тёмно, тесно жить на свете…»
В 1879 году впервые через семнадцать лет после свадьбы и переезда в Ясную Поляну Софья Андреевна с Сергеем и Татьяной выезжает в Москву, чтобы отдохнуть и развлечься. Она оправдывается мыслью, что дети «дики и наивны», их надо «развивать». «В Москве мы пробыли недолго и побывали, где возможно. Всё для детей было ново и ужасно интересно. Дикие и всякие звери в Зоологическом саду, особенно слон; Румянцевский музей с картинами, статуями и восковыми фигурами… Потом мы обошли Кремль, дворец, соборы; ходили по магазинам делать покупки. А два вечера провели в опере. Давали “Бал-маскарад” Верди и “Линда ди Шамуни”… Побывали в Малом театре, где давали “В золоченой клетке”. Впечатлений дети мои набрались много. Я пишу сестре: “То-томои дикари на всё удивлялись”».
Впоследствии Сергей Львович писал, что мать «страстно стремилась переехать» в Москву и что в этом ее поддерживали только он и сестра Татьяна, «…моя мать, сестра Таня и я, как чеховские три сестры, жили этой надеждой: «В Москву, в Москву!»
«Наоборот, Илья боялся гимназии, и ему жаль было лишиться в осеннее время охоты, к которой он пристрастился. Остальные – Лёва, Маша, Андрей и Миша – были слишком юны, чтобы определенно чего-то желать».
А отец?
Толстой смирился. Настолько, что, несмотря на свои новые взгляды и ненависть к городской жизни, настоящим обустройством в Москве занялся именно он, а не Софья Андреевна… После годового мучения в «карточной» квартире в Денежном переулке он оставляет семью на лето в Ясной Поляне и покупает дом купца Арнаутова в Долго-Хамовническом переулке. Сын Сергей присутствует при переговорах. «К нам вышел пожилой и некрасивый хозяин дома Арнаутов. Меня поразил его большой, узкий, красный и прыщеватый нос, повернутый на сторону. Он производил впечатление алкоголика».
Главным достоинством дома было уединенное расположение и сад размером почти в десятину (больше гектара). Но сам дом был недостаточен для большой семьи. Толстой приглашает архитектора и над первым этажом надстраивает три комнаты с паркетными полами, большой зал, гостиную и диванную. Для кабинета он выбирает одну из комнат с низким потолком и окнами в сад. Толстой сам подбирает обои и следит за перекладкой печей и покупает в дом мебель.
К началу октября 1882 года новый дом готов без непосредственного участия Софьи Андреевны, которая в письмах из Ясной Поляны как раз давала «директивные» указания мужу. Лёля одним из первых увидел этот дом и с восторгом описал его в письме к матери: «Дом принял форму очень хорошенькую, он цветом кремовый с зелеными ставнями, паркет с черными жилками, дядя Костя говорит, что всё это самый шик…»
В восторге была и Татьяна… «Наш дом чудесный, я не нахожу в нем никаких недостатков, на которые можно бы обратить внимание. А уж моя комната и сад – восхищение!»
Всё было сделано с любовью! Неудивительно, что и момент поселения в дом – 8 октября 1882 года – запомнился как светлое событие. «Мы приехали в Арнаутовку вечером, – пишет Татьяна. – Подъезд был освещен, зал тоже. Обед был накрыт, и на столе фрукты в вазе. Вообще первое впечатление было самое великолепное: везде светло, просторно и во всем видно, что папа всё обдумал и старался устроить как можно лучше, чего он вполне достиг… Я была очень тронута его заботами о нас; и это тем более мило, что это на него не похоже».
Но почему не похоже?!
Кто устраивал сыновей в престижную гимназию Поливанова, где учились отпрыски или богатых дворянских, купеческих или профессорских семей? Кто повез старшую дочь на первый московский бал? У кого было прочное положение в светских кругах, которое позволяло графине Софье Андреевне с дочерью бывать на вечерах в аристократических московских семьях? И наконец, кто притягивал магнитом в гостеприимный хамовнический дом цвет научного, писательского, артистического мира?
И совсем уж простой вопрос: на чьи деньги существовала семья? Кто позволял, как с девичьей наивностью пишет в дневнике Танечка, покупать «стульчики и кареты»? «По дороге заезжали к Родольфи мерить платья, которые мне привезли из Парижа». «Я разочла, что на одни туалеты я истратила около полутора тысяч за один сезон».
«На мне было белое тюлевое платье с белым атласом, а на мама – черное бархатное с множеством alenon[8]. Я танцевала нулевую кадриль с Борей Соловым, первую – с Мишей Сухотиным, вторую – с Обуховым-гусаром, третью – с Глебовым, четвертую – с Куколь-Яснопольским, мазурку с Кислинским, а котильон с дирижером – графом Ностицем… Ужин был великолепный, от Оливье, и оркестр Рябова, весь спрятанный в зелени. Мы приехали домой в половине седьмого».
Впрочем, Татьяна (девушка все-таки умная!) не без иронии описывает в дневнике светские разговоры:
«– Как вы похудели, графиня.
– Как вы похудели, князь.
– Как мы давно не видались, графиня.
– Как мы давно не видались, князь».
Вот рождественский вечер, на котором присутствовал фаворит Тани из московской золотой молодежи князь Иван Мещерский: «За обедом было очень весело: Манко притворялся, будто за мной ухаживает, Ваня тоже; потом побранили своих ближних, потом Ваня рассказывал, как он за мной ухаживал в прошлом году… После обеда мужчины все ушли курить и ликеры пить, а дамы пошли в гостиную пить кофе…»
А вот что происходит на вечере в доме Толстых: «Я велела ему (Ивану Мещерскому – П. Б.) петь, а он нарочно набил рот икрой и стал такие гримасы делать, просто ужас».
И весь этот «ужас» обеспечивается отцом с его связями, титулом, литературным именем и, наконец, гонорарами. А ему, с его новыми воззрениями, больно смотреть на всё это.
«…смысл человеческой жизни есть учение Христа, радость жизни есть стремление к исполнению учения и потому всё, что согласно с учением, мне любезно и радостно, всё, что противно, мне гадко и больно», – пишет он в «Записках христианина», представляющих его дневник 1881–1887 годов.
У Толстого широко открылись глаза. Он увидел море человеческого горя, которого раньше не видел или просто не обращал на него внимания.
«В нынешнем году осенью пришла Тита Борискина (наш мужик) баба. Старушка старого завета, тихая, кроткая, ласковая, иссохшая в щепку, всё желтое лицо в морщинках, морщинах и буграх между морщинами.
– Что скажешь?
– Да об своей горькой вдове – Ларивоновой. Дочь она мне, за Ларивоном была, кучером жил у вас.
Я вспомнил с трудом Ларивона.
– Умер он.
– Давно ли? Отчего помер?
– Бог его знает, сказывали, чахотка со скуки напала.
– Какая же скука, отчего?
– Как же, 2-й год в замке (в тюрьме – П. Б.).
– За что? Ведь он, кажется, хороший был малый.
– Малый такой, что на редкость, одно – выпивал, – оно, вино, и сгубило. А теперь дочь осталась, а ее деверь гонит, дочь мою. А куда она сама пята пойдет? Самой 2-их еще прокормить, а пятерых где ж прокормить. А наше дело тоже бедное…
…Я был в этом остроге и знаю его. Знаю запах этого острога, знаю пухлые, бледные лица, вшивые оборванные рубахи, параши в палатах, знаю, что такое для рабочих людей праздность взаперти день, два, три, каждый день с 24 часами, четыре, 5 – сотни дней, которые просиживают там несчастные, только думая о том и слушая о том, как отомстить тем, которые им отомстили. Туда попал Ларивон и снял поддевку, красную рубаху, надел вшивую рубаху и халат и попал в рабство к смотрителю. Зная тщеславие, самолюбие Ларивона, я могу догадаться, что с ним сделалось».
В это время его родная дочь Татьяна в Москве терзается вопросом: как незаметно обменяться на лицейском балу фотографическими карточками с Ваней Мещерским.
«В 10 часов меня одели в бледно-зеленое тюлевое платье с темно-зеленым бархатным corselet[9] и множеством крошечных птиц на платье и одной на голове. Как всегда, меня одевало пропасть народа: miss Lake, две горничные, Маша и даже дядя Костя и Лёля принимали участие…
В Лицее нас встретили Катков и Соловой (распорядитель бала) и свели в залу. Всё было очень красиво и богато, и я чувствовала себя такой счастливой и веселой».
«Как они не видят, что я не то, что страдаю, а лишен жизни, вот уже 3 года, – пишет Толстой в дневнике. – Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из нее: прими я участие в их жизни – я отрекаюсь от истины, и они первые будут тыкать мне в глаза этим отречением. Смотри я, как теперь, грустно на их безумство – я ворчливый старик, как все старики».
И он, конечно, испытывает обиду на семью!
«За что и почему у меня такое страшное недоразумение с семьей? Дома Сережа – сердитый. Они меня с Соней называли сумасшедшим». «Решительно нельзя говорить с моими. Не слушают. Им неинтересно. Они всё знают…»
Толстой по-новому присматривается к жене. Он замечает в ней новые черты. «Бедная, как она неавидит меня. – Господи, помоги мне. Крест бы так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дерганье души – ужасно не только тяжело, больно, трудно. Помоги же мне!» «Дома праздность, обжорство и злость…»
И делает вывод, который не предвещает ничего хорошего… «Точно я один не сумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими».
В 1881 году начинается отдаление Толстого от семьи… Он переходит во флигель хамовнического дома, где заканчивает рассказ «Чем люди живы» с проповедью всеобщей любви. Бог сокрушил на землю ангела, чтобы он понял, «чем люди живы», и возвестил об этом людям. И ангел понял, что «живы они одною любовью. Кто в любви, тот в Боге и Бог в нем, потому что Бог есть любовь».
Однако мысль о том, что «Бог есть любовь», приходит к нему в то время, когда любовные отношения в его семье как раз испытывают серьезный кризис. И ему всё больше и больше приходится убеждать себя, что он любит своих близких…
Война за детей
К пятому году жизни в Москве атмосфера в семье Толстых становится критической. В неотправленном письме к Черткову Толстой признается:
«С женой и старшим сыном начнешь говорить – является злоба, просто злоба, против которой я слаб и которая заражает меня. – Что же лучше делать? Терпеть и лгать, как я лгу теперь всей своей жизнью – сидя за столом, лежа в постели, допуская продажу сочинений, подписывая бумаги о праве на выборы, допуская взыскания с крестьян и преследования за покражу моей собственности, по моей доверенности? Или разорвать всё – отдаться раздраженью. Разорвать же всё, освободить себя от лжи без раздражения не умею, не могу еще. Молю Бога – т. е. ищу у Бога пути разрешения и не могу».
Трудность его положения заключалась еще и в том, что, не находя в семье религиозного утешения, он не мог обрести его и в церкви, как это затем произойдет с его младшей сестрой Марией Николаевной. В первом законченном, но неозаглавленном и до сих пор неопубликованном религиозно-философском сочинении, из которого выросли последующие работы: «Исповедь», «В чем моя вера», «Критика догматического богословия», – он пишет о православной церкви:
«Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженых людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженых людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ. Как же я могу верить этой церкви и верить ей тогда, когда на глубочайшие вопросы человека о своей душе она отвечает жалкими обманами и нелепостями и еще утверждает, что иначе отвечать на эти вопросы никто не должен сметь, что во всем том, что составляет самое драгоценное в моей жизни, я не должен сметь руководиться ничем иным, как только ее указаниями. Цвет панталон я могу выбрать, жену могу выбрать по моему вкусу, но остальное, то самое, в чем я чувствую себя человеком, во всем этом я должен спроситься у них – у этих праздных, обманывающих и невежественных людей».
Спорить с Толстым бесполезно. Это позиция, которая исключает спор. Гораздо важнее обратить внимание на то, что, отойдя от церкви, Толстой поставит в один ряд выбор жены и… цвета панталон. Если это оговорка, то характерная. В это время между супругами уже не только нет согласия, но, кажется, и вовсе нет ничего общего. Кроме детей. И если от хозяйственных дел Толстому удалось отказаться, написав на жену соответствующую доверенность, то выписать доверенность на воспитание детей невозможно. Дети остаются единственной сферой общих интересов и волнений. Но в силу разного понимания жизни супругами как раз здесь и проходит самый чувствительный раскол.
«Ушли не мы от тебя, а ты от нас, – пишет Софья Андреевна мужу 21 октября 1885 года, когда он задержался в Ясной Поляне. – Насильно не удержишь. – Ты забываешь часто, что ты в жизни впереди Сережи, например, на 35 лет; впереди Тани, Лёли, например, на 40, и хочешь, чтоб все летели и догоняли тебя».
Софья Андреевна убеждена, что если на стороне мужа и есть духовная правда, то защитницей семейных ценностей является только она, а муж в этом представляет собой даже опасность. Она этого не скрывает: «Спасибо, что дети ко мне [относятся] с доверием. И я оправдаю это доверие, потому что теперь только это мне и осталось… А пока я могу одно сказать: да, я хочу, чтоб он вернулся ко мне, так же как он хочет, чтоб я пошла за ним. Мое – это старое, счастливое, пережитое несомненно хорошо, светло и весело, и любовно, и дружно. Его – это новое, вечно мучающее, тянущее всех за душу, удивляющее и тяжело поражающее, приводящее в отчаяние, не только семью, но и его родных, близких, друзей».
Это не дневниковая запись… Это письмо к мужу от 2 3 декабря 1885 года, где Софья Андреевна обращается к нему в третьем лице. Фактически это ультиматум.
Но и у Толстого свои представления о том, что в первую очередь нужно детям. И он до поры до времени не желает уступать их жене, тем более, что чувствует вину за то, что в прежние годы воспитывал их в барском духе.
«Отчего я не поговорю с детьми: с Таней? – пишет он дневнике 24 апреля 1883 года. – Сережа невозможно туп. Тот же кастрированный ум, как у матери. Ежели когда-нибудь вы двое прочтете это, простите, это мне ужасно больно…»
Старший Сергей вызывает у него наибольшее раздражение, потому что, поступив в университет, ушел от влияния отца, а с матерью его продолжают связывать домашние интересы. Да и деньги сыну выдает она.
«Дома разговаривал с m-me Seuron (гувернантка – П. Б.) и Ильей. Он искал общения со мной… Спасибо ему. Мне было очень радостно…» (26 апреля 1883 года). Но, в конце концов, и Илья не радует отца. «Илья – хуже всех, грубеет – зол и эгоистичен» (26 июля).
Как и жена, Толстой жалеет детей, но понимает их счастье и несчастье по-своему, «…ужасно жаль детей. Я всё больше и больше люблю и жалею их…»
Толстой считает, что они развратили старших детей «роскошью», барскими привычками, не объяснили им нравственных основ жизни, не сделали из них настоящих христиан, воспитав их в духе «расы господ». И в этом была правда. В семье Толстых не баловали детей, но тем не менее они росли «барчуками».
«Мы росли настоящими «господами», – вспоминал Илья Львович, – гордые своим барством и отчуждаемые от всего внешнего мира. Всё, что не мы, было ниже нас и поэтому недостойно подражания… Я начал интересоваться деревенскими ребятами только тогда, когда стал узнавать от них некоторые вещи, которые я раньше не знал и которые мне было запрещено знать… Мне было тогда около десяти лет… Мы ходили на деревню кататься с гор на скамейках и завели было дружбу с крестьянскими мальчиками, но папа скоро заметил наше увлечение и остановил его…»
На всю жизнь Илья запомнил церемонию раздачи подарков в Ясной Поляне на Рождество. Их дарили и господским, и крестьянским детям, но разные. «Двери залы отпираются, в одну дверь втискивается толпа деревенских, в другую, из гостиной, вбегаем мы… Огромная кукла, «закрывающая глаза», и если ее потянуть за два шнурочка с голубыми бисеринками на концах, которые у нее привязаны между ногами, она кричала «папа» и «мама». Детская кухня, кастрюлечки, сковороды, тарелки и вилки, медведь на колесиках, качающий головой и мычащий, заводные машинки, разные всадники на лошадях, мышки, паровики и чего-чего только нам не даривали. У Сережи ружье, которое громко стреляет пробкой, и жестяные часы с цепочкой. В это время большие раздают деревенским детям скелетики[10], пряники, орехи и яблоки. Их впустили в другие двери, и они стоят кучей с правой стороны елки и на нашу сторону не переходят. “Тетенька, мне, мне куколку! Ваньке уже давали. Мне гостинцу не хватило”. Мы с гордостью хвалимся перед деревенскими ребятами своими подарками. Мы – особенные, и поэтому вполне естественным кажется, что у нас настоящие подарки, а у них только скелетики. Они должны быть счастливы и этим. О том, что они могли нам завидовать,и в голову не приходило».
Сам факт того, что Илья Львович впоследствии вспоминал об этом со стыдом, говорит о сильном влиянии на него отца. Собственно, это понимала и Софья Андреевна. Но на нее с того времени, как муж отказался от мирских проблем, свалилось такое количество забот, что она просто вынуждена была выбирать между ними и нравственной правотой мужа.
«Не будь у нее детей, она, может быть, и пошла бы за ним, – пишет Илья Львович, – но, имея в начале восьмидесятых годов семь, а потом и девять человек детей, она не могла решиться разбить жизнь всей семьи и обречь себя и детей на нищету».
Толстой не хотел этого понимать… «Она до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей», – зло и несправедливо записывает он в дневнике 1883 года.
И вот в этой почти безвыходной ситуации находится единственный ребенок, который, всем сердцем любя мать, одновременно пытается всем сердцем разделить идеи отца.
Нежное сердце
В восьмидесятые годы Лёля Толстой у всех вызывал восхищение. Его двоюродная сестра Маша, дочь Сергея Николаевича Толстого, вспоминала о том, как он приезжал к ним в гости в Москве: «Особенно хорошо танцевал мой двоюродный брат (его тогда звали Лёля) Лев Львович Толстой. Он уже и раньше умел танцевать, но почти всегда участвовал в наших танцклассах. Всем доставляло большое удовольствие, в том числе и взрослым, смотреть, как он танцует мазурку. Моей матери особенно нравилась его манера танцевать; она вообще очень любила Лёву и говорила, что он ей напоминает Сергея Николаевича в молодости…»
Когда-то старший Сергей Николаевич был предметом зависти брата Льва Николаевича. «…Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел им быть, – писал он. – Я восхищался его красивой наружностью, его пением, – он всегда пел, – его рисованием, его веселием и, в особенности, как ни странно сказать, его непосредственностью, его эгоизмом».
Считается, что Сергей Николаевич Толстой был одним из прототипов князя Болконского в «Войне и мире».
Лёля тоже был красив, изящен, музыкален и покорял женские сердца.
«Лев Львович, кажется, ухаживал за многими, и было всегда приятно видеть его стройную фигуру с гибкими движениями, блеск его красивых черных глаз и приятную улыбку, – вспоминает Мария Сергеевна Бибикова о восьмидесятых годах. – Он часто подходил к роялю и играл какую-нибудь короткую вещь, большею частью его любимые в то время цыганские романсы “Очи черные”, “В час роковой”; из пьес “Газель”. Туше его было замечательно приятное, и музыка его всегда доставляла большое удовольствие. Когда он кончал, хотелось всегда его еще слушать, и всегда все его просили продолжать игру, на что он очень редко соглашался».
У него было нежное сердце.
«Он, правда, тебя очень любит, – пишет Софья Андреевна мужу из Ясной Поляны в Самарскую губернию 14 июня 1883 года. – Всегда первый прочтет твое письмо. Потом Таня-дочь и Таня-сестра, а Илья и Маша совсем равнодушны». В другом письме из Москвы сообщает, что Лёля заплакал во время представления оперы “Фауст” Шарля Гуно, когда “один убил другого на дуэли”. И еще тревожится о странном припадке лунатизма, который случился у Лёли накануне его тринадцатилетия: «Сплю я, вдруг слышу за перегородкой треск и шум. Я думала он упал с дивана, бросилась к его постели, – она пуста. Вижу я, бежит он в одной рубашке уже в залу. Я подошла, говорю: что ты, Лёля, куда? Вижу лицо его идиотское и он плаксиво мне отвечает: “да туда, сидеть, пустите, я пойду”».
В одном из писем родителям Лёля так выскажется о себе: «Теперь пишет тонкий мальчик».
По письмам Льва и Ильи гимназического периода заметно, что они отличались друг от друга. Илья был грубоват, что, впрочем, не мешало ему, как и Лёве, влюбляться в гимназисток. Илья был страстным охотником и плохим учеником. Лёля больше старался, может быть, чтобы угодить родителям. Но он был более нервным и неровным в поведении, «..характеру не хватает», – признается он в письме к отцу. И тут же жалуется, что мама, приехав в Москву, не поинтересовалась его баллами в гимназии. «Из алгебры уже 2 единицы получил, задач не решил и был огорчен… – отчитывается он, – а русские диктанты скоро диктует, одну 1 и одну 2 получил тоже скверно, да оно ничего привыкну, вот уже лучше теперь то 1, а теперь 2, а потом 3, 4, 5».
Из этого письма выясняются два факта. Во-первых, русский барчук в пятнадцатилетием возрасте весьма скверно владел русским письменным языком и имел слабое представление о расстановке запятых. Вероятно, это было следствием домашнего образования.
Во-вторых, Лев и Илья нередко оставались в Москве одни и были предоставлены самим себе. Отец не спешил из Ясной Поляны: он не любил город, ему лучше работалось в деревне. Софья Андреевна задерживалась в усадьбе после летних каникул ради мужа и младших детей, которые нуждались в деревенском воздухе.
Эта самостоятельность Лёле нравилась. «Славно жить одному, как рыба на мели», – пишет он мама.
Но эта самостоятельность имела и отрицательные стороны. В Москве Лёля начал курить и увлекся игрой на скачках.
Но в целом это был положительный мальчик.
Его письма к отцу и матери исполнены почтения и нежности. «Милый папа, прочел твое доброе и доброе письмо к мама и мне захотелось тебе написать…»; «Милая мама…»; «Милые мои яснополянцы…»; «Здорово, папаша, мамаша, Танюша и Маша…»; «Прощайте же, надо уроки готовить, живите в Ясной подольше, но будьте живы и здоровы…»
Он чуток на чужую боль. Когда двоюродная сестра Маша Кузминская в Ясной Поляне ушибла ногу, Лёля справляется о ее здоровье: «Как нога Маши? И по какой причине она скучает, по той ли, что не может бегать, или по какой-либо другой?»
Он входит во все тонкости семейной жизни и для каждого находит приятное слово: «Маша, вот тебе письмо от Степановой, тебя madame целует, ты русский костюм не надевай. А ты, Таня, надевай и картинки пиши, ты умеешь. А ты, папа, дрова руби и не уставай, как мама пишет. А мама гулять ходи и хоп-хоп малышам играй».
Однако в этих же письмах проявилась одна его особенность, которая впоследствии раздражала отца. Нельзя сказать, чтобы он совсем не был самокритичен. Но в своих неудачах, слабостях он был склонен винить не себя, а сложившиеся обстоятельства. У Толстых это называлось «архитектор виноват». Однажды маленький Илья, получив в подарок от родителей новую чашку, споткнулся о порог в залу и разбил ее. «Архитектор виноват!» – закричал он в слезах. Отсюда пошла семейная поговорка: если кто-нибудь винил в своих действиях не себя, а других, ему говорили: «Архитектор виноват?» У Лёли этот «архитектор» постоянно присутствует в его письмах.
«Если бы взглянули вы, милая мама, на мою жизнь, то сказали бы наверно: “как он хорошо живет!” Все хлопочут для меня одного. В гимназии учителя рано встают, чтобы поспеть на урок и учить меня. Дома дядя Костя живет, чтобы мне было приятнее и веселее, Виктор ходит за их Сиятельством и кухарка кормит их, ворочаясь у плиты целый день. Мне немного совестно, но ведь не я виноват, всё так уже налажено и устроено, что нельзя иначе», – пишет он 5 сентября 1888 года.
Впоследствии это разовьется у Льва Львовича в настоящую манию. Во многих, если не во всех, печальных обстоятельствах своей жизни он будет винить кого угодно, но только не себя.
Гимназия Поливанова
Лёля дважды поступал в гимназию. Первый раз – в 1881 году и второй – в 1884-м. Частную гимназию Поливанова для Лёли и Ильи нашел отец. Поначалу он хотел устроить их в казенное учебное заведение. Но там требовали подписки о «благонадежности» детей. И отец возмутился! «Я не могу дать такую подписку даже за себя. Как же я ее дам за сыновей?»
Подписка была формальностью. Но в этом жесте чувствовался новый Толстой, вступивший в противоречие с обычаями государства. К счастью, он узнал, что невдалеке от их квартиры в Денежном переулке находится частная мужская классическая гимназия, открытая в 1868 году выдающимся педагогом-словесником Львом Ивановичем Поливановым, поклонником ег творчества. Толстой зашел туда и познакомился с Поливановым, который одновременно преподавал в гимназии русский язык и литературу. Гимназия ему понравилась. Подписки от него не требовали. Сыновей взяли туда сверх комплекта.
В гимназии учились известные писатели: Валерий Брюсов, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Вадим Шершеневич. Ее закончил шахматист Александр Алехин. О Поливанове как педагоге ходили легенды, и все его ученики, включая Льва Львовича, впоследствии вспоминали о нем с благодарностью.
«Лев Иванович Поливанов был готовый художественный шедевр, – писал о нем Андрей Белый, – тип, к которому нельзя было ни прибавить и от которого нельзя было отвлечь типичные черточки, ибо суммою этих черточек был он весь: не человек, а какая-то двуногая, воплощенная идея: гениального педагога. Всё прочее, что не вмещалось в “педагоге”, не было интересно в Поливанове…»
«Вспыльчивый и нервный, с седой гривой густых волос, зачесанных назад, худой и быстрый, Поливанов не только умел учить, но умел вызывать в учениках лучшие их чувства… – вспоминал Лев Львович. – Когда он сердился, он выходил из себя и сам не помнил, что говорил. Раз, в порыве гнева, он прокричал, грозя ученикам своим бледным, худым кулаком: “Здесь не кабак, а питейное заведение!” Он хотел сказать: учебное заведение».
Поливанов был чуток к художественному слову. Однажды отец помог Лёле написать сочинение о лошади, вписав туда полстраницы своего текста. Поливанов вернул сочинение, синим карандашом подчеркнув те места, которые сочинил Толстой-старший.
«– Скажите, пожалуйста, Толстой, то, что я подчеркнул, написали ведь не вы, а Лев Николаевич?
– Да! вы угадали!
– Очень хорошо, – сказал Поливанов, улыбнувшись мне самодовольно, и кивнул головой. Я поставил вам четверку».
Первый год в гимназии дался Лёле тяжело и по окончании третьего курса (Лёля поступил сразу на третий курс, Илья – на пятый) встал о вопрос о том, чтобы оставить его на второй год. На этом настаивал Поливанов, считавший, что Лёля – способный мальчик, но нуждающийся в строгой гимназической дисциплине. Мнение Поливанова разделяла и Софья Андреевна. Но этому воспротивился отец.
И здесь мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда новые воззрения Толстого в области воспитания своих детей оказывали на них скорее дурное влияние. Хороши или плохи были его старые взгляды, но старшие из детей, Сергей и Татьяна, выросли самыми разумными и позитивными людьми. Кстати, именно они во время ухода отца из Ясной Поляны психологически поддержали его, понимая всю сложность его положения в конфликте с их матерью, и были единственными из детей, кто ухаживал за ним в Астапове. (Кроме самой младшей дочери Саши. Но ее роль в это время осуждалась всеми детьми и впоследствии вызывало раскаяние самой Александры Львовны, ибо она, оказавшись во вражде с матерью, во многом спровоцировала уход отца).
Увлеченный своими идеями, отец всё меньше внимания уделял воспитанию и образованию детей. Но самое главное – он был внутренне против тех принципов воспитания и образования, которые сложились в его семье на основании его же собственных прежних взглядов. Прежде Толстой считал, что высокий уровень образования необходим, и на это тратилось немало средств и времени. Приглашенные домашние учителя, иностранные гувернеры и гувернантки и, наконец, уроки с родителями сделали свое дело. Сергей без труда поступил в московский университет и блестяще его закончил. А вот Илья и Лёва, получившие начальное образование в Ясной Поляне в семидесятые, уже проблемные для семьи годы, оказавшись в гимназии, стали получать колы и двойки.
Мотивы, по которым Толстой воспротивился мнению Поливанова и жены оставить Лёлю в гимназии на второй год, не совсем ясны. Но из его письма жене от 31 июля 1881 года можно догадаться, что вопрос этот был для него не главным, не таким, над которым стоит ломать голову. Ведь он был противником поступления Лёли в гимназию с самого начала. «Три дела, я понимаю, тебя мучают: Лёлин экзамен, Илюшино баловство и холодные полы. Из этих дел я больше всего признаю серьезность – полов… Второе по важности дело это Илюшино баловство… 3-е дело – Лёлька; я бы советовал вовсе оставить его в нынешнем году. В нынешнем году и так много хлопот, а он подучится дома и поступит в 4-й класс. Он такой мальчик, что ученье он скоро запоминает и скоро забывает».
Но если мальчик такой неустойчивый в учебе, если он всё скоро запоминает и скоро забывает, то тем более он нуждается в методическом образовании! Толстой противоречил сам себе.
Поливанов славился как методист, сторонник «логико-стилистического» направления в образовании. Учеба в его гимназии стоила дорого, но это давало ему независимость, которой не было в казенных учебных заведениях. Поэтому в его школу и стремились отдавать детей богатые люди. И есть подозрение, что это последнее обстоятельство больше всего не нравилось отцу. Ему была противна среда, в которую попал его сын по его же протекции.
Эта среда, впрочем, не нравилась и Лёле. Он с презрением вспоминал о сынках богатеньких родителей.
«Какие были среди них животноподобные, жалкие существа. Их наследственность и первое воспитание были еще беднее моего, и потому их жизнь была еще несчастнее.
Вот Арбуз, купеческий сынок, с громадным круглым животом и красной маленькой головой, вечно грубый, пошлый, глупый, заставляет меня подписаться на белом клочке бумаги. Я подписываю свое имя, а он пишет сверху: “обязуюсь принести Вишнякову такого-то числа три рубля”.
А вот кавказский князь из Армении, хотя он только в третьем классе, но уже поживший, всё испытавший, на вид развратный мужчина. Он уговаривает меня ехать с ним в публичный дом, и я из любопытства и по слабости соглашаюсь…»
Поездка в публичный дом, описанная Львом Львовичем, очень напоминает фрагмент из незаконченного отрывка раннего Толстого «Святочная ночь», написанного на Кавказе в 1853 году. Отрывок имел разные черновые названия: «Бал и бордель», «Как гибнет любовь» и другие. Это автобиографическое произведение, навеянное опытом Толстого, который отроком оказался в публичном доме и был потрясен этим до глубины души. Герой «Святочной ночи» Alexandre рыдает, «как дитя», сидя в карете после посещения публичного дома, куда его привезли три опытных развратника. Юный же Лёля, увидев проституток, просто сбежал из публичного дома, «как сумасшедший». «Дожидавшийся извозчик удивленно посмотрел на меня и что-то, смеясь, спросил. Я сел на санки, накрылся медвежьей полостью и стал ждать моего кавказского “друга”, раскаиваясь в том, что поехал с ним».
Отец, скорее всего, не знал об этом случае. Но он представлял себе соблазны и искушения, которые подстерегали сына в Москве. Возможно, поэтому и старался затянуть его поступление в гимназию и по той же причине вернул его в домашнюю атмосферу после третьего курса обучения еще на два года. К тому же в Москве у Лёли начались проблемы со здоровьем…
Трудно сказать: пошло ли это на пользу. Софья Андреевна позже считала, что – нет. В «Моей жизни» она пишет: «После того, как Лев Николаевич взял Лёву из гимназии домой, он пошел к Грингмуту, директору Лицея Цесаревича Николая, и просил его рекомендовать хорошего учителя Лёве и следить за его образованием. Сам Лев Николаевич хотел наблюдать за учением Лёвы и делать ему время от времени экзамены. Грингмут прислал учителя, глупого франта, бывшего лицеиста, который учил очень дурно и больше рассказывал Лёве о своих похождениях. Никто никогда не слушался уроков этого бессовестного учителя, и ни Грингмут, ни Лев Николаевич никак ни разу не отнеслись к образованию Лёвы и его успехам. Меня это ужасно мучило; я неоднократно приставала к мужу, чтоб он обратил внимание на уроки Лёвы и хоть немного этим занялся. Лев Николаевич постоянно меня отстранял от этого предмета и говорил, что это не мое дело. А между тем, продержав Лёву дома в этой праздности, его через два года опять отдали в Поливановскую гимназию».
Поливанов тоже считал, что два года потеряны: «Лев во всем пошел назад, кроме русского правописания. Сверх того настроение к худшему. Прежде очень заботливый и старательный успеть в учебном деле, ему тогда даже непосильном, теперь он сделал впечатление какого-то равнодушного ко всякому успеху мальчика. Замечена и нервность, так что едва ли его можно лишить отдыха летом. Всё это привело меня к заключению, что его путь в гимназии испорчен непоправимо».
Обратим внимание на слово настроение. Именно в нем заключалась главная причина неуспехов Лёли…
Лев-«толстовец»
Когда Лёля вновь оказался в гимназии, ситуация в семье существенно изменилась по сравнению с концом семидесятых – началом восьмидесятых. Но она не стала лучше – скорее, еще хуже. Если ко времени переезда в Москву Толстой был одинок в своих исканиях и его жена была убеждена в том, что «едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться», то к середине восьмидесятых годов возникает мода на Толстого.
И это ощущается в семье, «…в последнее время столько о папа кричат, пишут, кажется, больше, чем когда-либо, и о ком бы то ни было. В каждом номере газет и журналов непременно помещена о нем статья, – восторженно замечает в дневнике 1886 года дочь Татьяна. – Нет дня, когда он здесь, чтобы человека три-четыре не пришли к нему, кто с просьбой о деньгах, кто за советом, кто просто, чтобы поговорить и сказать, что видел Л. Н. Толстого. Письмам же нет конца. Тоже большей частью просят совета и денег. Приходят и пьяные, и нигилисты лохматые, и священники, и купцы богатые, которые спрашивают, что со своими деньгами делать… Папа всех хорошо принимает, которые действительно нуждаются в его помощи или совете, но на письма никогда не отвечает: двух писарей не хватило бы ему на это…»
Казалось, жена проиграла, муж торжествует. Но это пиррова победа, которая досталась ценой семейного счастья. Летом 1884 года после неудавшейся попытки уйти из дома он записывает в дневнике: «Разрыв с женой уже нельзя сказать, что больше, но полный».
Главная причина, по которой этот разрыв не приводит к разводу – это дети. Их девять человек. Старшему из них, Сергею, девятнадцать лет. Младшая, Саша, только что родилась.
Дети не просто оказываются втянутыми в семейный конфликт, но и являются основным полем для военных действий. Только Сергей живет более или менее независимой жизнью. Татьяна разрывается между любовью к отцу и личными проблемами. Илья вообще не склонен придавать большое значение духовной стороне жизни: больше увлекается охотой и гимназистками. Маша слишком мала, но уже ясно, что она будет на стороне отца. Она самый нелюбимый ребенок у матери. Ведь Софья Андреевна едва не умерла ее родами, и с ней был связан первый семейный раскол. Алексей, Андрей, Михаил и Саша – еще маленькие и ничего не понимают. А вот Лёля…
В письме к Черткову Толстой пишет: «Крошечное утешение у меня в семье это девочки. Они любят меня за то, за что следует любить, и любят это. Немного еще в Лёвочке, но чем больше он растет, тем меньше. Я сейчас говорил с ним. Он всё смотрел на дверь – ему надо что-то в гимназии. Зачем я вам пишу это… Не показывайте этого письма другим».
Он и Софья Андреевна отныне по-разному понимают смысл и значение семьи. Он считает, что его жена «жернов», который тянет на дно не только его, но и детей. Она убеждена, что он губит ее жизнь и плохо влияет на детей.
«Идеи новые Льва Николаевича испортили мою жизнь и жизнь моих детей: и сыновей, и дочерей. Ломка всей их юной жизни сильно повлияла и на их душевную, и на физическую жизнь. Худенькая, слабая Маша надорвала в непосильной работе и вегетарианстве свои последние силы и здоровье. У Тани было больше чувства самосохранения, но и она пострадала от резкого отрицания всего, что отрицал отец. Сыновья же не имели руководителя в лице отца, а тоже порицателя. Хорошо пишет об этом Таня в своих дневниках, приводя свой разговор с отцом, что она отлично понимает всю истину учения отца, что она любит всё хорошее. Но когда говорят об этом, ей скучно, а когда она вспомнит о новом платье, о выездах, у ней так и вспрыгнет сердце от радости», – пишет она в воспоминаниях.
Увы, это была правда. Вступая в сознательный возраст, некоторые из детей Толстого пытались разделить его идеи. Но рано или поздно это сталкивалось с эгоистическими законами человеческой природы, с желанием взять от жизни побольше счастья, пройти череду тех же соблазнов и искушений, которые в свое время прошел отец, испытать те же радости материнства, что испытала мать. Но это вступало в конфликт с тем, что проповедовал отец. А он, озаренный открывшейся ему истиной, не хотел считаться с требованиями молодой природы, искренне полагая, что наделанных им в молодости ошибок вполне достаточно, чтобы их не повторяли его дети. Но главное – у него не было возможности оградить детей от всех соблазнов. Ведь ни дом в Москве, ни Ясная Поляна не были монастырями «толстовской веры».
Отсюда накал недовольства женой в дневниках Толстого первой половины восьмидесятых годов. Впоследствии он значительно снизился. Толстой стал понимать, что нельзя через колено ломать близких, даже если они не правы. Да и был ли он уверен в своей правоте? Если бы он был в ней до конца уверен, он ушел бы из дома гораздо раньше 1910 года, как ему и советовали сделать «толстовцы». А Толстой собирался, но не уходил, или уходил, но возвращался… И в этих его несчастных попытках бросить семью, которые всегда заканчивались возвращением, было что-то куда более человеческое, нежели в его проповеди.
Несомненно дочери любили не столько его идеи, сколько его самого, как человека и, в некотором смысле, как мужчину. Обаяние его было столь велико, что все другие в сравнении с ним казались просто пигмеями.
Что касается сыновей, здесь было куда сложнее. Быть сыном великого отца – это почетно, но непросто! Каждый из них переживал это по-разному, но перестать быть Толстым никто из них не мог, да и не хотел. Ведь Толстые – это не только Лев Николаевич, но и очень древний род.
В «Опыте моей жизни» Лев Львович называет Толстых особой расой. «Этот род, или “клан”, вошедший в жизнь России из глубины веков, – в сущности, не род, а отдельная, не похожая на других раса, сохранившая свои особенности и до сих пор. За редкими исключениями Толстые оберегли себя от влияний кровей, которые могли бы значительно видоизменить главные черты их характера, и до 22-го своего поколения остались теми же Толстыми, какими были раньше…»
«Сознание избранности пришло к нему довольно рано, – считает исследователь жизни Льва Львовича Валерия Николаевна Абросимова. – Едва переступив порог классической мужской гимназии Л. И. Поливанова в Москве, он стал иногда подписываться, как отец, словно пробуя, примеряя на себе эту ношу: “Лев Толстой”. Еще не вполне понимая, как странно выглядит это сочетание применительно к мальчику в гимназической форме, он в письме к матери пояснил: “Л. Толстой – ужо так я расписываюсь в журнале, когда я дежурный в классе”…»
Читая письма Лёли к матери, невольно обращаешь внимание на то, что он подписывал их разными именами и прозвищами, как бы пытаясь нащупать верный и не унижающий его тон.
«Л. Толстой», «Лев Толстой», «Лёля», «Лёвка», «Левонтий» – иногда две подписи в одном и том же письме. На языке психологии это называется проблемой «самоидентификации».
Можно предположить, что однажды сами родители пожалели, что дали мальчику это имя. Можно также предположить, что мальчика дразнили этим в гимназии. Как могло быть иначе, когда имя Льва Толстого гремело в печати?
В это время в кабинете отца собирались его первые последователи. Одновременно он страдал из-за того, что его сыновья не разделяют его взглядов. Это было вопиющее противоречие: за Толстым шли чужие люди, но не его мальчики!
И вот Лёля начинает всё больше и больше тянуться к отцу, уходя из-под влияния матери. В воспоминаниях он признается: «Когда с переездом семьи в Москву я попал в первые классы гимназии, как почти всегда бывает в этом возрасте, я не любил, кажется, никого, кроме себя, да и себя, вероятно, тоже не любил… Только к семнадцати-восемнадцати годам, как раз в то время, когда отец переживал свой религиозный кризс, я стал относиться к нему сознательнее и искать в нем ответов на жизнь, которая развертывалась передо мною. Эта пора была порой моей наибольшей близости к отцу, который это чувствовал и всегда делился со мной своими мыслями и чувствами, как со взрослым. Я постоянно забегал к нему в его комнаты, и в Ясной, и в Москве, и мы подолгу с ним беседовали о разных вопросах, которые в данное время интересовали его или меня. Конечно, я не мог понять тогда и малой доли того, что происходило в его душе, но я всё же чувствовал ее и, наконец, так увлекся учением отца, что мечтал сам сделаться новым христианским мучеником для блага человечества».
Лёля подружился с главным духовным учеником отца – Владимиром Григорьевичем Чертковым, «блестящим конногвардейцем», представителем богатой и знатной семьи, который в 1883 году пришел к Толстому и вскоре стал его правой рукой. «В начале своего знакомства с нашей семьей Чертков был обворожителен. Он был всеми любим. Я был с ним близок и на «ты». Он относился ко мне ласково и с любовью, и я платил ему тем же», – вспоминал Лев Львович.
Когда Чертков приезжал в Москву и останавливался у Толстых, он ночевал в комнате Лёли. При этом он был старше его на пятнадцать лет.
В конце концов, Софья Андреевна оказалась перед фактом: самый любимый ее сын стал «толстовцем», или «темным», как она называла этих людей в противоположность «светлым», светским людям. И это было для нее куда более горькой потерей, чем «отпадение» Марии.
«С Лёвой и Машей я иногда играла по вечерам в четыре руки на рояле. Лёва старался в то время учиться хорошо, но, как он мне сам говорил, новое учение отца, его жизнь с простой работой и всё его настроение и отрицание науки очень вредно повлияло на занятия Лёвы в гимназии. В отсутствие отца он писал ему письма и радовал его своим стремлением приблизиться к нему. Так, например, Лев Николаевич пишет в декабре 1884 года из Ясной Поляны, куда писал ему Лёва, или Лёля, как его тогда все звали: “Я так и вижу, как все нападут на Лёлю за то, что он имеет и умеет, что сказать мне, и сказать так, что я чувствую, что он мне близок, что он знает, что все его интересы близки мне, и что он знает и хочет знать мои интересы”» – вспоминала Софья Андреевна.
Она цитирует строки из письма мужа от 13 декабря 1884 года. Предыдущее письмо, написанное на почтовой карточке, Толстой порвал. Видимо, то послание он не смог выдержать в спокойном тоне. «Сейчас написал письмо на карточке, но начал за здравие и свел за упокой и не посылаю, и пишу на бумаге, чтобы и теперь этого не случилось. Случилось же это по случаю Лёлиного письма, которое мне было очень приятно».
Это говорит о том, что уже в 1884 году, в возрасте пятнадцати лет, Лёля оказался в эпицентре родительского конфликта. За его детскую душу шла своего рода война между папа и мама.
И победителем в этой странной войне во второй половине восьмидесятых оказывался отец, а не мать.
«…я так увлекся учением отца, – вспоминал Лев Львович, – что всё остальное отошло на задний план и перестало интересовать меня. Можно себе представить, как успешно я мог приготовлять греческий или латинский переводы или алгебраическую задачу после того, как в продолжении трех, четырех часов, до позднего вечера я просиживал в маленьких комнатках отца, с низкими потолками, где стояло густое облако табачного дыма и нельзя было разглядеть лиц собравшихся, но где шли горячие споры о новом учении, долженствовавшем спасти мир. Я вместе с табачным дымом пропитывался истинами, которые должны были искоренить зло и ложь жизни, и выше их не видел ничего. Что была моя жалкая гимназия рядом с великолепными задачами? Пусть меня даже выгонят из нее; что завтрашний день с его уроками, и я сам, когда вместе с моим отцом я понимал и исповедовал величайшее из откровений?»
Позже Лев Львович влияние отца однозначно определил как вредное.
«Несмотря, однако, на вредное влияние отца, я продолжал кое-как учиться в гимназии и, наконец, сделав громадное усилие над собой и стараясь больше уединяться от семьи, – выдержал экзамен зрелости и поступил в Московский университет на медицинский факультет, хотя отец всячески хаял в это время и докторов, и науку».
Трудно сказать, что в конечном итоге оттолкнуло его от учения отца. В поздних воспоминаниях он пишет, что при всей любви к отцу он и в это время «продолжал ненавидеть» его за «отношение его к моей матери, когда он несправедливо и неприятно упрекал ее, доводя до слез. То он вдруг целовал ее руку и говорил с ней добрым и нежным голосом. То недобро принимался осуждать противным, ужасным тоном, обвиняя ее во всем, – ее, на которую был навален весь тяжелый труд семьи. Она беспомощно и трогательно плакала, а он, сердитый, уходил из дома на далекую прогулку, пешком или верхом…»
Но была и еще одна деликатная причина. Эту причину нельзя объяснить рационально, но она была, и ее не мог не чувствовать «тонкий мальчик» Лёля.
Синдром Бульбы
Вспомним отзыв Толстого о Лёле из письма Александре Андреевне Толстой 1872 года:
«Хорошенький, ловкий, памятливый, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Всё, что другие делают, то и он, и всё очень ловко и хорошо. Еще хорошенько не понимаю».
На первый взгляд, нет ничего удивительного в том, что Толстой не понимал своего сына. Ведь ему было тогда всего три года. Однако о Маше, которой было два года, он в том же письме сказал вполне уверенно: «Будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное».
Почти о каждом из шестерых детей Толстой высказал определенные прогнозы и, в общем, в них не ошибся. А на Льве запнулся?
Но если внимательно рассмотреть первое высказывание Толстого о сыне, то можно обратить внимания на некоторый холодок в отношении к нему. «Хорошенький», «ловкий», «всё, что другие делают, то и он», – едва ли это ценные качества в представлении отца. Вот Илья… «Самобытен во всем». Вот Сергей… «Все говорят, что он похож на моего старшего брата». Вот Татьяна… «Она будет женщина прекрасная…» Вот Маша… «Это будет одна из загадок». Лёва же предстает эдаким вертлявым мальчиком. Да, ловким, грациозным, с младых ногтей умеющим щегольски одеваться. Но это не приятно отцу. Может быть, он потому и не понимает сына, что не чувствует в нем родной породы.
В данном случае «не понимаю» не то же самое, что в случае с Машей – «это будет одна из загадок». Это еще не до конца осмысленное, но уже отрицательное высказывание. Лёля не Толстой. Лёля – Берс. Сын своей матери, а не своего отца.
При этом схожесть с матерью Татьяны его восхищает: «Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому… потому, что это очевидно…»
А схожесть Лёли, скорее, раздражает. Это напоминает начало «Тараса Бульбы», когда Тарас говорит с сыном Андрием: «Э да ты мазунчик, как я вижу! Не слушай, сынку, матери: она баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба! Ваша нежба – чистое поле да добрый конь, вот ваша нежба! А видите вот эту саблю – вот ваша матерь! Это всё дрянь, чем набивают головы ваши: и академии, и все книжки, буквари и философия, всё это: ка зна що – я плевать на всё это!»
Толстой очень любил Гоголя, но не любил «Тараса Бульбу». Тем не менее, сравнение Толстого с цельным и воинственным героем гоголевской повести имеет смысл. Ведь после духовного переворота «академии, и все книжки, буквари и философия» тоже потеряли в глазах Толстого прежнюю ценность. С этого времени Толстой старался держаться цельного, незамутненного «книжными» знаниями взгляда на жизнь и часто «рубил с плеча», решая сложнейшие вопросы мировой цивилизации «по-дурацки», как он говорил, на основании трезвого, мужицкого отношения.
Это стало одной из главных причин расхождения с сыном Сергеем, который любил науку. «Когда я его спросил, каким делом он посоветовал бы мне заняться, он был в раздраженном настроении и ответил: “Дела нечего искать, полезных дел на свете сколько угодно. Мести улицу также полезное дело”. Этот ответ меня сильно обидел и был одной из причин моей тогдашней отчужденност от мировоззрения отца», – пишет Сергей Львович в «Очерках былого».
Сам же устроив Илью и Лёлю в гимназию, как Бульба устроил своих сыновей в академию, Толстой считал учение делом второстепенным в сравнении с нравственным воспитанием. Но ведь и Бульба своего рода «нравственник». Только у него главной нравственной ценностью было не братство всех людей, как у Толстого, а «козаческое» братство. Ради него он и жертвует сыновьями, одного из них, Андрия, застрелив собственноручно.
Отношение Толстого к учебе Лёли было двойственным. «Брат Илья и я были в гимназии, и наше учение шло сначала плохо. Мать огорчалась, в то время как отец почти не обращал на это внимания, – пишет Лев Львович в книге «Правда о моем отце». – Помню, только раз мы приехали с братом из Москвы в Ясную, оба оставшись в тех же классах. Отец встретил нас на станции “Засека”, и мы объявили ему о нашем неуспехе.
– Что же это вы? – сказал он нам с упреком и с огорчением, – это не хорошо.
И весь вечер оставался мрачным».
«Иногда отец спрашивал меня, приготовил ли я заданное в гимназии, но никогда не заставлял меня делать этого», – вспоминает он в «Опыте моей жизни».
В результате отношение самого Лёли к учению было неустойчивым. Он не чувствовал поддержки отца, а когда еще и стал увлекаться его взглядами, то и вовсе решил, что папа против его обучения в гимназии.
Но этому неожиданно воспротивился отец.
Письмо Толстого к сыну, написанное осенью 1884 года, когда Лёля вторично должен был поступать в гимназию, точно отражает настроение отца по отношению к своему ребенку. В этом письме всё верно, правильно. Но оно неприятно своим отстраненным тоном. Словно это пишется не родному сыну, а гимназисту с соседней улицы.
«Мама мне сказала, будто ты сказал, что я сказал, что я буду очень огорчен, ежели ты выдержишь экзамен или что-то подобное, – одним словом такое, что имело смысл того, что я поощряю тебя к тому, чтобы не держать экзамены и не учиться. – Тут недоразумение. Я не могу сказать этого. Гимназист, который приезжал ко мне, спрашивал: выйти ли ему из гимназии и настаивал на том, что он хочет выйти. Я отсоветовал ему. Мое мнение, что человеку никогда не надо переменять свое внешнее положение, а надо постоянно стараться переменять свое внутреннее состояние, т. е. постоянно становиться лучше… А так как у тебя (к сожалению) нет другого дела, и даже представления о другом деле, кроме своего plaisir’a[11], то самое лучшее для тебя есть гимназия. Она, во-первых, удовлетворяет требованиям от тебя мама, а во-вторых дает труд и хотя некоторые знания, которые могут быть полезны другим… Бросить начатое дело по убеждению или по слабости и бессилию, две разные вещи. А у тебя убеждений никаких нет и хотя тебе кажется, что ты всё знаешь, ты даже не знаешь, что такое – убеждения и какие мои убеждения, хотя ты думаешь, что ты это очень хорошо знаешь…»
Казалось бы… Только два ребенка до конца разделяют убеждения отца и тем самым вступают в противоречие с матерью – Лёва и Маша. Но если о Маше в письме к своему последователю Файнерману в 1888 году Толстой пишет: «Самая большая моя радость», – то отзывы о Лёве говорят, скорее, о сомнении, что этот «ловкий» мальчик на что-то способен.
С одной стороны, Лёля «после Маши ближе всех ко мне». С другой – «Недурной малый. Может выйти очень хороший. Теперь еще далек». Редкие письма Толстого к сыну напоминают сухие нотации.
«Все самые важные шаги в жизни этак-то и делаются – не с треском, заметно, а именно так – нынче не хочется, завтра не сел за работу, а глядь уже стоишь в безвыходном положении…»
«Есть одно важное дело, всем нам одно: жить хорошо. Жить же хорошо, значит не делать сейчас того дурного, которое видим и можем не делать. Какие бы ни были те задачи, над которыми работает человек, все они наверное объясняются правильной постановкой жизни, точно так же, как улучшение моего почерка будет зависеть от того, что я сяду хорошо и твердо…»
«Убирание своей комнаты и выношение горшков никому не может мешать, кроме тех, которым стыдно, что они этого не делают. Если сравнивать два дела, совсем не подлежащих сравнению, учение крестьянских детей и убирание комнаты, то несомненно второе гораздо предпочтительнее».
Иногда поведение сына раздражает отца! Когда в мае 1889 года Лёва закончил гимназию и хотел поступать в университет, отец ждал его в Ясной Поляне, где они должны были обсудить его будущую жизнь. Но сын задерживался в Москве: лечил зубы, заказывал новое платье, пировал с гимназическими друзьями… И Толстой взорвался!
«Если ты поищешь хорошенько, то найдешь дел, подобных пломбированию зубов и заказыванию платьев, не только до 8 июня, но и до 8-го октября. Мне рассказывал Красовский, заведывавший сумасшедшим домом, что он раз вывел с собой на прогулку за ворота сумасшедших. Пройдя улицу, они попросились назад: им неловко было не среди сумасшедших. Неужели ты уж дошел до этого состояния».
Вместо того, чтобы поздравить его с выпуском из гимназии, отец пишет ему неприязненное письмо: «Что за глупости – обед с Фуксом? Одно разумное и радостное выражение радости об окончании – это то, чтобы уйти как можно скорее, не замазывая новой фальшью старую фальшь…»