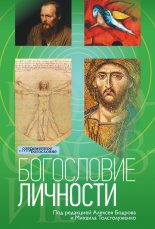Ритуал прощения врага Бачинская Инна
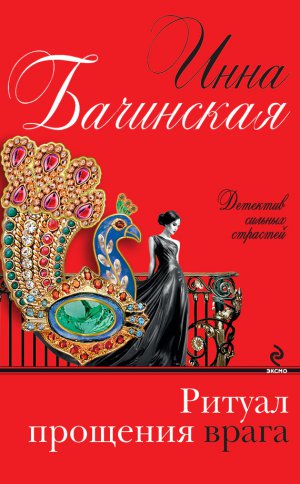
Татьяна проснулась от тишины. Тишина стояла неправдоподобная – ни соседей за стеной, ни чиханья воздуха в старых трубах, ни хлопанья дверей, ни звуков города – визга тормозов и топанья тысяч ног по асфальту. Ничего. Тихо.
Из открытого окна – ледяная воздушная струя и непривычные запахи земли и мокрой травы. Легкая короткая занавеска чуть подрагивает. Чужая незнакомая комната. Высокая кровать, неровный деревянный пол, дерево фикус в углу с темно-зелеными глянцевыми листьями, тусклое голубоватое зеркало на стене – как озерцо, в углу – образа в фольговой вырезанной зубчиками ризе и вышитое льняное полотенце – красное и черное по серому. Кривоватый потолок и стены, запашок тления и сена – дух старого дома…
Она села в кровати, потянулась и подумала, что впервые за последний месяц выспалась. Город отодвинулся куда-то за горизонт, и появилось чувство, что можно остановиться, перевести дух и осмотреться. И еще – ощущение покоя. Она прислушалась к себе – не было привычного тоскливого страха. Она засмеялась громко и сказала: «Конец пути». Прислушалась к эху и повторила громче: «Конец пути! Эй, ты! Слышишь?»
В тишине стали проявляться маленькие звучки – потрескивание дерева, шорох раздуваемой ветерком занавески, шуршание листьев. И голоса птиц. Она натянула майку и джинсы и вышла в «залу». Скрип половиц сопровождал ее. В солнечном свете все выглядело по-другому: обыденно и бедно. Огненная герань на подоконнике, старый буфет с тусклыми стеклами, старые выцветшие красновато-коричневые фотографии на стене, печь на полкомнаты с полосатым рядном наверху. Татьяна подумала, что Марина спала на печи, уступив ей свою кровать. Вчера комната была чужой и враждебной, с темными глухими углами, а сегодня в свете солнца – обычной, патриархальной, наивной, и была в ней честная бедность и крестьянская незатейливость. И ни телефона, ни света, ни радио… ничего! Никаких плодов цивилизации. Татьяна вспомнила, как швырнула в урну свой мобильник, отсекая себя от прежней жизни, и подумала, что выброшенный телефон, бег куда глаза глядят, раздолбанный пузатый автобус с удушливым запахом выхлопов, в который она вскочила в последнюю минуту, и дорога, закончившаяся внезапно посреди чистого поля – между пустым небом и пустой землей, – все это звенья одной цепи, и она прошла по ним, как по кочкам, через топь. Кто-то взял ее за руку и привел сюда, на добро ли, на зло…
Хуже не будет, подумала она.
На столе стояли кружка с молоком, банка меда с крошками сот, и лежал кусок хлеба. Она налила мед на хлеб, взяла кружку и вышла на крыльцо. Молоко было теплым. «Парное!» – вспомнила она слово, за которым раньше ничего не стояло. Молоко было густым, желтоватым, со странным привкусом…
Она села на ступеньку. Откусила от хлеба, слизнула с руки капнувший мед. Двор утопал в зелени и, казалось, светился густым зеленым светом. На траве и листьях посверкивала роса. У колодца лежала охапка привялых зеленых веток… Любисток!