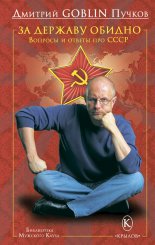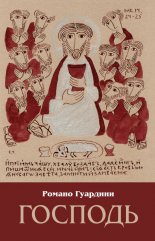На арфах ангелы играли (сборник) Миронова Лариса

– Паслухай, дачка мая, ти здалося? Быццам дед иде…
– Нет, бабушка, тебе показалось.
– Иде дед… Ти чуешь?
– Нет же никого, так что-то… половицы скрипнули.
– Забывацца стала, дачка мая. Памёр наш дед, памёр… Тры гадочки прайшло. Акраз на Паску памёр.
– Я вчера на могилку ходила. Там всё хорошо. Оградка цела. И памятник. Райсоюз поставил.
– А я туды и схадить не змагла. Ножаньки мае, ножаньки… У сыботу занедужыла. Уся хварэю. Цалкам… О-о-ох!
Старая женщина лежала на высоких подушках в цветастых наволочках. Тяжелое ватное одеяло с прошивками сползало на пол одним краем. Укрытая по пояс, она положила темно-коричневые от загара и работы руки вдоль тела, будто отдельно от себя, ни разу за весь вечер не пошевелив ими.
Алеся сидела рядом, легонько поглаживая пальцы умирающей. В крупных узлах, желтовато бледные суставы припухли, видно, боль в них заставляла Марию покусывать губы. Один раз она слабо застонала…
На ней была просторная блуза из неяркого, в мелкий горох ситца. Сквозь глубокий разрез рукава голубоватой белизной просвечивала кожа – от запястья до локтевого сгиба. Она была тонкой и прозрачной, с едва заметной россыпью солнечных веснушек. Кожа на щеках была такой же свежей и гладкой.
Алесю душили злые, горькие слезы обиды – почему, ну, почему Мария должна умирать? Кто издал такой несправедливый закон?
Она мечтала о тех временах, когда после окончания университета обзаведется своим жильем, а рядом обязательно будет церковь, и возьмет к себе Марию.
И сейчас все её мечты рядом с этим, всё ещё красивым, но безвозвратно отходящим телом рушились. Родненькая ты моя, – в глухой тоске звала она, поглаживая слабую руку Марии.
Мария лежала тихо и спокойно, погруженная в свои видения.
Алеся, по своей давней детской привычке подошла к большому развесистому фикусу – за ним, в красном углу, были иконы. Она опустилась на колени. Лик богоматери на старой иконе в простом жестяном окладе был изучен до каждой трещинки на потемневшей от времени краске. Алеся смотрела без смысла, без веры, с одним только тщетным желанием – воскресить в сердце ту надежду, которая возникала всегда, когда она в тайной молитве обращалась к небесной заступнице.
Икона была слабо освещена лампадкой, от этого глаза богоматери казались ещё печальнее. Скорбь в них была разлита так густо, что взор небесной царицы потемнел до непроницаемости, до омертвения и беспощадности.
Она быстро встала и отошла к окну. Мария не должна видеть её мокрых глаз.
Но умирающая смотрела перед собой и что она там видела, не мог знать никто.
Умирают, в конце концов, все, а всеобщему не должно быть сострадания – так учит философия. Но это общее знание сейчас не было даже слабым утешением в её конкретном, личном горе – Мария уходила от неё навсегда…
Туго накрахмаленная занавеска в затейливых узорах ришилье – когда-то они их, эти занавесочки вместе делали.
Слегка подсиненные тюлевые гардины пахли чистотой и свежестью цветущего сада. Мария каждую неделю всё перестирывала, в субботу мыла полы, перекладывала бельё в шкафах, чтобы не было моли. И, как раз после бани, вдруг почувствовала себя так плохо, что попросила соседей – у них был дома телефон – срочно позвонить внучке в Москву.
Мария лежала тихо и дышала ровно – наверное, спала. Алеся прошла в залу. Здесь также всё сияло чистотой и свежестью, и только на одном подоконнике, там, где была открыта форточка, лежал тонкий слой сероватой пыли.
Прижавшись горячим лбом к стеклу, она ковыряла потрескавшуюся и кое-где отошедшую от рамы замазку. Во дворе голодные куры растревожено кудахтали. Петух, изогнув спину, мелко семенил вдоль ворот, сильно припадая на левую ногу и опустив большое пестрое крыло до самой земли.
В хлеву возилась свинья, с подвизгом вхрюкивая, она пихала пустое корыто, суетливо скакали в клетках голодные кролики…
Куда всё это теперь? Кто здесь будет жить? Чужие люди?
От этих мыслей она вздрогнула и похолодела спиной. Нет, нельзя раскисать, надо пойти накормить скотину, приделать всю работу по дому, вести себя так, как будто ничего не случилось…
Приехала она вчера утром – длинно дзынкал звонок, несвязные объяснения соседки Фени, потом сильно дрожали руки…
Сборы недолгие, сумка всё время падала на пол, и вот уже поезд со свистком отошел от вокзала. Время неслось, но здесь оно словно остановилось. Покормив живность, Алеся вернулась в дом. Мария уже не спала.
– У няделю шэры трус падох… Скора бульбу капать… морквы многа было. У подпол усё паскладать нада… Ти не? У горад возьмешь?
– Посмотрим, – ответила Алеся, снова чувствуя ужасный удушающий ком в горле.
Мария смотрела на внучку, и той казалось, что бабушка, как тогда, в далеком теперь уже детстве, угадывает все её тайные мысли.
Однажды, лет шесть ей тогда было, сбежали они с подружкой без спросу на речку, а когда шли домой, подруга ей и присоветовала: «Ты не говори бабуле, что с дебаркадера ныряли, а то нам влетит. Скажи – на луг ходили. Щавель есть». – «Так бабушка всё равно по глазам узнает, где я была», – ответила Алеся, безнадежно представляя себе, как она будет врать Марии про луг.
«А ты не смотри ей в глаза, а гляди прямо-прямо, – учила её опытная девочка. – Так ничего по глазам не узнают, я так всегда делаю». – «Она узнает», – ответила Алеся и побежала вприпрыжку вперед.
– Деука мая, ты дзе?
– Здесь, бабушка, здесь я, – ответила Алеся, в ужасе думая о том, что Мария может потерять зрение.
– Куды ж ты збегла? Хади сюды.
– Краса ты моя, бабулечка, – сказала она, присаживаясь рядом с изголовьем.
Но Мария уже снова задремала – у порога вечного покоя. Три глубоких морщины на лбу и мелкая сеточка у глаз – вот и все метины времени…
Мария повернула голову – на лицо упал солнечный луч. Из-под набухших тяжелых век блеснул ясный и скорый взгляд.
– На магилки хадила, добра… Як яны там? Пазарастала усё? Прыбрацца некаму.
– Что ты, бабушка, там всё хорошо. И чисто. И прибрано.
– Са Старага Сяла плямяница ходзить. И Сястра мая яблык на Спаса прыносила. Яна деука доброая, кольки дён на мяне згубила!
– Ну что ты говоришь! Они все тебя любят! Жила бы ты к ним поближе, так каждый день бы виделись. Или ко мне бы потом переехала, в церковь бы вместе ходили по воскресеньям.
– У церкву я с самай Паски не хажу, – сказала Мария, снова поворачивая голову.
– Из-за ног?
Мария промолчала. Затем ответила отстранёно, как кому-то совсем чужому:
– У скварэчнику жить – зямли не видать. Я ж не птушка какая… Только я не жалюся, ты у галаву не бяры…
– Я не про это! – вспыхнула Алеся.
– Старое – бярэмя для усих. А пляменицы у мяне усе добрыя, и сястра мая Ганна – добрая жанчына.
Мария – свою родню любила и всегда журила тех, кто жаловался на ближнего, – нельга ж можна так? Свая крывя усё-таки…
– Жизнь у тебя трудная была, устала ты. И мне очень хотелось, чтобы ты хоть на старости лет легко и спокойно пожила.
Алеся заплакала в голос, теперь уже не смея удерживать слез.
– На життё грэх жалицца. Што з таго? Гаворать – урэмя такое, ну и зраби так, штоб лучшэй было.
– Милая ты моя…
– Ня плач, дачка, слёзы усю тваю красу пазъядаюць. Урэмя заусёды адно. Як чалавек сам хужэй стане, так яму усё чорным здаецца.
Мария снова прикрыла глаза. На её лице, уже далеком от земных хлопот, снова мелькнула тревога. Она поднялась на локте и простым сильным голосом спросила:
– А Рыжанькаму малачка дала?
– Пил твой Рыжик молоко, пил, и колбаску ел, – не беспокойся, ответила Алеся обрадованно, ей стало казаться, что это хороший знак – болезнь отступила и бабушка выздоравливает.
Большой рыжий кот с треугольной белой метиной на лбу вскочил на кровать и уселся Марии на грудь, радостно мурлыча и нежно выпуская коготки.
– Иди, иди же! – попыталась его согнать Алеся, но кот вцепился в одеяло и уходить не спешил. – Бабушка, может, хочешь чего?
– Не, дачка мая. Ничога мне ня трэба.
Мария снова затихла. Глаза закрыты, и веки тихонько подрагивают. Алесе снова стало страшно.
– Ба! – позвала она, как когда-то в детстве. – Может, ноги растереть? Я привезла змеиный яд. А? Легче станет, вот увидишь!
Мария не отвечала. Лицо её постепенно приобретало какой-то странный оттенок. Полукружья век от бровей до ресниц, коротеньких и золотистых на свету, стали почти прозрачными. На них отчетливо проступила ветвистая бязь мелких лиловых прожилок.
Губы её вздрогнули и тихонько зашевелились – она что-то шептала, но что – не было слышно. Алеся наклонилась к самому её лицу.
Мария молилась, нутром произнося слова последней молитвы: «Прасти мне и моим деткам… и маим унукам… Дай им здароуя, а мне пайшли легкага канца…»
Теперь губы её, запекшиеся и сухие, двигались всё быстрее. Шёпот молитвенных слов становился всё неразборчивей. Руки, до сих пор бездвижно вытянутые вдоль тела, словно ожили, сминая и комкая лоскутное покрывало, наброшенное Алесей поверх одеяла.
– Ба! Я отвар тебе дам! – выкрикнула сдавленно Алеся, обнимая умирающую. – Ба! Ну, бабушечка!
Мария не отвечала. Горячие губы покрылись корочкой, на лбу выступили бусины пота.
Алеся взяла мягкую тряпицу, обмакнула её в миску с теплой водой и осторожно провела по желтоватым губам.
Мария затихла, почувствовав на губах влагу, и чуть-чуть приоткрыла глаза.
– Что? Что, ба? – тормошила её Алеся.
– Пить… Пить, дачка, дала б мне…
– Что? Чай? Отвар? Что ты хочешь?
– Салодкага глыток.
Когда Алеся устраивала бабушку на подушках повыше, чтобы не облить чаем, ей показалось, что Мария уже навечно прикреплена к постели – так тяжела она была. Чай, влитый в рот из чашки, темной струйкой потек обратно. На подушке появилось бурое пятно.
– Не глытаецца нияк. – пожаловалась она. – Тяпер кислага хочу. А што ни зъем, усе назад. Быццам нутро маё памерла…
Теперь она лежала так тихо, что было слышно, как цокает пульс у самого виска. Алеся прижалась щекой к её лицу.
– Ты говори, говори! – просила она, обнимая и прижимая к себе уходящее тело.
– Франя, дачка мая старэйшая, царства ёй нябеснае, кали памирала, тожа усё пить прасила, а то просить – драникау, мамка, спяки… А спякла ёй драникау, и у рот узять не змагла… Так жывот яе змучыу… А памёрла тиха… Прыношу ёй вутрам снеданне, а яна, галубачка, ужо и атыйшла.
Мария замолчала, губы её сомкнулись в тонкую полоску.
– Франя первая памерла, – снова начала рассказ она. – Да вайны тое ж было… А у вайну Федечку и Миколку лихаманка згубила… Як у балоте пасидели, кали ад немцау хавалися, так и занедужили хлопцы… Не, не… Ня так усё было… Памерли яны, кали паж немцам жыли… Пасля памерли, пасля… А Броня, матка твая. Живая засталася. Тольки життё яе тягчэй, чым пагибель лютая…
– Не надо, бабушка, про плохое, – попросила её Алеся.
– Ти ж то – плахое? – сказала Мария, приткрывая влажные ореховые глаза. – Ты паслухай, быццам музыка грае… И стомленнаясь ад яе такая, быццам стог сена зварушила. Чуешь? Ти здаецца мне?
– Музыка? Нет, не слышу. Всё тихо, ба! Ночь уже… Может, вспоминается что?
– И прауда, – сказала Мария. Нияк трызницца мне. Вочы закрыю, и я у лузе, што за маткинай хатай… Жде мяне пакойница. Скора пабачымся… Чуешь? Заве мяне…. У сне кались такое бачыла… Быццам пасылае мяне матка тяленка пасвить, а я ж, деука тады была, дужа спать хочу… Увечары деуки-хлопцы збираюцца, песни спявають, гамонять да вутра. Не скора разыдуццаа… И мне ж пагулять ахота… А мяне ужо за Ивана аддали… Не, не у маткинай хате эта было… У свякрухи… Ивану было тады сямнаццать, а мне – двадцать гадкоу… Я ужо деука видная к таму часу сделалась… А ён – якоясь зайчынё… Потым, прауда, вырауняуся… Пад вянцом я у слезы… Яго писарчуком у сяле звали… дед яго и батька шибка граматныя были, казали, батька у воласти писарам служыу… Адин на усё сяло грамате знау…
Мария замолчала и долго смотрела молча на картину в бронзовой раме, что висела на стенке между окнами. Потом продолжила.
– Да. Тое ж у свякрухи было, не у маткинай хате… Дык пасылае яна мяне тялё пасвить, я иду, а вочы слипаюцца… И заснула я, только день заняуся… Сил маих зусим ня стала… Жывела ходить у лузе, а мяне сонейка змарыла, ниякага спасу няма… Прылягла я у канауку и вочы сами сабой закрылися… Ляжу и слухаю … Музыка трызницца такая красивая… Быццам гусли играють… И пад тую музыку матка мая выйшла на ганак и выкликае мяне – иди, дачка, да хаты! А я и кажу ёй – матка мая любая, як жа я свякрухина тяля у лузе кину? Прыбье мяне свякруха! И тут на небе хмара зъявилася… Вяликая такая. На усё неба… Так халодна стала адразу… Я вочы адкрыла, бачу. Вакол мяне пастухи стаять, рагочуть, нячыстая сила… А тялё маё збегла кудысь… Што ты тут будешь рабить? Ни вокам не вижу, ни слыхам не чую… Узышла на горку, стаю, а у сяло ити баюся… И тут наш сусед, дед Панас, иде… Чаго равеш, деука? Ти не тваё тялё ля крыницы пасвицца? Пабегла туды и знайшла яго, тяленка свякрухина… Дрыжить баками, халодна яму, страшна… Ганю жывелу дамой. А свякруха ужо на ганку мяне выглядае…. Лупила яна мяне страх …Матачка ж ты мая… Уся спиначка балела страшна… Чуеш, ти ж то гусли грають? А, деука мая, ты чуешь?
Хоронить Марию пришли из Старого Села всей роднёй. Ганну, сестру Марии, Алеся давно не видела, но узнала сразу. Лицом такая же, только глаза синие, как водица в речке Сож, и телом скудная, может, от возраста…
После похорон поехали в Старое Село, к двоюродной бабушке Алеси, на хозяйстве осталась Ганнина младшая дочь. Что делать с домом, пока не решили.
езжала Алеся в Москву утренней моторкой. Перед отъездом Ганна сказала, вытирая слезу краем фартука:
– Уже привыкла к тебе, девка, хоть бы неденьку ещё пожила.
– Надо ехать, но я ещё приеду. Теперь часто буду приезжать, – пообещала он, тоже не сдерживая слез.
– Вот тебе наследство от Марии, – сказала она, протягивая Алесе перстенёк. – Он её от Василисы достался. Так и передают его от бабы к бабе…
– Спасибо, милая ты моя, – ещё горше заплакала Алеся, снова вспомнив Марию и со всем отчаянием осознав. Что уже никогда больше её не увидит.
– Ну, пора идти. Моторка у нас долго не стит. Слышишь гудок? Подходит.
День будний, народу в город ехало немного.
На верхней палубе было неуютно и промозгло. Сырая темь позднего осеннего рассвета будила тревожные воспоминания. Однако Алеся всё же вышла из душного и тесного салона и встала у борта. Мутные волны гребешками бурунов расходились во все стороны веером, убегая и истаивая на бегу, к едва приметным в предрассветной мгле низким берегам порядком обмелевшей реки.
– Ещё два-три сезона – и судоходство прекратится, – сказал кто-то за её спиной, и она тихо ответила – «точно».
– Вот и замкнулась ещё одна мировая линия жизни…
– Вы это мне? – рассеянно спросила она, не оборачиваясь.
Ей не ответили, и она подумала, что эти слова ей только послышались.
Она стояла у борта и до рези в глазах смотрела в кипящую пену волны. Когда она последний раз целовала лицо Марии, ей стало казаться, что всё живое внутри неё начинает медленно умирать. Мария жила в ней ежечасно, даже когда она не думала о ней, не вспоминала. А теперь всё это стремительно покидало её.
Так прошёл день, ещё день, и ещё несколько дней. Но вот, прснувшись однажды утром в счетлом и чистом домике Ганны, она вдруг ощутила, что в душе её уже нет того тяжелого чувтсва умирания и потери, которое угнетало её все последние дни, она ощущала, что снова живет, и даже в чем-то стала сильнее и лучше. Её больше не раздражали пустяки, от которых она ещё неделю назад просто бы взбесилась, её мысли о будущем больше не казалось ей смутными и тягостными. Она вдруг с удивлением и радостью почувствовала себя свободной от постылого плена пустой суеты.
Откуда-то взялась вера, что действительно всё «перемелется и образуется»…
Огорчало лишь одно – никогда уже больше с ней рядом не будет Марии.
И никогда не будет…
– Не помешаю? – вновь послышался голос за её спиной.
– Вы это мне?
Она обернулась и вздрогнула. Совсем близко от неё стоял средних лет мужчина, его серое двубортное пальто было наглухо застегнуто, воротник был высоко поднят. Кепка, надвинутая на самые глаза, смешно прижимала уши.
– Вот… Вышел покурить. Холод собачий. Бр-ррр… Он зябко поежился.
– Да, не жарко, – вежливо ответила она, втайне радуясь, что и ещё кому-то пришла в голову блажь выйти на волю в такую стыдь.
– А интересно, хоть одна звездочка видна? – спросил он, проследив её взгляд.
– Вега вон там…
– В созвездии Лиры? Это она?
– Возможно. Я не уверена. Очки в сумке, внизу. Плохо видно.
– Вега – звезда осенне-летнего треугольника. Её в этих широтах можно видеть только вечером.
– Мне это не мешает, – сказала она и отвернулась.
– Как это?
– А никак.
– Ну ладно. А вы опять в Москву?
– Информированы? – сказала Алеся, поворачиваясь к незнакомцу.
– На всех москвовских есть особый отпечаток, – засмеялся он. – Так вы не ответили.
– Раз это для вас жизненно необходимо, то, пожалуйста. Сообщаю. Еду в названном вами направлении, но немного севернее.
– Что? Путешествие? Времечко не очень.
– В некотором роде. А вы что тут делаете? Вы же не местный.
– У меня отпуск.
– Времечко не очень.
Он снова рассмеялся. Она тревожно прислушалась – что-то очень знакомое было в звуке его голоса.
– А чем тешите себя в трудовые будни, если это не секрет, конечно? – тихо спросила она.
– Секрет, но вам откроюсь.
– Я польщена.
– Живу я в ма-а-аленьком городке и работаю в ба-а-альшом НИИ.
– Ну и.? Конкретнее – сфера ваших интерсов?
– Гражданские лайнеры.
Она отвернулась и снова стала смотреть на воду – пенный гребень вздымался почти до самого борта.
– Я тоже когда-то хотела придумать что-то вроде самолета. Устройство, которое будет летать без мотора. Ну, такого крылатого…
– Сапфира?
– Сенька!?
– Ты – дурак. Я угадал ваши мысли?
– Нет, неправильный ответ.
– А как же будет верно?
– Что эта вот пена за бортом – вовсе не пена…
– А косы царицы-русалочки? Которая плывет за нами? Так? Так, по глазам вижу. И я в это – верю.
– Да неужели?
– Чтоб мне сдохнуть. Алеся счастливо рассмеялась.
В это время раздался гудок и моторка резко остановилась.
– Опять на мель сели, – сообщил матрос, пробегая с багром на корму. – А вы шли бы в салон, сырость, да и мешать будете, – сказал он пассажирам у борта. – Глянь-ка, рыбина какая, хвостом так и бьет! – крикнул он, обращаясь к другому матросу. – Эх, жалко, не успел загарпунить.
2
На свекрухином подворье жила Мария вдовою при живом муже. Через месяц после свадьбы Иван подался в Гомель – сельскому грамотею не сиделось на крестьянском подворье. Иван и Мария были и до свадьбы не чужими друг другу. Бывало на селе, что женились между собой и сродники. Отец Ивана, волостной писарь, вел свой род от московских греков, был выслан из Москвы, осел в тихом месте и жил уже незаметно и скромно, однако, усердно обучая сына грамоте и всему тому, что сам знал. Знался больше с Василисой, с которой был однофамильцем и даже вроде состоял в родстве. Потом женился, имел семеро детей, жил не бедно и умер в глубокой старости, оставив после себя младшему, Ивану два мешка старинных книг.
Отъезду Ивана в город отец и мать не перечили, в семье были и другие мужчины. Домой Иван приезжал на праздники, но через два года такой жизни вдруг передумал и вернулся домой. Был обычный будний день, его не ждали…
Худющий, ребра наперечет, молчал день молчуном, к вечеру стал в себя приходить, но с Марией – за весь день ни слова! Потом стал работать в сельской конторе – бумаги переписывал.
…Бабку Василису, маму Марии, Алеся хорошо помнила. Умерла она, когда Алесе уже было шесть лет. По-настоящему, Матерью Алеси была Мария, а Василиса – бабушкой. Настоящая бабка-калябка из волшебной сказки – мелко семенила босыми узкими стопами по пыльной дороге, шла пешком из Старого Села в город Ветку. Домой, в село, Алеся ходила её провожать, едва поспевая за шустрой старушкой, до переправы. Сколько ей лет – никто точно не знал. Знали только, что много…
Иван и Мария переехали в местечко под удивительным названием – Ветка, и когда Алесю привезли туда родители, она подумала, что живут в этом городке люди-птицы…
Один раз, в бане, она прямо спросила у Марии, куда люди прячут крылья? Днем, на улице, под одеждой, это ясно, а вот здесь, в бане? Мария рассмеялась и ничего не ответила.
После революции Иван поменял фамилию – оставаться однофамильцем самодержца было ни к чему.
Тогда многие меняли фамилии – это разрешалось, но чаще меняли на еврейские, так было модно.
У Ивана же была другая причина, и он изменил всего одну буквицу – «н» на «ш».
Его назначили на работу в райпотребсоюз. Там он и работал всю свою жизнь, если не считать военной службы. Должность председателя была выборной, и вот однажды прошел слух, что Ивана не переизберут. Но слух остался слухом, и председателем вновь был избран он. Потом уже Мария узнала, что Ивана обвинили в краже шапки. Обвинение было столь абсурдно, что во всей Ветке не нашлось такого горлапана, который бы эту новость взялся публично обсуждать.
Квартиру им дали казенную, как раз напротив почты. Две комнатки и кухня с простой деревенской печкой. Вторую половину дома заняла семья товароведа из райпотребсоюза. Сарай был общий – там держали козу Розу и корову Палашку. Алесе доставалось и от козы, и от коровы. Роза была козой товароведа и считала себя настоящей хозяйкой двора. Она выслеживала Алесю и, как только скрипнет калитка, гналась за ней до самой двери в сени. Доски были сплошь истыканы острыми рогами въедливой козы. Хочет Алеся крикнуть, бабушку на помощь позвать, а коза своими острыми рогами слова в глотку обратно вбивает…
Когда Роза вколачивала свои рога в дубовые доски двери, появлялась соседка и вызволяла козу. Та жалобно мемекала, будто не сама только что чуть не сжила со свету несчастную девчонку, а её, козу, нещадно мучили. Соседка давала ей корку, приговаривала так громко, что было слышно на весь двор: «Пападзись ты мне, паненка траклятая! Тут табе и капцы!»
Сидорова коза с готовностью согласно отвечала – и я помогу, помогу обязательно, ммнеее ли не помочь, ммееее…
Между собой, однако, Палашка и Роза вполне ладили.
Когда же рядом была Мария, Алеся поднимала вопёж – ба, пусть Розу уведут! Мария брала хворостину и с криком – ах ты, злыдень! – прогоняла козу, а та, на прощанье зыркнув в их сторону злым желтым глазом, уходила прочь со двора, но задание на завтра было вполне очевидно – месть, месть и ещё раз месть!
Однажды Мария засекла Розу за этим разбойным делом. Коза как раз навострилась погнаться за девочкой и уже нетерпеливо сгибала коленку, как бегун перед высоким стартом, но Мария опередила её. Схватив палку, которой задвигали на ночь ворота, она погнала козу, приговаривая для остраски: «Лихаманка тябе забяры, чаго дитё чапаеш, луплены ты бок?»
Тут Роза продемонстрировала недюжинный интеллект и верх лицемерия, уткнувшись отвислыми, розовыми губами в подол гонительницы и нежно при этом подмекивая – дескать, я тут вообще ни при чем! Просто шла по своим делам, и вот…
Эдакой паинькой и поплелась, нога за ногу, в общий сарай. Дескать, и в ум не брала обижать каких-то там пришлых девчонок!
Алесю привезли в дом Марии, когда ей исполнилось два с половиной года. Маленькая, сухонькая старушка с очень умными и живыми глазками, Василиса, сидела на низкой скамеечке у печки и чистила пузатую, всю в буграх, картошку.
Мария сбивала масло в маслобойке.
Когда они вошли в дом, никто не встал, не поспешил на встречу – все сидели на своих обычных местах и молча смотрели на гостей. Девочку поставили на пол, сняли большой платок, которым она была обвязана поверх шубки под мышками, и, указав на обеих женщин, сказали:
– Теперь это твои бабушки! Будешь с ними жить – пока.
Кто нес её на руках – Алеся не могла вспомнить. Даже не могла вспомнить, кто это был – мужчина или женщина. Человек, что-то нашептав на ухо Марии, передал куль с вещами и, наскоро попрощавшись, ушел.
На кухне мягко пахло чем-то таинственным и душистым. Потом уже Алеся узнала, что так пахнет вереск и мятная полынь. Чудесный запах исходил от больших связок травы, которые висели под самым потолком над печкой, и от него было немного щекотно в носу. А ещё по утрам пахло чем-то острым и нестерпимо аппетитным. Это был запах свежего черного хлеба, испеченного на поду в печи.
Там, на далекой сказочной Вологодчине, не пекли черного хлеба, его брали в магазине, зато чуть не каждый день пекли большие, в противень, пироги – с клюквой и сладким творогом. Тесто ставили на ночь, а пироги садились в печь в пять утра, саму же печку затапливали в три ночи. Алеся любила просыпаться на рассвете, на теплой уже печке, от сладкого и дурманного запаха этих огромных вкусных пирогов.
Здесь всё было не так. И соленых волнушек в молоке здесь не едали ложками из мисок. Когда Алеся попросила дать ей такую еду, Мария даже не поняла, что она просит. Разве солят грибы в молоке? Пришлось объяснять, что молоко в миску наливают, а грибы берут из бочки, а бочка должна стоять на веранде, а здесь и веранды нет, и бочки стоят в погребе. Но не с грибами, а с невкусными и очень солеными огурцами, от которых щиплет губы…
И ещё больше удивило Алесю, что «на двор» здесь ходят куда-то за сарай, в отдельный маленький домик, который закрывается снаружи на вертушку, а внутри – на крючок, а не в специальную комнатку в проходных сенях между летней и зимней частями дома, как у вологодской бабушки Татьяны.
И хотя здесь всё-всё было не так, и говорили эти люди на каком-то ином языке, не всегда ей понятном, но вскоре Алеся нашла много такого, что заглушило её тоску и полностью захватило воображение. И она уже не так остро тосковала о вологодской бабушке Татьяне и её большом, просторном доме с развесистым кустом каринки во дворе – здесь тоже была жизнь, и тоже очень интересная.
Василиса ночевать не оставалась, уходила, иногда затемно, в своё село. Но утром, на самой зорьке, она снова приходила к дочке, усаживалась на свою излюбленную скамеечку у печки и чистила картошку, перебирала траву или штопала чулок. Мария же копалась в огороде или возилась в хлеву, а потом, когда работа была приделана, они садились к самовару и пили чай из стаканов с маленькими острыми кусочками колотого сахара и серой булкой под названием «сайка». После чая, посидев ещё немного на своей скамеечке и неспешно погутарив с дочкой о том о сём, Василиса начинала собираться, перед выходом из дома долго кланяясь на образа.
Однажды, когда Алесе уже исполнилось четыре, она попросила свою старшую бабушку:
– Василисынька, можно тебя проводить до речки?
– А дорогу назад найдешь? – спросила старушка, прищуривая на девочку свои острые молодые глазки под крутыми изломами темных бровок.
– Найду! Найду! – радостно кричала та, – мы всей улицей бегаем к речке каждый день!
– Куды, куды? – строго переспросила Мария.
– Да так…
Алеся поняла, что сболтнула лишнее, и быстро побежала из дома.
Так и шли они вдвоем, рука в руке, до самой переправы – маленькая сухонькая старушка с лицом веселой девочки и острыми молодыми глазками под бровками с изящным изломом и строгая внучка-малолетка с печальным взглядом старушки…
В Старом Селе про Василису говорили, что она знает…
Последний раз пришла она к Марии, когда девочке шел шестой год. Вечером, прощаясь, она сама позвала Алесю и сказала:
– Хочешь провожать меня? Ножки что-то нейдут.
– Идзи, деука. Трохи праводишь и вернешся, – поддакнула и Мария, которая всегда с большой неохотой отпускала Алесю к реке. – Ти дойдеш сама ад пераправы? – как-то по-особому внимательно и с тревогой спросила она у Василисы.
Василиса улыбнулась и кивнула головой, только улыбка получилась какой-то вымученной и жалкой.
Алеся живо набросила кофтейку и побежала во двор, пока бабушки не передумали. До переправы шли километра два. Алеся, прижимаясь плечом в черной плюшевой жакетке старушки, спрашивала:
– Василисынька, а тебе не жарко? Зачем ты ходишь летом в кротовке?
– Малое старому не указ, – сказала Василиса со своим обычным веселым смешком. – Это кто ж тебя так со старшими разговаривать научил? Ти не бабка твоя Вологодская?
Алеся чмокнула кротовку – в засаленный изгиб на рукаве.
– А что, я сама не могу видеть? – сказала она и ещё раз поцеловала Василису – в щеку.
– Шибко грамотная, дочка моя, вот про хусей мне рассказали. Дети не могут так говорить со старшими, поняла, малая?
– Так они смеялись, и никто на меня не обиделся.
– Это потому, что любят тебя. Вот и смеялись, а могли бы и плеткой угостить.
«Хуси» – это гуси. Здесь говорят мягко – «х» во всех словах, кроме трех – ганак, гузик и гвалт. Алеся это правило уже знала твердо.