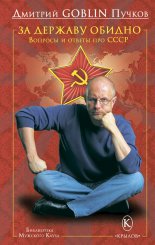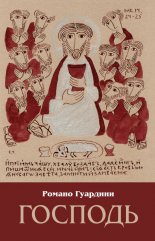На арфах ангелы играли (сборник) Миронова Лариса

Так кончался век семнадцатый – героический, и на смену ему шел век эпигонов…
Обоз московских эмигрантов шёл в польско-литовское государство.
Но не успели осесть раскольники, как уже новые гонения. Местечковые державцы опасаются беженцев-московитов. Как бы и здесь смуту не учинили…
И снова потянулась цепочка эмигрантов, всё дальше, в польские земли. Только в Польшу идут не все. А больше – посадская знать, с ними же черный и белый клир. Крестьяне-эмигранты остаются здесь.
И вот уже Ветка, остров на реке Сож, что во владениях воеводы Халецкого, – центр московской раскольничьей эмиграции…
Десять верст, двадцать, тридцать, пятьдесят – всё это старообрядческие слободы…
Опять донос: «И те слободы расселены, как превеликие города, где премногое число из разных городов беглых богатых купцов, что называют себя раскольниками, укрываясь там от податей и рекрутских наборов».
Белая Русь – Беларусь – Беглая Русь…
Сыпучие пески Стародубья. Зерно не растет там, и селятся в нём кустари-ремесленники. И везут те ремесленники – шапошники, шорники, бондари и прочие иные – свой товар в Ветку, местечковым богатым купцам. А те дают им в кредит. Так попадают кустари Стародубские, аки муха в плен к пауку, в долговую кабалу.
А старожилы-ветковцы ещё и пугают старой верой: «Так и придет наше разорение вскорости – больно рьяно старообрядцы за дело взялись».
И вот шлют они жалобу гетману Скоропадскому, жалобу на раскольников, которые «двори и комори (лавки) в Стародубье понаймавши и тем стародубских православных купцов, которые до ратуши подати отбувают и великоросских желнеров (солдат) беспрестанно кормят, весьма утиснуты, через що те до крайнего приходят разорения».
Но уже многие поняли – «пока живет город Ветка, тию гандлию искоренити не удастся».
А потому беспрепятственно едут рскольники по стародубским селам и весям и скупают подчистуювоск, пеньку, мед, кожу. И «робить» стародубским ремесленникам не из чего.
Опять проклятье: «Аки Змий Апокалипсиса, от церковного неба яко звезды души людей православных отторгавший, эта Ветка старообрядческая!»
«Петр-батюшка! – просит епископ Питирим царя всесильного, разори ты их ложную церковь!»
Но царь глух к его мольбам, по рукам и ногам связал его военный договор с Польшей против врага их общего – шведов…
Идут годы. У власти императрица Анна.
«Воззрись, матушка, на Ветку! Зело много беглых тягловцев там!»
1735 год.
Карательная экспедиция полковника Сытина.
Теперь с Польшей не церемонятся! А там – смуты за замещение престола.
Первая выгонка. Разоряют старообрядческие церкви – всего выгнали населения четырнадцать тысяч человек. Прошла зима, ещё зима…
И снова потянулись на всё свои вольные земли разогнанные по российским монастырям божьи люди.
Идет новый поток беженцев из центра России на белорусскую окраину – бегло-русскую…
И снова местечковая власть шлет доносы и просьбы – разорить непокорную Ветку!
У власти Екатерина Вторая.
Карательная экспедиция потопила в крови все старообрядческие поселения. А кто спрасся от смерти, поспешил в другие воеводства, а тои в Сибирь или на Алтай. В починки беглого люда.
Зима, ещё зима…
И снова возвращаются упорные на обжитые места. Среди густых лесов Стародубья, как грибы после дождя, снова вырастают торговые поселения.
Клинцы и Гомель – уже заметные уездные города. Бойко идет торговля. По реке беспрепятственно прибывают заезжие торговцы, жизнь кипит.
И опять терпит разор никонианский купец.
…Те же, кто некогда в леса ушел д в болота, построили там свои скиты и живут безбедно – держащиеся старой веры богатее держащихся веры новой, значит, бог благославляет веру старую, а не новую.
Однако не только бог помогал старообрядцам. В колониях своих они жили единым миром – своих выручать было первой заповедью.
Отстраивать старообрядческую Ветку всякий раз помогали всем миром – Нижегородские, Московские и прочие иные единоверцы шлют свою помощь разоренным братьям щедро и без сожаления о деньгах.
1762 год.
Екатерина издает манифест: «Селитесь в России люди всех наций, кроме жидов. Все беглецы. И вам будут прощены все ваши преступления. И разрешено будет ношение бороды и какого угодно платья. И право вернуться к помещику своему».
Однако нет желающих идти в кабалу. Укрепляются лесные скиты, множатся их постройки. А как идет экспедиция на выгон, так запираются люди в скитах этих и самозапаляются…
Скит под Халецким селом. Две цепочки войска лежат по кустарнику. А как ым повалит из-под крыши, солаты запалителей выволакива – ют наружу и из кишок пожарных студеной водой крестят.
Потом тела их в телеги кидают и везут упорных на новые, дозволенные царицей, поселения.
Прошла зима, ещё зима…
…На правом берегу Сожа, у крутой излучины, в топком болотистом месте, обосновался небольшой скит – дабы уберечься от кары на страшной суде, блюли они пуританские заповеди.
Тихое, лесное, уединение. Лес – враг, лес – кормилец воспитал людей настойчивых, ко всякому труду охочих и скорых. Но жизнь их шла по кругу, и мир отдельнй от всего света жизни застыл, как пчела, утонувшая в теплом воске.
Но как бы ни была оторвана община от внешнего мира, как бы не отгораживалась от него в гордом самодовольстве святости, но и её не миновали бури мирские. Таинственное веяние, пронесшееся над грешной землёй, всколыхнуло и общину до самых недр.
Внутри скита пошел раскол. Сначала покинули её московские беспоповцы: «Не желаем жить в разврте или воздержании!»
И то. От заповеди безбрачия всё согласие исполнилось блуда и сквернодеяния. Юнцы и девы, порываемые старстью похоти, собирались по ночам на гумнах и, досмотревши юноши дев, а девы – юношей, предавались забавам запретной любовной игры.
А сами же руководители общин брали себе стряпух и жили с ними блудно.
И вот пришло время снова выбирать главу, и решили избрать Симонида, наибольшего по мудрости и опыту. Может, он спасет общину от падения…
Мудр был симонид, мудрее всех мудрых, ясен был его ум, яснее света светлого.
Но ясность эта была – сестра узости. Просто и трезво смотрел он мир, да простота эта была сермяжная – страх прступить крепко сковал его некогда мятежный дух.
Симонид в общине вновь завел строгие порядки. С мирянами не сообщаться – ни в молитве, ни в яствии, ни в любви, ни в войне, ни в мире.
«Терпи, соблюдай веру, и пусть тебя кнутом бьют, огнем жгут, не надломись, не сдавайся! Питайся листом, коренья ешь, живи нагим, зноем опаляйся, хладом омерзай. Кто стерпит, тот и будет верный. И получит он царствие небесное, и ещё на земле обретет он радость духовную.
Мирские терзаются алчностью, завистью, честолюбием. Правители лихие гнетут народ, соперничают друг с другом, грызутся в лютой вражде. Поддднимают ввойска несметные, полонят земли чужие, прославляя себя победами, ит которых плакать надобно. Что значит – радоваться убийству многих людей? Об этом слезы лить надобно, а победу отмечать тризною…
Добро же твори без надрыва, спокойно и сдержанно. А если и быть жестоким, то не в припадке ярости, но оббдумывая всё и теперь уже – не отступая.
Ибо есть бытие, которое пребыло и раньше, нежели небо и земля. Оно недвижно и самобытно. И не знает переворота, свершая и свершая свой бесконечный круг…»
Так открывал Симонид людям тайну вещей. А люди, сидя кругом на траве, внимательно слушали своего пророка и склоняли головы в знак согласия.
Так прошла зима, ещё зима… И ещё – много зим и лет…
Как-то ранним сизым утром нашла стряпуха в кустах, за овином, девочку. Лежала она в траве чахлой и унылой, и была туго спелената хостиной. Отнесла стряпуха дитё Симониду – на показ.
Под грубой тканью уивдели они прекрасное и тонкое шитьё – рубашечка в кружавчиках, платьице и чепец работы тонкой, искусной. В кармашке платья лежал и перстенек, внутри, на металле были начертаны буквы, латинские, всего четыре – ROMA…
Нарекли малютку Василисой.
Девочка росла быстро – и трех лет не прошло, а она уже вопросы умные спрашивает – откуда солнце встает и куда вечером уходит? Что за земля в тех краях, где оно ночью отдыхает? И зачем луна с ясным солнышком не ладит?
Наставник её, сам Симонид, говорил ей голосом тихим и ласковым:
– Всё узнаешь, когда подрастешь. Но главное крепко помни – одна духовная радость доступна человеку на земле. И потому – терпи и терпи ежечасно во всём остальном.
– А как же птицы, звери лесные? – спрашивала Василиса, приглаживая седые волосы старца своими маленькими ручками. – Они так славно щебечут! Им жить в радость! А что же человеку – радость не дозволена?
– Радость и человеку дозволена, – говорил, мрачнея черной тучей, Симонид, – но радость земную человек познает не всякий час. А токмо на радениях. Тогда и предвкушает он блаженство вечное той жизни, что наступит на светлых небесах.
На первое радение Всилису приуготовили, когда минул ей четырнадцатый год, и косы до колен достали.
И сделалось ей люто на сердце. Кровь от лица отлила и губы, как мел, побелели. Ждет вечернего часа, минуты считает, а сама обмирает…
Вот и солнце на закат подалось и потянулись люди к двери главного сходника. На пир собиралась вся взрослая община. Симонид, строгий и торжественный, медленно поднял руку и радение началось.
За общий стол, на длинные лавки сели мужчины и женщины – друг против друга. Симонид – во главе.
Села и Василиса.
К ней доле подсел подружник, присматривать за ней, всё разъяснять и помогать, если надо, чтобы она своих вопросов не ставила и не мешала общему порядку.
– Симонид – наш кормщик, а это всё – корабль, – говорил он ей на ухо. – Смотри, вот и кормщица идет!
Баба, молодая, в белой рубахе с красивым по широкому рукаву, раздавала всем белые, большой длинны, одежды. Все облачились и запели протяжную песню, парами пошли во главу стола, к Симониду, он же благославлял пары, и они пускались в пляс.
Вот уже всех благославили, и хлоровод белых длинных рубах шумно вьюжил в полутемном помещении, кормщица пошла по кругу и раздала жгуты и палки, а иным – и цепи тяжелые…
Уже не кружились хороводом, а прыгали, скакали и выли – всё громче, всё яростней…
Симонид всал, поднял руку – всё стихло в раз.
– Сам святый дух вселяется в тела ваши и походжать там будет. Садитесь к столу, люди добрые.
Все сели и снова начали петь, мерно позвякивая в такт песне цепями:
Катает нас птица в раю,
Она летит, во ту сторону глядит,
Да где трубушка трубит,
Там сам бог нам говорит.
Ой, бог! Ой, бог! Ой, бог!
Ой, дух, Ой, дух! Ой, дух!
Накати! Накати! Накати!
А как дух накатил, навал навалил, все снова повскакивали с мест, положили руки на головы и закружились-завертелись в диком хороводе… Так они плясали и громко кричали:
Дух свят! Дух свят!
Царь дух! Царь дух!
Разблажился! Разблажился!
Дух свят! Дух свят!
Ой, горю! Ой, горю!
Дух горит! Бог горит!
Свят дух! Дух Свят!
– Станем же снова в един круг, – сказал Симонид, выходя из-за стола. – Во един круг Иоанн Предтечь… И восстанет к нам из гроба сам иисус Христос! И пойдет по кругу с нами сам бог Саваоф…
Тут вошел в горницу юноша в белой одежде – он тоже первый раз на радении. Симонид к нему руки протягивт и поет:
– Вот идет к нам сам бог Саваоф…
Ещё один вошел, и накинули ему белое покрывало на голову.
– Я бог, я тебя награжу, хлеба вволю нарожу… Будешь есть, будешь пить, меня, бога, хвалить…. Станешь хлебушек кушать, да Евангелие слушать…. К тебе дух святой станет прилетать, а ты изволь его узнавать… Я твой отец, не дам тебя в иудейския руки, избавлю тебя от вечные муки…. Я вас всех защищу, до острога не допущу…. Всем вам ангелов приставлю, от злодеев лютых всех избавлю… Принимай крещение – от бога самого наущение…
Кормщица стала разносить по кругукуски хлеба и квас.
Это было главное радение, под сам Троицын день.
Когда причастие закончилось, служки кормщика внесли чан с водой, прилепили на края две восковых свечи. Одну юницу нарядили в цветастое платье – она и будет богородица.
Идет богородица с блюдом изюма и приговаривает:
– Дарами земными питайтесь, духом святым наслаждайтесь…
Второе Василисино радение былдо на Ярилину ночь. Тогда никому отступа не было – вем отрокам осквернение, а юницам – растление.
– Ты теперь будешь богородица, – сказал ей Симонид. – А родишь сына, так объявим его Христом, родишь девочку – будет пророчицей. Святые дети родятся от христовой любви.
Ззаныла душа Василисы, тесно в сердце стало, но не посмела ослушаться. А как дух свят накатил, так и кончилась её тихая девичья жизнь.
Под глаза легли синие тени, а щеки тугие, румяные, желтой краской подернулись, и сама вся с лица спала…
Пришел срок, и родила Василиса дочь. Назвали, по уговору, Марией. На просторной поляне, при полной луне собралась вся община, и василиса встала на колени – перед ней лежала девочка на полотняном покрывале. Симонид напутствовал:
– Родила ты дочь святую. Познает она счастье на земле. И будет оно ей великим испытанием. Принесет она через своё мучение великое счастье людям. Обогреет её солнце своим теплом, а луна – осветит своим светом. И будет её душа светла и тепла ко всем людям. И жизни ей будет долгой – до светлого часа…
Люди, утомившись, ложились на землю, и так лежали, поврнув лица к небу, а речи старца нес ветер над лесом и полем, и над сырыми болотами, где глубокая черная вода стоялда грозно и мертво и на берегах не колыхался ни един стебелек. – Найдут люди счастье и вернут его, счастье, которое дьявол украл у них обманом.
Когда же все разошлись, и на поляне осталась только Всилиса с дитем, он, прижав её к себе, тихо сказал:
– Смотри, вот в эту ямку мы посадили семя этой ночью. Росток появится – холь и лелей его, в растении этом скрыта великая сила. Душа твоя в нем поселитсмя, хранительный ангел твой. Согрешишь, росток захиреет, повянут побеги, а сама ты погибнешь смертью жалкой. Праведно станешь жить, чисто, вырастет древо высокое, сильное. Даст плоды целебные. И жизни этому древу будет сто сорок лет.
– Да, Симонид, исполню всё, – легко и без страха, глядя ему в лицо, сказала Василиса.
– Но смотри, Василиса, не ищи счастья для себя, будет для тебя это – страшный грех. Не будешь ты счастлива этим счастьем. Оно обманчиво и недолго, как туман на рассвете. Гляно окрест, что ты видишь?
– Лес, небо, звезды, росу на траве. Скоро утро.
– Вот это всё – и есть твоё богатство, владей им, смотри и наслаждайся. Вот это и есть твоё настоящее счастье.
Василиса отвела глаза и долго стояла молча. Потом, когда над лесом занялась заря и победно взошло солнце, она, глядя на алый восток, кротко сказала:
– Вон паутинка на травах сверкает, как самоцветы, а птицы поют так счастливо и радостно, что и мне хочется петь и плакать от счастья.
На покрывале завозился ребенок, она взяла дитё на руки. Теплая ручка выбилась из пеленок и коснулась её груди. Голодный ротик нетерпеливо искривился, ища материнскую грудь. Василиса расстегнула высокий ворот, из тугого соска брызнули струйки жирного, желтого молока и упали сливочной россыпью на темную кожу Симонида.
– Это счастье, – сказал он.
– Счастье? – расеянно переспросила она, поправляя сбившиеся пеленки на младенце. – Счастье… Да, это счастье. А ты, Симонид, счастлив ли ты, скажи мне правду? Твоё лицо всегда печально.
– Счастье… – теперь уже старец произнес это слово рассеянно и тревожно. – Знаешь что, дитя пресветлое, не может быть счастлив человек, пока не имеет он славного отечества.
Василиса теснее прижала к сбе младенца.
– О чем ты, святой человек?
Но он молчал, а юная мать всё смотрела и смотрела в его лицо, словно пытаясь разглядеть на нем ответ. Наконец. Симонид поднял на неё глаза. В разлете упрямо скошенных зрачков её был виден жаркий блеск. Но он промолчал и на этот взгляд, потом так же молча они пошли домой, в скит, и уже на самом пороге он протнул ей маленький бисерный кошелек, который был у него на поясе, и протяжно вздохнув, сказал просто:
– Вот, возьми, дитя, это – твоё.
Василиса взяла кошелек и раскрыла его – там лежал маленький агатовый перстенек. Он лежал на её узкой ладони и сверкал тускло и смирно. Однако Василисе почудилось, что будто живое нечто легло на ладонь, от перстенька этого исходило мягкое и нежное, как дыхание ребенка, тепло.
Шло время. Василисино деревце всё росло и росло. Всё выше тянулся к солнцу гибкий и сильный побег, всё краше и краше становилась молодая мать… Симонид смотрел на неё темными от печали глазами и думал, что никогда ещё тоска по божественному совершенству не облекалась в столь прекрасные формы.
Однако по весне в общине пошла смута. Строптивцы стали покидать скит.
«И что за страсть жить в миру? Как чудесно здесь, в лесу!» – думала Василиса, разглядывая нежные листочки на своем деревце. Однако от мыслей этих ей делалось до страсти боязно, и в душе поселялся скользкий холод, будто чья-то прохладная перепончатая лапка острыми и цепкими коготками скребла её тайно и хищно.
Миряне к ним захаживали, то то, то это им занадобится. Люди живые. Куда денешься, если приспичит? Их не отторгали. Но и не спешили кланяться по самости.
Василису часто в село звали – лечить хворых. И она, молча кивнув, надевала чистое – белую рубаху до земли, подвязывалась травяным поясом и шла к мирским делать своё дело.
Сто пять трав знала Василиса – лесных и луговых. В своей погребке, под навесом, сушила травяные связки, от них и зимой шел терпкий дух.
Мария, дочка Василисы, день целый в травнике – играет вязками, травы в букетики собирает. Мать смотрит и удивляется.
– А как ты, детка, знаешь, какую травушку с какою связать надо?
– А как дух той травы почую, так и знаю – куда её надобно, в какую вязку вязать.
– А вот с этими листочками ты что будешь делать? – смеясь находчивости дочери, говорила Василиса, подавая ей пучок мать-и-мачехи.
– С этими? – сказала Мария, поднося к лицу и принюхиваясь к букетику. – О, это сильные листочки. Очень сильные. Настойкой этих листиков можно раны заживить, нарывы разные, если, к больному месту прикладывать. И если волосы с головы падать начнут, кожа зачешется – тоже эти листики помогут. Только надо голову настоем раза три промыть. А если ещё и это прибавить, сказала она, беря в руку веточку сухой крапивы, то волосы как шелк сделаются… А вот этой травой можно немножко старую сделать юницей, – говорила она, смеясь, и подбирая с подола рубашки несколько листков мяты и цветочков липы.
– Вижу, вижу, – сказала довольная Василиса, – всё правильно делаешь. Скоро будешь мне помогать.
Слава лекарки за ней крепко держалась, а теперь вот и дочь растет толковенькой да в деле ладной.
– А пойдем, мама, по лугу, травы поищем! – радостно звала её девочка, и Василиса брала её за руку и лвела собирать травы.
– Смотри, оин и тот же цвет имеет разное значение – что при болоте растет, что при доброй землице, что величиною вырос с локоть, что – в перст, что – в пядь…. Что корни велики, толсты и глубоко в землю растут, что цветочки на стеблях рудожелты, сини, красны, багряны, червлены или совсем вороны…. Что изнутри корень червлен или бел, что волокно белое что лист сверху зелен и гладок, а снизу – бел и пушон.
– Мама, смотри, а вот трава ребинка!
– Правильно, это она, её ещё пижмою величают. Растет она в стрелку, а листочки сини. Есть вот тут става маточник – видишь, вся синя, найти её можно только в нехоженых местах. Вот одолень растет при реках, тоже собою голуба.
Прошла зима и ещё много зим, выросла Мария, девицей сделалась. Однако от радения оберег её Симонид.
– Будет тебе радение в другой яви. А пока блюди себя, детка. Бог твоего чела перстом коснулся.
Не очень печалится Мария, что на радения её не берут. И ходит девою с мамой по лугам и лесам. Травы целебные собирает. Большего счастья ей и не надо.
– Мама, а почему оолень голуба? Одолень желта!
– А голуба потому, что листья и стебель то голубы, то сини. И совсем не желты. А ещё вот трава богороцкая или – чабрец. Родится как дикая мята. Цвет на ней синь и красен… А это трава перенос, собой мала, цвет ворон….
– А это – ужик!
– Правильно. И многолистый. А листки белы или темны. А вот завилк, цвет крапивный. Есть крапива, что походит на конопрельцо, добра пить в уксусе. В аэто попутник – настет на пути, листочки подле земли, вверх сторожок. Железняк на пригорке, есть здесь и полынь, верес и собачий язык. А ковыль ищи на диких полях, трава эта белая, растет кустом, шелком чистым розмятывается… А вот трава архангел, то же, что и цветок папоротника, видом синя, по сторонам по девяти листов червленых, вверх четыре цветка – красный, зеленый, багровый, синий… Дают её от сглазу отроку или молодице с душой чистой, как криница….
– Как у тебя, мама?
– Да что ты! – смеется Василиса. – Я грешница. Много грешных мыслей имею.
Уже и серебром тронуло волосы Василисиного Христа, того отрок, что вместе с нею в Ярилину ночь осквернился, а Василисе бег времени будто и нипочем. Мария растет, на Всилису лицом похожая – только у Василисы во – лосы светлые, как лен, а глаза – темнее агата. Мария же светлоглазая – зеленее трав, что в лугах собирает, её глаза. А волосы смоляные. Все в кудрях да кудельках…
В тот год в скиту мор пошел. Что за хвороба людей мучила, ни один старец, ни одна старица не знали, не ведали. Покрывались тела болящих водяными пупырьями, и от этих пупырий шел страшный зуд по всему телу. Как безумные, метались они, и спасу от хвори не было.
Василиса трудилась день и ночь, все сто пять трав перепробовала – и в настоях, и в припарках, только хвороба не уходила, а люди делались как безумные.
Когда сошел последний снег, в ночь под первый дождь было Симониду видение. Дерево Василисино всё цветами усыпано. И цветы на том дереве все разные – розовые, желтые, голубые…
А как прошел первый дождь, разноцветные лепестки на землю все сбило. И появилась завязь – маленькие, как слезки, яблочки. И вроде эти яблочки от пупырий спасают…
Позвал он Василису и говорит ей про своё видение. А Василиса, едва про этот сон заслышала, вся белее полотна сделалась. На колени упала и говорит сквозь слезы:
– Прости меня, Симони, И мне видение было. Про те цветы. Розовые, желтые и голубые… То не прстые цветы – это моя любовь к тебе.
И она заплакала ещё горше. Перекрестился старец, закричал:
– Побойся бога, Василиса! Мы все – братья по вере, и бог – един, кого мы смеем любить!
– Нет, Симонид, нет! Я всю ночь над тем видением думала! Я люблю тебя и хочу жить с тобой, как миряне живут!
Потемнел лицом старец, молчит, не знает, что и говорить ей. Совсем розум потеряла.
– Василиса, – наконец, сказал он, – брак в нашей общине делом греховным объявлен. Я возьму тебя в своё жилище, раз ты хочешь, и ты будешь яко моя прислуга.
– Нет, нет, ты не понял! Я не хочу жить с тобой в блуде! Я хочу жить в браке, как у православных мирян!
– Да что ж ты! – ввзъярился Симонид, отталкивая её руки. – Это тебя поповцы научили предать нашу веру! Страсти плоти – наущение дьявола!
– Нет, мне было знамение… – тихо сказала Всилиса, однако, ничем не показывая страха. – Было! И я его исполню!
– У человека, смутная женщина, есть тайный враг – гордыня. Отрешись от всех своих тайных желаний, и она, твоя врагиня, навеки утишится. Что может быть слаще, чем дума, что ты выше самой гордыни? Это и есть путь к спасению, Василиса.
– А как же народ наш несчастный? Если путь к спасению – умереть для мира? Умереть, живя в нем? Любя его?
– Нет, я вижу, ты никого не любишь, кроме себя, кроме своей гордыни. Не серди меня, Василиса! Разве так я тебя учил?
– Нет, я люблю их, и сердце моё заходится от боли, мудрейший. Так что же лучше – спасти свою душу или – спасти людей?
Теперь голос её был спокоен и тверд, но лицо всё ещё горело алым румянцем…
Но темнее ноччи стали очи Симонида, руки плетьми упали вдоль тела, он не сказал эти слова. Изрек, как если бы стал говорящим изваянием:
– Когда смертный отрешится от всех желаний, он станет вечным. Бессмертие дает бог ему в награду. Тогда разрываются все нити и разрубаются все узлы, что опутывали его сердце в этом грешном мире. И он обретает покой. Я долго шел к этому вожделенному покою. А ты, Василиса, вновь хочешь заковать меня, мою душу в эти страшные кандалы?
– Да нет же, нет, Симонид! Это Бог! Бог так хочет! Бог хочет, чтобы люди любили друг друга!
– Уходи. Уйди, Василиса и не зли меня больше. Видеть тебя не хо – чу. И слышать твои греховные речи. Оставь же меня, несчастного! – вдруг вскричал он и упал на землю.
Никто в общине про Василисину смуту не вспоминал. Что она в брачную ересь ударилась.
А может, не знали люди об этом вовсе.
Но болезнь так и не оставила их жалкий скит. Вот и работать стало некому. Только несколько стариков и старух ещё держались на ногах – они и кормили ледащих.
Василиса же, отчаявшись излечить несчастных, подолгу сидела у своего дерева и разглядывала его чудные листочки. Глянцевый верх был липким, и тоненькие прожилки шли по телу листа от черенка к самым краям, ветвясь и ветвясь тонким рисунком. Рисунок этот ни на одном листке не повторялся. Она старалась запомнить хитрый узор и не могла – что-то смутное рождалось в её душе в эти минуты…
У этого дерева весной не было цвета. Не было и плодов. Пробовала лист сушить, настаивать, но зелье получалось отравное. Злое. Даже со – бака отбегала прочь от его запаха.
– Что-то здесь напутано. Или… знамение соблюсти надо? Ах, Симонид! Мудрости в твоей голове много, а в сердце – трава-пустоцвет.
Как-то опять позвали её в село – хворь лечить. Идет она по лугу, полой линной рубахи свежие травы заметает. Несет в маленьком узелке у пояса семь вязок – для молодицы, что от сглазу занедужила.
– Ай, девка, ай, красуня! – кричат ей хлопцы вслед, что на лугу траву косят. – Что нейдешь до нас?
Молчит Василиса, только шагу прибавляет.
В хате, на краю села, на широкой лаве хворая молодица лежит без памяти. Лицо низко повязано хустой. От щек жаром пышет. У печи хозяйка-старуха стоит…
Поклонилась ей Василиса и попросила котел нагреть да в семи чанах воду развести. Пока старуха котел наладила, Василиса в чаны травы разложила. Потом дали ей семь холство, и она стала окунать их в чаны и по очереди покрывать ими тело молодицы.
– Один холст – хворобу в жменьку собери, – шептала она. – Другой – в комочек закатай. Третий холст – в себя хворобу забирай. Четвертый – остаточки смывай. Пятый – свежей силы дай. Шестой – другй хворобы не замай. Седьмой – красу молодичке вертай….
Так проделала она семь прикладов и потом дала знак старухе надеть на молодицу новую рубаху с расшитым низом – красным крестиком по долу шитый причудливый, цветами, узор.
Управилась Василиса да и села к окошку, подле хворой. А та крепко уснула.
Уже и окна в хате потемнели, и лампадка так тихо мерцает под иконами…
Пора бы Всилисе к себе в скит вертаться, да никак встать не может. Сидит, словно её к месту приковали.
– Ну, что? Как хворая? – спросила её старуха.
– Спит. И от лица жаром не веет. Ушла хвароба, нету порчи больше.
– Так садись вечерять с нами, – похзвала старуха. – Голодная, чай.
– Не хочется что-то есть, – сказала Василиса и встала. – И правда, пойду я уже.
– И неча ведьмаке до свету сидеть, – прокашлявшись, отозвался с печи старухин дед. – Да не вздумай монету давать! – крикнул он хозяйке. – Сала дай аковалок – и буде.
– Ладно, батя, не замай, – осадил его муж молодицы и пошел в сени вслед за Василисой.
– Куды? – встала старуха на пороге. – Дома будь.
– Атхились мать, не замай, – сказал он нетерпеливо и пошел в сени.