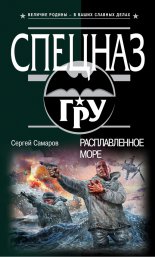Наука расставаний Столяров Андрей

Андрей Столяров
НАУКА РАССТАВАНИЙ
Хочу тебя видеть, хочу с тобой разговаривать, хочу тебя чувствовать – пусть даже так, на некотором отдалении. Хочу, чтобы ты на меня иногда посматривала. Посмотри, пожалуйста, на меня. И я тоже на тебя посмотрю. Мне это нужно. У меня теперь каждое утро начинается с какого-то оглушительного отчаяния. Я просыпаюсь без четверти семь и сразу же вспоминаю, что тебя больше нет. Еще до того, как открываю глаза. Глаза еще не открыл, а уже знаю, что тебя больше нет. И сразу же все вокруг – пусто, пусто, безжизненно. Страшно даже пошевелиться. Страшно начинать новый день. Потом я, конечно, все равно поднимаюсь, умываюсь, пью кофе, съедаю что-нибудь такое, необременительное. Тогда отчаяние это немного рассасывается. Нет, конечно, не исчезает, – чуть забывается, уходит куда-то в ночные глубины. Побаливает, как заноза. И вдруг снова вспыхивает при первом же неосторожном движении. И сначала я чуть не вскрикиваю и не понимаю, что это значит, и лишь потом прихожу в себя и догадываюсь, что тебя больше нет.
Наверное, это для меня слишком внезапно. Знаешь, когда я тебе три дня назад в каком-то наитии позвонил – это уже после того, как мы почти две недели не виделись, – и так осторожно сказал, что мы, по-моему, как-то нехорошо расстаемся, надо хотя бы встретиться на прощание, а ты вдруг не возразила на это ни одним словом, вот только тогда я понял, что мы действительно расстаемся, впервые понял и впервые почувствовал это отчаяние. Я и в самом деле как будто провалился в трясину. Мне никак даже толком не сообразить, что происходит. Кругом – муть, бездонная пустота. Я даже есть потом не мог несколько дней. Только в субботу сумел пропихнуть в себя творожный сырок. Маленький такой, знаешь, детский, с пингвинами на обложке. Ангелина почему-то эти сырки ненавидит. Вот, в чем тут дело. Для тебя прошло уже больше месяца, а для меня – всего несколько дней. Я еще привыкнуть к этому не успел. Я еще оглушен и разеваю рот, как рыба, выдернутая из воды. Это, наверное, смешно выглядит со стороны. Нет, конечно, я тоже уже давно чувствовал, что у нас все как-то не так. Вечно нет времени друг для друга. Созваниваемся все реже и реже. Точно общение превратилось в обременительную обязанность. Вот Гек предложил, например, квартиру, а из-за каких-то там пустяков не связалось. Почему не связалось? Раньше мы ни на какие пустяки не обращали внимания. Мы даже разговаривать стали – так, чуть-чуть раздраженно. Ты тоже заметила? Не специально, конечно, а как-то, по-видимому, само собой. Это и плохо, что как-то уже само собой. Мы устали, наверно, и эта усталость дает о себе знать. Конечно, конечно, я чувствовал, что обрываются между нами какие-то ниточки. Если помнишь, даже сказал тебе что-то такое примерно месяц назад. Что обрываются у нас какие-то ниточки. Это на Литейном, по-моему, мы торопились зачем-то, не знаю, в сторону Невского. Помнишь, я сказал, что рвутся какие-то ниточки? Но мне и в голову не приходило тогда, что они оборвутся совсем. Ты так серьезно ответила, что мы эти ниточки обязательно свяжем. Ты так серьезно ответила мне, что я почти успокоился. Я успокоился, и, наверное, это было ошибкой. Напрасно я тогда успокоился. В любви успокаиваться нельзя.
Все-таки есть в тебе, есть какая-то легкомысленная жестокость. Есть, есть немного, я это почувствовал, как только мы познакомились. Хотя, конечно, еще никаких оснований для этого не было. И тем не менее, сразу же, буквально в первые же недели. Ты, наверное, помнишь, тебя это тогда немного задело. Зима, позапрошлый год, мы торопились куда-то, кажется, по Апраксину переулку. Там как раз сменили прежние обычные фонари на натриевые. Желтое и теплое, человеческое, вместо синеватого и мертвенного. Вот тогда я, по-моему, и сказал тебе о жестокости. Ты, как ребенок, который только что увлеченно возился с любимой игрушкой, целовал ее, тискал, называл всякими ласковыми именами, и вдруг – надоело, через секунду отбросил в угол, и забыл навсегда. В угол, в угол, через секунду, из памяти, навсегда.
Ты только не подумай, что я тебя в чем-либо упрекаю. Ни в коем случае. Нет ничего хуже при расставании, чем в чем-либо упрекать друг друга, вдруг начинать разбираться кто был прав, а кто виноват, кто чего не сумел и почему все именно так получилось. Давай не будем, пожалуйста, ни в чем упрекать друг друга. Давай не будем ничего выяснять и не будем копаться в том, что действительно больно. Давай не будем уничтожать таким образом наше прошлое. Оно и так, вероятно, рассеется в самое ближайшее время. К сожалению, все это пройдет. Жизнь хороша именно тем, что в ней все проходит. И одновременно плоха тем, что в ней проходит действительно все. Все, все проходит. Ничего удержать нельзя. Я даже примерно представляю, как это произойдет. Года через три примерно мы с тобой случайно столкнемся где-то на улице, ты очень благожелательно спросишь у меня как дела, а я, в свою очередь, также благожелательно поинтересуюсь, что новенького у тебя. Что-нибудь незначительное такое друг другу расскажем, а потом ты легко чмокнешь меня в щеку и побежишь дальше. Так легко меня поцелуешь в щеку. Может быть, даже ты обернешься и помашешь рукой на прощание. Да, скорее всего, ты обернешься и помашешь рукой. И в тот самый момент, когда ты помашешь рукой, сдвинутся материки и произойдет бесшумная катастрофа. Исчезнет целый мир, о котором знали только два человека, ты и я: зима, когда мы с тобой спешили по Апраксину переулку, опять же – зима, и ты бежишь по перрону, опаздывая на московский поезд, двор на Васильевском острове, где мы впервые поцеловались, ночь, когда ты мне позвонила и вдруг сказала, что хорошо, пусть так все и будет. Весь этот мир сразу же перестанет существовать. Он развеется, как мираж, стечет сквозь пальцы. Его не будет уже никогда, никогда…
Слушай, давай возьмем еще кофе. У тебя время есть? Ну, пятнадцать минут – этого вполне достаточно. Девушка, пожалуйста, еще два кофе – один с сахаром, другой без сахара. Видишь, я заучил наконец-то, что ты кофе и чай пьешь без сахара. Вообще почему-то не ешь ничего сладкого. Странно для женщины, и приводит к разным забавным случаям. Помнишь, официант, это, кажется, где-то в кафе на Садовой, мы зашли, поставил мне рюмку водки и какой-то салатик. А тебе, соответственно, – кофе и блюдце с двумя пирожными. Мы тогда поменялись; точно-точно, это в кафе на Садовой! А они, за стойкой, секунд пять смотрели на нас, и вдруг – как прыснут… Кстати, может быть, взять тебе к кофе еще что-нибудь? Ради бога, не стесняйся, у меня сейчас есть деньги. Да, я получил, наконец, свою первую зарплату в лицее. Да, я перешел работать в лицей, мы с Фосгеном договорились об этом еще в июле. Окончательно; буду вести у него сразу три старших класса. Сумасшедшая, конечно, нагрузка, но и зарплата, разумеется, соответствующая. Не государственная богадельня, где я отскрипел почти десять лет. Да, я все понимаю, но я просто уже не могу видеть эту Кикимору. Вот сейчас начинается учебный год, и мне сразу же становится дурно только от одного ее голоса. Надо же, чтобы у человека был такой липкий голос. И поговорит-то она всего минут пять, а как будто весь мозг обрызгали кислотой. За что она меня так не любит? И потом, я просто не понимаю, что рассказывать на уроках. Я открываю учебник, изданный, скажем, ну, только-только, вот в этом году, и вдруг вижу, что не могу повторить всего этого в классе. Ну не могу. Я просто не верю там ни единому слову. Я не верю тому, что написано, как сказано в предисловии, «коллективом ученых». Потому что они, вероятно, и сами не верят тому, что пишут. Мертвая пустота, богослужение в отсутствие Бога. Обряд еще исполняется, но каждое слово уже издает запах тлена. Я и сам уже начинаю издавать запах тлена. Фосген, по крайней мере, не будет требовать, чтобы я во все это верил. Ему нужен специалист, вот я и стану исключительно специалистом: о чем этот роман, как выстроена его сюжетная линия, место данного произведения в классической русской литературе. Минимум обязательных знаний. Только то, что потребуется потом для поступления в институты. Деньги здесь, кстати, тоже – немаловажное обстоятельство. Я уже не могу жить так, будто питаюсь акридами и диким медом. Ты у нас где-нибудь видела в продаже акриды? Вспомни хотя бы кризис, когда мы выжили просто каким-то чудом. Ты ходила пешком, потому что на транспорт у тебя денег не было. А я каждое воскресенье мучился: как просуществовать следующую неделю? Кстати, долг Косте Загладину я не могу отдать до сих пор. Правда, Косте Загладину, я думаю, можно и не отдавать. Но ведь дело не в том, что можно тому или иному не отдавать, дело в том, что я действительно отдать не могу. Мне просто физически не собрать таких денег. А ведь Костя Загладин помог нам еще и с квартирой. Помнишь, на Забалканском проспекте, куда добраться, как ты сказала, можно только на лошади. Едешь, едешь туда, кажется, что всю жизнь только и едешь, а когда, наконец, доедешь, сил уже ни на что не хватает.
Да, я помню, разумеется, что надо идти. Пойдем, конечно, мы и так уже разговариваем почти полтора часа. Я боюсь, что, в конце концов, тебе надоем. Передозировка опасна. А я вовсе не хочу тебе надоесть. Самое неприятное в такой ситуации – быть назойливым. Извини, пожалуйста, можно я провожу тебя до «через садик». Это ты так сказала, помнишь, где-то в самом начале? Остановилась посередине улицы: «мне – сюда, а вам – через садик». Мы тогда с тобой еще были «на вы». Кстати, нам и следовало бы, наверное, остаться «на вы». Это могло бы придать отношениям некоторую такую… возвышенность. Ты же, наверное, понимаешь, что с нами случилось? Мы утратили ту возвышенность, с которой эти отношения начинались. Мы – уже слишком долго и уже слишком привыкли друг к другу. Это уже не любовь, это уже действительно какие-то «отношения». А ведь так, чтобы какие-то «отношения», нам совершенно не нужно. Вот, что, по-моему, с нами случилось… Ладно, ладно, не буду. Лучше давай, я вот так, осторожно возьму тебя под руку. Или, знаешь, лучше ты возьми меня под руку. Ну и что же, что дождь? Когда это мы с тобой боялись дождя? В Петербурге дождь – круглый год. Такой это город. И ничто, вероятно, так не идет Санкт-Петербургу, как дождь. Ну, я не считаю, конечно, знаменитых белых ночей. Между прочим, про наши белые ночи помнят, кажется, все. А вот кто, интересно, знает про наши черные зимние дни? Это когда уже в три часа надо включать электричество? Причем, это у меня, в новостройках: солнце в квартиру все же заглядывает. А у тебя – двор-колодец, наверное, вообще целый день – только при свете. Вот, откуда наша шизофрения, проросшая в великую литературу. Вовсе не от миражей и призраков белых ночей, а от черных дождей и худосочного, бледного электричества. Это электрический свет порождает городскую фантасмагорию. Электрический свет, темнота, дворы, переулки, парадные. Кстати, видишь, вот мы уже и пришли до «через садик». Надо прощаться. Дай я тебе чуть-чуть подмигну, как раньше. Раньше мы при прощании друг другу всегда подмигивали. Я тебе позвоню. Нет, я тебе все равно позвоню. Нет, я тебе все равно, все равно, подожди, машина, смотри, откуда-то вывернулась! У меня иногда сердце закатывает, как ты, не глядя, выскакиваешь. Никогда не посмотришь толком – едет кто-нибудь или не едет. Хорошо, давай сегодня без замечаний. Все, иди, я погляжу, как ты переходишь улицу. Нет, я все-таки погляжу, как ты переходишь улицу. Ну, все-все, иди, наконец, все-все, наконец, иди, до свидания…
Два сильных взрыва прогремели сегодня в центре Санкт-Петербурга. Ровно в девять утра бомба мощностью, предположительно, около пятисот граммов тротила взорвалась в кафе «Ласточка» на Вознесенском проспекте. Взрывом были выбиты стекла нескольких ближайших домов. К счастью, кафе в это время было еще закрыто, никто из посетителей или персонала не пострадал. А около одиннадцати часов утра некий человек, пока не установленной личности, держа в руках, по словам очевидцев, дымящийся сверток, вбежал в магазин «Романтик» на улице Пестеля, и, предупредив продавцов, что в свертке находится взрывное устройство, бросил его затем в секцию готовой одежды. К счастью, и при этом инциденте жертв тоже не было, хотя осколками разлетевшихся стекол был легко ранен управляющий магазином. Напоминаем, что на прошлой неделе был убит председатель правления акционерного общества «Салимон», Григорий Батруев. Его бронированный «мерседес», остановившийся на набережной Макарова, был обстрелян из гранатомета. Вместе с предпринимателем погиб один из его охранников. А еще за неделю до этого произошла трагическая перестрелка на Исаакиевской площади. У гостиницы «Астория», где селятся, как правило, прибывающие в наш город туристы, была выпущена автоматная очередь по припаркованному джипу «тойота». Стрелявшие, несмотря на интенсивный розыск, пока не найдены. По сведениям милиции, тогда были убиты три человека…
Как я тебя хочу, как хочу, я даже спать не могу. Иногда просыпаюсь, потому что сквозь сон вдруг чувствую твое быстрое прикосновение. У тебя какие-то удивительно чуткие пальцы. И когда ты прикасаешься ими ко мне, это для меня – как огонь. Правда, это – сладкий огонь. Огонь, который не жжет. Извини, я, разумеется, понимаю, что – запретная тема. Вон как ты дышишь, будто тебе не хватает воздуха. Мне, впрочем, тоже как-то не хватает его в последнее время. Особенно, если проснешься ночью, и вдруг – прикосновение пальцев. Я тогда уже долго не могу заснуть: час, два, три. Сижу на кухне, курю. За окном – чернота, громадный пустырь, огни новостроек. Пейзаж более чем унылый. А дальше, я знаю, – залив, и за его темной водой – Васильевский остров. Дом на Тринадцатой линии, неподалеку от садика. Парадная выходит во двор. Окна квартиры тоже – во двор. И ты спишь, даже ни о чем не подозревая. Я очень хорошо представляю себе эту картину. Я, к сожалению, вообще слишком хорошо тебя представляю. Смотрю вот сейчас в глаза, а представляю нечто совершенно иное. И снова – огонь, и снова в груди – больной жар вместо сердца.
Подожди, кажется, у меня кончаются сигареты. Нет, еще пачка есть. Я что-то стал слишком много курить последнее время. И, по-моему, стал слишком много пить кофе. Без кофе уже не могу: будто на всем какая-то серая пленка. А там, где кофе, там, разумеется, и сигареты. В результате, утром, как только встаю, выкуриваю одну за другой сразу две штуки, потом выхожу из дома и тоже сразу закуриваю, выныриваю затем из метро и до лицея, четыре минуты ходьбы, успеваю вытянуть еще сигарету. Раньше мне требовалось на это, по крайней мере, минут десять. А на уроке только и жду, когда, наконец, раздастся звонок. Сразу же бегу на площадку рядом с учительской. Полторы пачки в день – нечто совершенно немыслимое. Фосген уже разговаривал со мной на эту тему. Они там, в лицее, оказывается, культивируют совсем другой образ жизни. Процитировал мне Ювенала: «Менс сана ин корпоре сано», «в здоровом теле – здоровый дух». Видишь, даже латынь у них пошла в ход. Правда, в оригинале это звучит немного иначе. «Дай бог, чтобы в здоровом теле оказался еще и здоровый дух». Тут смысл принципиально иной. Фосген, по-моему, разозлился, когда я ему об этом сказал. Вообще-то, у них там какие-то свои заморочки. Костюм, оказывается, надо купить, не следует ходить в джинсах. Волосы у меня слишком длинные, раздражает родителей. Или я вот тут поставил подряд несколько двоек, тоже, оказывается, нельзя. Травмирует, оказывается, детские души. Там, между прочим, лбы есть, на полголовы меня выше. Марикина, например, такая. Я спрашиваю: Как заканчивается роман «Анна Каренина»? Ну, там после смерти, помнишь, еще заключительная восьмая часть: «Вся моя жизнь не только не бессмысленна, какою была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!»… Вот я и спрашиваю: Как заканчивается этот роман? Она секунд десять думает и отвечает: Бросилась под поезд. Я тогда коварно уточняю: А дальше? Она снова думает секунд десять и вдруг догадывается: Но не умерла!..
Впрочем, бог с ним, с Фосгеном. Тебе это, наверное, не интересно. Интересно? Ну, ты, наверное, просто боишься меня обидеть? Терпеливо слушаешь ту лабуду, которую я на тебя вываливаю, а сама только и ждешь момента, чтобы вежливо распрощаться. Подожди-подожди, только не возражай мне, пожалуйста. Не надо слов. Слова еще слишком сильно нас задевают. Мы с тобой не перешли еще в ту стадию отношений, когда все уже безразлично. Тебе не приходило в голову, например, что у нас – просто кризис? Любопытно, что и мне это тоже почему-то не приходило в голову. Нет-нет-нет, это действительно любопытно. Я ведь обычно неплохо чувствую, что может лучиться дальше. Не астролог, конечно, тем более не экстрасенс, просто какие-то, знаешь, такие неслышные колебания в воздухе. А вот здесь почему-то не сумел их почувствовать. Вероятно, закон, известный еще с очень давних времен. Прорицатель не может предсказывать собственную судьбу, врач не может лечить себя, а у педагогов, как правило, ужасные дети. К Ангелине моей это, правда, отношения не имеет. С Ангелиной, насколько можно судить, – тьфу-тьфу-тьфу! – пока все в порядке. Я надеюсь, что с ней и дальше – тьфу-тьфу-тьфу! – все будет в порядке. Но вот здесь я, конечно, допустил непростительную ошибку. Это именно кризис, который раньше или позже должен был разразиться. Ни одно динамическое явление не может существовать без кризиса. Ни семья, ни государство, ни общество, ни человек, ни природа. Кризис – это явление, как ни странно, вполне естественное. Если в мире что-то живет, оно обязательно пройдет через кризис. В этом смысле наша ситуация вовсе не уникальная. Мы споткнулись на том, на чем спотыкаются очень многие. Даже, по-видимому, большинство – вот что обидно. Мы с тобой просто не сумели переплыть через кризис: не хватило дыхания, воли, каких-то последних усилий. Могли бы, скорее всего, но почему-то вот не сумели. Задохнулись, не справились, оказались чуть-чуть слабее, чем следовало бы. Вот что, по-моему, с нами случилось. А теперь вялые бытовые течения растаскивают нас в разные стороны.
Я тебя понимаю, конечно. Я очень хорошо тебя понимаю. В том-то и дело, что я понимаю тебя гораздо лучше, наверное, чем ты думаешь. Меня уже тоже достали все эти бесконечные чужие квартиры. Возишь, возишь с собой полотенце, которое комом таким заполняет почти весь портфель. Прячешь в ящик стола, хорошо еще, что в мой стол никто не заглядывает. Договариваешься, договариваешься с твоей Алиной, а она вдруг ни с того ни с сего переносит встречу с субботы на воскресенье. А потом выясняется, что именно в воскресенье к ней приезжают какие-то родственники. В понедельник, естественно, не получается, день тяжелый. Вторник и среда – просто не удается состыковаться. Затем кое-как все-таки выруливаешь, например, на четверг, и тогда обнаруживается, что как раз в четверг, ты и не можешь. Вечная неуверенность, что встреча, наконец, состоится. Я из-за этого нервничаю и, как бы это сказать, несколько «прогораю». Становлюсь с тобой заметно слабее, чем мог бы. Ну, представь себе, скажем, спортсмена, ну, например, по прыжкам в высоту. Вот у него сегодня соревнования, и от него ждут результата. Вот он тренировался, собрал все силы, настроился исключительно на победу. Каждая клеточка в нем так и звенит уверенностью. А ему вдруг сообщают, что соревнования переносятся. Ничего, значит, страшного, прыгнешь завтра. А завтра говорят, что знаешь, парень, давай, пожалуй, еще немного отложим. А потом – еще и еще, и так – в течение многих месяцев. На сколько он, в конце концов, будет прыгать? На сто восемьдесят, вероятно, и это еще в лучшем случае. Результат неплохой, но он-то сам рассчитывал, по крайней мере, на два двадцать. Понимаешь, рассчитывал, и для него это – оглушительное поражение.
Вот тебе, пожалуйста, компания какая-то заявилась. Теперь будут галдеть. Давай переберемся отсюда в другое кафе. Ты этот район знаешь, есть тут поблизости где-нибудь другое кафе? Где? Через дорогу? Тогда тем более, и говорить не о чем. Минут двадцать у тебя, надеюсь, еще найдется? Вот опять дождь. А я опять не взял с собой зонтик. Ладно, если через дорогу, то ничего, не промокну. Боже мой, какая это у вас все-таки неприглядная линия: рытвина, снова рытвина, два забора, досочки какие-то через лужу. Года четыре, по-моему, уже в таком состоянии. Ну, по крайней мере, весной, мы тоже перебирались по каким-то досочкам. Где? Вот здесь? Слушай, мне здесь как-то, ну, в общем, не очень. Столики – на четверых, значит, непременно подсядут. Я же все-таки для тебя говорю, а не для всего города. И потом, извини, как-то тут это – пельменями пахнет. Представляешь, я тебе – о любви, а в это самое время – пельменями. Запахи, между прочим, на нас очень сказываются. Помнишь, что Наполеон писал Жозефине Богарнэ, возвращаясь в Париж: «Только пока не мойся, я хочу обязательно почувствовать твой запах»… Кстати, в прошлом году я был на одной конференции в Духовной академии. Знаешь, на Обводном канале? И тема, разумеется, была соответствующая. Что-то такое: «Духовность и просвещение в современной России». Пара митрополитов, профессора, естественно, генералы, председатели комитетов по образованию и по культуре. Слова, естественно, произносятся всякие: «автаркия», «дискурс», «симулякр», «национальная самоидентификация». Учителей человек семьдесят всего города. И вот все время откуда-то, из подвалов наверное, такой сырой запах щей. А потом, через час примерно, такой же сырой запах гречневой каши. Можно думать о Боге, когда пахнет щами? Наверное, можно, хотя я лично не в состоянии.
Слушай, давай просто свернем куда-нибудь и пойдем наугад. Что сейчас хорошо, кафе попадаются чуть ли не каждые сто метров. Не представляю, как это при советской власти молодежь обходилась. Вот сюда, например. Мне кажется, это такая вполне симпатичная линия. Я теперь вообще полюбил Васильевский остров. Так уж сложилось, не знаю, но раньше я в этих местах практически не бывал. У меня почему-то здесь никогда не было никаких дел. А теперь мы уже года три, по-моему, ходим по этим линиям. Самое, пожалуй, спокойное место в Санкт-Петербурге. А я, не помню, говорил или нет, почему-то всю жизнь – в районе Сенной. Так называемый «квартал Достоевского». Я там жил много лет как раз напротив Кокушкина моста. В детстве, конечно, не думаешь, но ведь именно здесь ходил когда-то и Родион Раскольников. Помнишь в романе: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов, и медленно, как бы нерешимости, отправился к Кокушкину мосту». Лестница, между прочим, у меня была точно такая же: с крутыми ступеньками, сумрачная, хотя дом, разумеется, сейчас уже перестроен. Вот почему, наверное, я – экстраверт. Ты, кстати, заметила, что персонажи у Достоевского – почти исключительно экстраверты. Они непрерывно всем всё насчет себя объясняют, выворачивают такие подробности, каких нормальный человек просто бы постеснялся. А ты, к сожалению, наоборот. У тебя всё, что ни есть, все в себе. От тебя иногда слова лишнего не добьешься. Говоришь, говоришь, стараешься, как помешанный, и – точно в вату. Это, наверное, твой Васильевский остров сказывается. Ты ведь, по-моему, и родилась тоже тут, на Васильевском? Да-да, я помню, родильный дом, кажется, на Четырнадцатой линии. Да-да, кажется, на Четырнадцатой. Видишь, сколько я о тебе всего знаю.
А вот, смотри, по-моему, и кафе. Нет, вон там, на другой стороне, где, видишь, два таких дерева. Какой изумительный, посмотри, дом с башенками! А ворота? Колдовство прямо какое-то исходит от этого места. Я бы непременно устроил здесь небольшое кафе. Ну что, рискнем? Извини, я вот так, немного к тебе притронулся. Мне все время хочется как-то к тебе притронуться. Еще в прошлом кафе я притронулся и вдруг почувствовал у тебя на спине застежки под платьем. Знаешь, у меня температура подскочила, по-моему, градусов до сорока. Наваждение, тот же обморок, ничего не могу с собой сделать. Ну и правильно, что запрещаешь, конечно, не надо. Разлетелся тут, понимаешь, притронуться ему, ничего, перебьется. Найди себе – вот и притрагивайся, сколько хочешь. А температура, кажется, у меня и в самом деле чуть-чуть поехала. То ли простудился вчера, то ли вообще такое сумеречное состояние. Кстати, недавно прочел в газете любопытное сообщение. Ученые, оказывается, установили, что неразделенная любовь – это очень опасно. Оказывается, аппетит от этого пропадает и начинается хроническая бессонница. А затем – прыщи по всему телу и даже волосы выпадают. Чувствуешь, что мне предстоит в ближайшем будущем? Кстати, можешь теперь проверить – правду я тебе говорю или придумываю. Если вдруг покроюсь прыщами и волосы начнут выпадут, значит, – все правда.
Только, я думаю, правда тебе вовсе не требуется. Слушай, а тут ведь, кажется, вполне приличное заведение. Вообще никого; мы с тобой, смотри, единственные посетители. Проходи, вон туда, я пока нам что-нибудь закажу. Только кофе? А может быть, все-таки еще что-нибудь? Ладно, ладно, тогда ограничимся только кофе. Нет-нет, деньги у меня сегодня как раз имеются. Проходи, я сказал, у меня сегодня есть деньги. Я тебя умоляю: у меня сегодня действительно есть деньги. Ради бога, я прошу тебя, проходи вон туда, к столику. Проходи, ради бога, и давай больше не будем спорить. Девушка, нам, пожалуйста, три кофе: два с сахаром и один без сахара…
Множество бед городскому хозяйству Санкт-Петербурга причинил вчерашний утренний шторм, внезапно налетевший на город. Сила ветра, по уточненным данным, достигала 18 – 20 метров в секунду, а в порывах доходила даже до 30– 35 метров . Шторм сопровождался сильнейшим дождем, который усугубил ситуацию. Всего за два с небольшим часа выпало более 70 миллиметров осадков. Это намного превышает месячную норму, характерную для нашего климата. По информации городского гидрометеоцентра, шторм и ливневые дожди были вызваны прохождением с севера чрезвычайно интенсивного атмосферного фронта. Наиболее мощное кучево-дождевое облако образовалось именно над Петербургом. По словам ведущего метеоролога, синоптики предсказывали появление этого шторма еще за несколько дней, о чем и было сделано соответствующее предупреждение городским властям. Однако они ошиблись в оценке силы этого катаклизма. Шторм созрел буквально за считанные часы и обрушился на город раньше, чем предполагалось. Не выдержали даже бетонные опоры энерголиний. В некоторых районах произошло спонтанное отключение электричества. Особенно пострадал Васильевский остров, где поваленными деревьями были раздавлены несколько автомобилей. Система ливневой канализации вышла из строя, и уже к восьми утра многие улицы превратились в настоящие реки. Жители ближайших домов не могли пройти к остановкам. Замер городской транспорт, и десятки тысяч людей либо опоздали, либо вообще не смогли попасть на работу. К счастью, жертв и значительных разрушений не было. Лишь в Приморском районе получила ушибы поскользнувшаяся на временных мостках женщина. Пострадавшая была немедленно доставлена в травматологический пункт. Ей была оказана первая помощь и дано направление в поликлинику. Примерный ущерб от разбушевавшейся уже не в первые стихии оценивается во многие миллионы рублей…
Извини, я хочу задать тебе один вопрос. Я, наверное, не имею права его задавать, но ответ в данном случае для меня очень важен. Только ответь, пожалуйста, искренне. Да, я знаю, я знаю, что ты всегда отвечаешь искренне. И, когда говоришь, что «мы эти ниточки обязательно свяжем», и, когда всего через две недели спокойно отворачиваешься и уходишь. Кстати, я тоже пытаюсь быть с тобой предельно искренним. Это, вероятно, ошибка, предельно искренни либо святые, либо безнадежные идиоты. Не случайно эти две категории естественно переходят друг в друга. А вопрос звучит так: скажи, пожалуйста, когда ты расставалась со мной, то ты просто ушла, ну, как бы это точнее выразиться, в никуда или, может быть, у тебя появился кто-то другой? Нет, не глупость, ответь, пожалуйста, я тебя очень прошу. Спасибо, спасибо, мне даже дышать стало легче. Почему ты считаешь?.. Нет-нет, ты в данном случае просто судишь как женщина. У мужчин все иначе, у них психология в этом смысле принципиально иная. Мне, например, все равно, кто там у тебя был раньше. Ну, почти все равно – хоть пятьдесят человек, хоть сто, хоть четыреста. Для меня это и в самом деле почти не имеет значения. Но вот если бы у тебя появился кто-то, скажем, сейчас…
Подожди, а что это мы – сели за столик, и ничего не взяли. Девушка, пожалуйста, три кофе: два с сахаром и один без сахара. Извини, я и в самом деле, наверное, неловко выразился. Извини, ради бога, я пока еще очень плохо соображаю. У меня действительно какое-то сумеречное состояние. Я не то, чтобы в обмороке до сих пор, я уже достаточно хорошо себя контролирую, разве что иногда прорывается нечто, не вполне адекватное, но пока я еще воспринимаю все несколько обостренно. Похож, наверное, на человека, у которого медленно выдирают из груди сердце: лопаются нервы, сосудики, связки внутри тоненькие какие-нибудь. Боль такая, что ничего даже не различаешь вокруг себя. Мне без тебя плохо, мне плохо без тебя, мне без тебя очень плохо. Мне без тебя плохо, как не было, вероятно, еще никогда в жизни. Мне так плохо, что хуже, по-видимому, уже и быть не может. Я ведь даже на уроке, знаешь, иногда замираю, и вдруг вижу, как ты бежишь по перрону, опаздывая на московский поезд. Я тогда, кстати, думал, что мы уже никуда не уедем. Или – внизу, на улице, ты машешь мне рукой на прощание. Это уже в Москве, снег, солнце, пустой гостиничный номер из двух смежных комнат. И я счастлив, счастлив, как тоже, наверное, еще никогда в жизни. Наверное, поэтому у меня такой долгий обморок. Я просто не могу без тебя жить, извини за это банальное выражение. Почему-то когда говоришь о любви, слова становятся какими-то пошлыми. В книгах они звучат, а в обыденном разговоре выглядят просто нелепо. Вдохновения, видимо, не хватает. Пошлость – это вдохновение бездарного человека. Наверное, я бездарен, вот и получается пошлость. Приходится, тем не менее, говорить. Других слов у меня просто нет.
Вот, в чем тут дело. Я сейчас повис над пропастью, уцепившись за такую тоненькую-тоненькую былинку. Стебелек у нее слабенький, корешки подрагивают и постепенно вылезают из почвы. Рано или поздно они оборвутся, и дальше – бездна. Насмерть я, быть может, и не разобьюсь, но вот покалечусь, скорее всего, серьезно. Хотя, кто его знает, может быть, даже и насмерть. Ведь нельзя заранее предугадать результаты падения. Я тут на днях мыл у себя окна в квартире, – скоро зима, холодно, надо бы уже запечатываться, – и вот когда, стоя на подоконнике, немного высунулся наружу, вдруг пришло в голову, что как это, в сущности, элементарно. Всего один шаг, и через три секунды меня не будет. Все-таки у нас достаточно высоко, внизу – асфальт. У меня как-то приятель вот также сдуру, ну перебрал, разумеется, ну взял и выбросился. Обиделся на что-то в компании, на что – теперь уже, конечно, не вспомнить, подошел, знаешь, к окну, ни слова не говоря, и – перевалился. Мы так и замерли. Минуту, наверное, никто не дышал. А потом смотрим – это девятый этаж; метра полтора вниз – крыша другого корпуса. Упал на битум, прилип, ворочается, как пьяная муха. Еле-еле потом его отодрали… Я только прошу: не принимай этого чересчур уж серьезно. У меня два таких якоря в жизни, что никакие такие шаги невозможны. Во-первых, родители; ты же представляешь, что с ними будет. Ну, а во-вторых, это, разумеется, Ангелина. У нее ведь, наверное, тоже будут какие-то свои трудности в жизни. Будут, будут, конечно, без этого не обойдется. И вот так – знать, что есть некий элементарный выход. Как отец, например. Не хочу быть для нее гидом смерти.
Прости, у меня сегодня какое-то муторное настроение. Бывают такие моменты, когда все кажется абсолютно бессмысленным. У меня сейчас, вероятно, именно такой период. Вот ты, кажется, рядом, только протяни руку, но ни коснуться тебя нельзя, ни почувствовать по-настоящему. А ведь так хочется – чтобы по-настоящему. Очень хочется убедиться, что ты действительно существуешь. Что ты – не просто бесплотный голос по телефону. И что ты – не ложная память, подсовывающая вымышленные подробности. Скорее уж все остальное вокруг вымышленное: этот город, дожди, лицей, мои нынешние лоботрясы. Вот мне все это теперь кажется ненастоящим. Как раз сегодня был у меня довольно-таки неприятный разговор с Фосгеном. Что-то мы с ним друг друга не слишком хорошо понимаем. Я ведь шел к нему как специалист и собирался быть исключительно специалистом. То есть, никаких там рассуждений о смысле жизни, никакого анализа, никаких сложных нравственных ситуаций. Вроде того, что «я не старуху убил, я себя убил». Чисто механическое затверживание дат, сюжетов, позиций, литературных оценок. И вот даже это, оказывается, никому не нужно. А что нужно? А нужно, чтобы оценки в журнале выглядели более-менее удовлетворительно. А знают они там хоть что-нибудь – это дело второе. Ведь не каждому же потом придется писать сочинение на экзаменах. В общем, какой-то неприятный был у нас разговор. Неприятный, бессмысленный, трудный, какой-то абсолютно тупой. То ли Фосген здорово переменился, то ли я сам стал совершенно другим.
Скорее всего, у меня смещены сейчас какие-то координаты. Вот я отвечаю Фосгену, а думаю только о том, что вечером мы с тобою увидимся. Из-за этого и разговор приобретает нереальный оттенок. Фосген кипятится, шипит, а все это – точно отзвуки потустороннего мира. И весь остальной день тоже становится призрачным. Я только и делаю, что считаю часы, оставшиеся до встречи. Вот четыре часа осталось, вот три, вот два часа, вот всего тридцать минут. Ну, и еще так минут на тридцать ты, разумеется, опоздаешь. Это уж точно. По опозданиям тебе вообще нет равных. Сорок четыре минуты я ждал тебя однажды на станции «Невский проспект». Достижение зафиксировано. Это когда мы с тобой собирались ехать в Москву. И час десять, минута в минуту, у Алины в квартире. Ты тогда, кажется, села в метро не на ту ветку. Рекорд для закрытых помещений. До сих пор так и не превзойден. У меня ощущение, что время ты игнорируешь принципиально. И, наверное, правильно; время – это самая тираническая из диктатур. Еще никому не удавалось освободиться от времени. Не случайно ведь и Конец света – это время, когда «времени уже не будет». Ты можешь представить себе время, когда «нет времени»? У меня, например, сейчас именно такое странное состояние. Когда нет сцепления с текущей реальностью. Высчитываю каждый час, а собственно время как бы отсутствует. А вместо него – дождь, сумерки, пустота, которая, видимо, уже ничем не заполнится.
Нам просто не хватило сил жить дальше. Заканчивается столетие, и это, наверное, каким-то образом сказывается на всем. Конец века, мистическая магия цифр. Одна эпоха уже завершилась, а другая так и не началась. Безвременье – пространство психоделических сновидений. Не отличить истинное от ложного, правду от вымысла, добро от зла. Все можно и одновременно ничего нельзя. Все перепробовано, все исчерпано, все выдохлось, как вино, которое забыли закупорить. Мы, скорее всего, просто устали от жизни. Мы устали, устали и не способны воспринимать уже ничего, кроме усталости. Вот почему нас поглотила эта трясина. Все, что мы пока еще чувствуем, – это боль, которую причиняем друг другу. Ее невозможно переносить, но только благодаря ей мы еще немного живые. Пока мы чувствуем эту боль – мы живые. И я поэтому вовсе не хочу от нее избавляться. Умом я понимаю, конечно, что лучше было бы поискать какие-нибудь спасительные варианты. Тем более что лекарство от этой боли известно уже давно. Вот только на прошлой неделе меня познакомили с одной симпатичной девушкой. Очень даже такая приятная и очень милая девушка. С таким вот, извини, этим, размером, что, кстати, тоже немаловажно. И, между прочим, недавно развелась с мужем, значит, – голодная. Мы с ней слегка поболтали, и я вдруг почувствовал, что здесь – можно. Всегда ведь внутренне чувствуешь, если здесь – можно. Я только с тобой почему-то не почувствовал этого с первого раза. Кстати, «можно» вовсе не означает, что обязательно что-то получится. «Можно» – это только еще приглашение, но не сам танец. В общем, найти лекарство, по-видимому, труда не составит. Только знаешь что? Я почему-то совсем не хочу выздоравливать. Не хочу, не хочу почему-то, чтобы эта боль прекратилась. Потому что действительно, чувствую боль – значит еще живой. «Мыслю – следовательно, существую». Больно – следовательно, пока живой. Пусть лучше больно тогда, чем вообще никак.
Тебе, кстати, тоже было бы лучше с кем-нибудь познакомиться. Слушай, тебе же нравился, если не ошибаюсь, тот же Костя Загладин? Нравился, нравился, не возражай, я эти вещи хорошо чувствую. Хочешь, я с ним поговорю? Ты, по-моему, тоже ему всегда нравилась. Почему? Да потому что я тебе этого уже никогда не прощу. Тогда ситуация между нами станет необратимой. Для меня очень важно, чтобы ситуация стала необратимой. Мы тогда, наконец, волей-неволей расстанемся. Ведь нельзя же, ведь так мы уже совершенно вымотали друг друга. Ведь действительно, сколько это, уже никаких сил не осталось… Вот только, я тебя умоляю, не надо, не надо, пожалуйста! Я не переношу, ты же знаешь. Я просто начинаю умирать, когда плачут. Когда плачут, мне и самому хочется плакать. Ну, пожалуйста! Смотри, на нас уже обращают внимание. Ладно, тогда вставай, и пойдем отсюда. Вот твой плащ. Осторожно, здесь просто зацепилось за ручку. Опять дождь. Стоит нам договориться о встрече, и сразу же – дождь. В Петербурге, по-моему, дождь вообще круглый год. Слушай, цветы продают. Давай, я тебе подарю какие-нибудь цветы. Я цветов почему-то тебе никогда не дарил. На Восьмое марта однажды, а ты пренебрежительно фыркнула, что терпеть не можешь мимозу. Бросила букет на сервант, как будто я тебя чем-то обидел. Эта та самая, твоя легкомысленная жестокость иногда прорывается.
Нет-нет, девушка, мы пока не берем, мы просто смотрим. А вот это что? Гляди, какая удивительная колючка! Тебе тоже нравится? Какие на ней смешные бархатные помпончики! Девушка, извините, а как это называется? Ну, берем? Нет, заворачивать нам, пожалуй, не надо. Все равно – дождь, любой полиэтилен размокнет. Осторожненько! Так! Какую странную штуку мы с тобой откопали! Эти бутончики, видишь, наверное, еще распустятся. Очень забавная. Надо, по-видимому, всегда покупать цветы под дождем. Кстати, и капает, по-моему, немного сильнее. Возьми меня под руку. Я не приказываю, я лишь прошу, так будет проще. Ну вот, чуть не влезли, видишь, в самую лужу. Ладно, ладно, возьми, потом как-нибудь разберемся. Слушай, а он и в самом деле усиливается. Н-да, не очень… даже не хочется выходить из-под этого козырька. Или, может быть, все-таки подождем немного? Хотя зарядило, мне кажется, так – часа на четыре. Нет, пережидать, видимо, не имеет смысла. Ладно, двинулись. Ну что, чей зонтик сегодня откроем, твой или мой?..
Представитель пресс-службы Управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области на сегодняшней встрече с журналистами местных и центральных московских газет опроверг сообщения некоторых средств массовой информации, в частности публикацию еженедельника «Слухи» под названием «Смерть имеет фиолетовый цвет», о появлении в Санкт-Петербурге неких загадочных, неизвестных науке существ, похожих на гигантских сколопендр доисторического периода, которые, появляясь то в одном, то в другом месте города, якобы нападают по ночам на одиноких прохожих. По словам представителя пресс-службы УВД Санкт-Петербурга, данные публикации не имеют под собой никакого фактического обоснования. Ни одно из сообщений, изложенных в еженедельнике, в результате проверки, проведенной работниками милиции, не подтвердилось. Трагедия в офисе фирмы «Галант» на улице Уточкина, где в конце прошлой неделе погибли несколько человек, представляет собой, к сожалению, результат уже ставших привычными для нашего города «криминальных разборок». Следствие по этому делу сейчас продолжается. Виновные будут выявлены и предстанут перед судом. Нет никаких причин, чтобы вносить в это достаточно заурядное происшествие какие-либо мистические мотивы.
Представитель отдела по информации и связям с общественностью Петербургского метрополитена, также присутствовавший на пресс-конференции, в свою очередь заявил, что распространяемые некоторыми газетами слухи о скрывающихся в недрах метро гигантских то ли пауках, то ли тараканах, якобы гонящихся за поездами и нападающих на пассажиров, являются чистым вымыслом и даже не нуждаются в опровержении. В погоне за тиражами и дешевой сенсацией, сказал он, некоторые издания просто нагнетают нездоровые страсти. Слухи о нынешних «сколопендрах», свирепствующих по ночам, такая же «утка», как и появлявшаяся прежде информация о крысах-мутантах, якобы заполонивших подземные переходы. Я уполномочен официально довести до сведения общественности, что все эти слухи и публикации, мягко говоря, не соответствуют действительности. Ни «сколопендр», ни каких-либо других чудовищ в туннелях Петербургского метрополитена не обнаружено. Коллектив и бригады обслуживания возмущены этими провокационными выступлениями. Заверяю вас, что все технические службы метро работают в обычном режиме…
Если бы ты позвонила ну хоть минут на пятнадцать раньше. А то – начало шестого, у нас в районе метро в это время уже закрыто. У нас по вечерам, с пяти до семи, на вход закрывается. Я, как сумасшедший, с двумя автобусными пересадками, помчался на соседнюю станцию. Глупость, конечно, «первый порыв души» – это, как правило, глупость. Однако помнишь, в июле, в прошлом году, мы с тобой поссорились на набережной Екатерининского канала. Это там, где он перегибается к Сенной площади. Не знаю уже из-за чего; как всегда, вероятно, из-за того, что ты опять перенесла встречу. И я, помнишь, сказал тебе, что ладно, тогда поеду домой. Я не собирался рвать навсегда, мне и мысли такой в голову не приходило. Я тогда просто очень обиделся, вспыхнул и побоялся наговорить чего-нибудь лишнего. Однако ты, вероятно, восприняла это совершенно иначе. Помнишь, что ты мне ответила? Ты мне ответила: А тогда я умру… И я вдруг понял, что ты и в самом деле умрешь. Вот мы сейчас разойдемся в разные стороны, и тебя больше не будет. Тебя больше не будет, и с этим уже ничего не поделаешь. Вот и на меня, по-моему, нахлынуло то же самое. Я вдруг почувствовал, что если не увижу тебя сейчас, то просто умру. Как сумасшедший, с этими двумя пересадками, помчался к метро. По эскалатору вниз – бегом, по эскалатору вверх – бегом. От метро до твоей конторы – тоже бегом. А вахтерша сказала, что ты ушла минут пятнадцать назад. Я, конечно, законченный идиот. Мне бы тут же схватить такси, и через десять минут я был бы уже на Среднем проспекте. Перехватил бы тебя по дорогу к дому. Но я почему-то решил, что ты пойдешь сегодня пешком. Погода хорошая, в солнечную погоду ты всегда ходишь пешком. Снова, как сумасшедший, – не разбирая, где тротуар, где улица. Весь бульвар, потом – площадь, мост этот гигантский на Васильевский остров. Так – до самой твоей Тринадцатой линии. Загадал, между прочим, что если удастся догнать, все будет в порядке. Ну и, разумеется, не догнал. Ты, наверное, торопилась и поехала на трамвае. Минут тридцать торчал еще на углу, рядом с киоском. Дальше за проспект не пошел, это для меня – запретная зона. Выкурил подряд три сигареты. Потом, что делать, побрел по Среднему к «Василеостровской».
Мы с тобой не виделись целых семнадцать дней. Раньше у нас никогда не было такого долгого перерыва. Там и было-то всего чуть больше недели. Я это знаю, я всегда считал дни, когда мы с тобой не виделись. Вот уже три дня прошло, вот пять дней, вот уже девять… Глупо опять-таки, но я, по-моему, вообще, веду себя глупо. Знаю, между прочим, что глупо, и ничего не могу с собой сделать. Я хочу тебя так, как, наверное, еще никогда ничего не хотел. Правда, я не уверен, что хоть когда-то хотел чего-то по-настоящему. Помнится, сначала я хотел стать великим писателем и исписывал сотни страниц, считая, что создаю бессмертное произведение. Где-то они, по-моему, до сих пор у меня валяются. Надо бы раскопать и выбросить, чтобы Ангелина, случайно не обнаружила. Главное, конечно, ничего этого не перечитывать. Потом, уже в институте, я хотел стать выдающимся педагогом. И, ты знаешь, наверное, какие-то педагогические способности у меня, наверно, имеется. Дети, во всяком случае, слушают меня с удовольствием. Я просто чувствую, что они в этот момент слегка просыпаются. Есть во мне, наверное, что-то, что делает их слегка живыми. И мне кажется, что я могу это «что-то» им немножечко передать. Не понятно, правда, куда это все потом исчезает. Ведь исчезает, потом исчезает, ничего от этого не остается… А затем я встретил тебя и понял, ради чего следует жить. Знаешь, у итальянцев есть такое удивительное выражение – «удар грома». Причем, оно вовсе не означает любовь с первого взгляда. Для любви с первого взгляда у них существует совсем другое интересное выражение. А «удар грома» – это именно «удар грома». Это то, после чего мир выглядит уже совершенно иначе. Свет по дороге в Дамаск, если, конечно, подобная аналогия здесь уместна. Вот, жить следует только ради такого «удара грома».
Слушай, мы, по-моему, идем с тобой не по той улице. Здесь должны быть два дерева, насколько я помню, ближе к Большому проспекту, затем – чугунные такие ворота и вход во дворик. Ты случайно тогда не запомнила номера линии? Вот и я тоже тогда, к сожалению, не запомнил. Что-то такое – Одиннадцатая, Двенадцатая, Четырнадцатая, Пятнадцатая. Только не Тринадцатая, конечно. Тринадцатую линию ты хорошо знаешь. В общем, это кафе мы с тобой потеряли. Ладно, найдем другое, вон, кажется, через дом, там что-то виднеется. Девушка, а у вас курят? Пожалуйста, нам три пепельницы и чашку кофе. То есть, я хотел сказать, разумеется, три кофе и пепельницу. Просто я вижу, что на столах у вас пепельницы не поставлены. Да, пожалуйста, девушка, один кофе без сахара!.. Ничего я ей брякнул вот так, насчет трех пепельниц? Это ладно, а вот на прошлой неделе мы с Костей тоже завернули в одно заведение. Костя хотел посоветоваться со мной насчет сына. Да, а сахар в том кафетерии подавали в таких, знаешь, бумажных пакетиках. И вот я такой пакетик беру, значит, с блюдечка, разрываю и высыпаю в пепельницу. Костя мне, разумеется, говорит: Ты что делаешь? Я беру следующий пакетик, также меланхолично его разрываю, и – опять в пепельницу. Только с третьего раза высыпал уже куда требуется.
По-моему, у меня опять было что-то вроде легкого обморока. Это, конечно, пройдет, пройдет, надо только подождать несколько месяцев. И тогда это забудется как бы само собой. Просто выяснилось, что я, оказывается, не могу жить в этом городе. Оказывается, мы с тобой здесь были практически всюду. Куда бы я ни пошел, оказывается, что мы с тобой здесь уже были. Я даже помню, как ты на меня смотрела в том или ином случае, что ты сказала и даже с какими именно интонациями. Удивительно, как все это отпечаталось в памяти. У Румянцевского садика, например, ты мне рассказывала, как чуть не утонула когда-то в детстве: нырнула, по-моему, неудачно, открыла глаза, а все вокруг – какое-то бледно-зеленое. Как выбираться отсюда? Где верх, где низ? Я испугался тогда – вот утонула бы, и мы бы уже никогда не встретились. Ты представляешь, мы бы уже никогда не встретились? А на Сенной ты мне однажды жаловалась на своего Ярослава. С чего это, кстати, все забываю спросить, у него имя такое? Что он у тебя какой-то угрюмый, неразговорчивый, нудноватый какой-то, упрямый. Если уж решит что-нибудь, ни за что не отступит. Я, между прочим, тогда впервые сообразил, что ты – тоже взрослая. Вид-то у тебя будто ты даже и не целовалась ни разу. А когда семнадцать этих проклятых дней назад я, как сумасшедший, пытался тебя догнать и мчался по Тринадцатой линии, неожиданно вспомнил, что именно здесь ты мне рассказывала, как расставалась со своим первым мужем. Это было у нас самое начало знакомства. Я тогда еще чувствовал себя не очень уверенно и пытался, осторожненько так, навешать тебе на уши всякой лапши: что я и талантливый, и книг много читал, и остроумный, и что происшествия со мной были всякие, серьезные и смешные. Обычная такая лапша, которую вешают на уши. Заодно, кстати, поинтересовался: а как ты рассталась со своим первым мужем? Я-то не имел в виду ничего такого; просто поддержать разговор, чтобы не возникло мучительного молчания. Нет ничего хуже такого – мучительного молчания. А ты на меня посмотрела, по-моему, снисходительно и спокойно так объяснила: Ну, я ему – выставила вещички… У меня тогда даже сердце ничуть не дрогнуло. Никаких опасений, тревоги, никаких даже самых слабых предчувствий. Выставила и выставила. Значит, так было надо. А теперь ты мне самому «выставила вещички»…
У меня действительно было что-то наподобие обморока. Даже сообразить не могу, как я просуществовал эти семнадцать дней. Однако если сижу вот перед тобой, значит как-то просуществовал. Прыщами не покрылся, как видишь, и волосы у меня тоже не выпали. Правда, перессорился за это время с кем только мог. На жену из-за какой-то ерунды накричал, потом неделю не разговаривали, Ангелину так отругал за что-то – она, бедная, разревелась. Потом тоже почти неделю не разговаривали. Даже с Фосгеном, знаешь, как-то нехорошо поругался. До этого просто спорили, а тут – слово за слово наговорили друг другу черт-те чего. Правда, Фосген тоже хорош: потребовал, чтобы я не поставил в четверти ни одной тройки. Меньше четверки у них, оказывается, нельзя ставить. Я ему объясняю, что – не годовая оценка, в конце концов, и тем более не аттестат. Тройка в четверти – это просто сигнал, что с данным предметом следует поработать. Завышать оценку – значит дезориентировать ученика. Ну поставлю ему «четверку», но знает-то он все равно на «три с минусом». Ему самому потом будет хуже. И вот знаешь, не объяснить Фосгену такие очевидные вещи. Уперся, извини, как баран, побагровел весь, глаза – сверкают. Если хоть одна тройка будет, значит, придется расстаться. И таким тоном, знаешь, прямо – начальник. Почти полтора часа с ним проспорили без всякого толка.
Ладно, с Фосгеном я, наверное, как-нибудь разберусь. Ты мне лучше скажи: мы что, больше встречаться уже совсем не будем? Это, конечно, правильно, это, по-моему, абсолютно правильно. Нельзя же так, чтобы сегодня сделать один небольшой разрез, завтра – другой, послезавтра чуть-чуть отодрать на груди лоскут кожи, затем мышцы раздвинуть, затем – медленные, постепенные пропилы на ребрах. И лишь через месяц, если не позже, откроется сердце. Больной умрет раньше, чем закончится операция. Это я понимаю. Я не очень понимаю другое. Почему ты заранее меня об этом не предупредила? Я же тебя просил: только скажи мне заранее. Только заранее предупреди, если сочтешь, что у нас все закончилось. Это где-то через полгода, по-моему, как мы с тобой познакомились. Шли тогда от «Горьковской», по проспекту, кажется, мимо «Ленфильма». Наверное, как всегда, искали кафе. Мы с тобой большую часть нашего времени ищем кафе. У нас с тобой прямо-таки какой-то кофейный роман. И вот этого я, извини, совершенно не понимаю. Жутковатого равнодушия, с которым ты от меня отвернулась. Потому что одно, когда тебя заранее предупреждают, и совсем другое, когда тебе втыкают иголку внезапно. Тут даже самый сдержанный человек может от неожиданности закричать. Это, пожалуй, единственное, чего я и в самом деле не понимаю. И, пожалуй, единственное, чего я, наверное, никогда не смогу простить. Нет, простить я, наверное, все же смогу, но вот забыть – уже никогда. Хотя трудно, конечно, сказать, в чем разница между этими двумя состояниями. Я, во всяком случае, не взялся бы ее растолковывать. «Простить» – это значит «простить», а «забыть» – это значит «забыть», и все. Так вот, простить я смогу, а забыть, по-видимому, – уже никогда. Этого жутковатого равнодушия, с которым ты отвернулась. И как бы я ни старался, я все равно теперь буду об этом помнить.
Вот, что меня сейчас непрерывно мучает. Извини, мне казалось, что я должен был тебе об этом сказать. Тоже своего рода заранее предупредить. Ты не обиделась? Да-да, конечно, уже давно пора ехать. Ангелина просила помочь ей с завтрашним сочинением. Представляешь, выбрала тему: «Как литература помогает мне жить»? Откуда они только такие темы берут? Хорошо бы я выглядел, если бы задал нечто подобное у себя в лицее. Могу представить, что бы они мне насочиняли. В общем, тоже желательно вернуться сегодня пораньше. А еще – на метро, с пересадкой, затем – целых четырнадцать остановок автобусом. Главное-то, конечно, не в этом. Я где-то читал, есть такое понятие: «место выработано». Вот у меня ощущение, что именно «место выработано». Мы живем в этой квартире, наверное, уже лет десять. Даже уже весь воздух в этом районе выдышан. Пустырь за окном, коробки, трубы какие-то валяются проржавевшие. Больше не могу этого видеть. Следует, вероятно, каждые пять-семь лет переезжать на новое место. Другой пейзаж, небо, другая энергетика существования. Если где-нибудь заработаю денег, обязательно перееду. Ну что, двинулись? А, можно я, как всегда, провожу тебя до «через садик»? Вот, опять дождь. Стоит нам встретиться, и непременно – дождь. Ну, что делать, пойдем, по обыкновению, под дождем. Давай, кстати, лучше сразу же перейдем на ту сторону. Это чтобы потом у меня сердце не прыгало. Ты сегодня зонтик взяла? Смешно. Значит, поскольку дождь, то подумала и решила не брать? Нет-нет, это и в самом деле смешно. Понимаешь, ты извини только, я тоже почему-то не взял…
К неутешительным выводам пришла ежегодная конференция климатологов, состоявшаяся в эти дни в нашем городе. Согласно большинству сделанных на конференции сообщений, глобальное потепление климата, начавшееся несколько десятилетий назад, по-прежнему продолжается. Причины его очевидны: это техногенная деятельность цивилизации, выделяющей с каждым годом все больше тепла в окружающую среду. Ученые полагают, что наблюдаемый ныне «парниковый эффект» уже в ближайшее время поставит перед человечеством многочисленные проблемы. В частности, повышение средней температуры Земли всего на 1.5 – 2 градуса приведет к заметному таянию арктических и антарктических льдов, вечной мерзлоты на Аляске, в Канаде и на севере Кольского полуострова. Это в свою очередь вызовет повышение уровня Мирового океана, грозящее затоплением территорий, на которых проживают сейчас более 300 миллионов людей. Для Санкт-Петербурга, стоящего в прибрежной зоне, эта проблема наиболее актуальна. Разрушительные и внезапные наводнения прошлых лет покажутся, вероятно, мелкими неприятностями по сравнению с тем, что нам предстоит испытать. Уже подсчитано, что если средний уровень подъема воды в Мировом океане превысит хотя бы 10– 15 сантиметров против имеющегося сейчас, то центральная часть города окажется затопленной практически полностью. Санкт-Петербург как промышленный мегаполис перестанет существовать. Некоторые признаки надвигающейся катастрофы уже заметны. Например, необычные по продолжительности дожди нынешней осени, связанные, по-видимому, именно с глобальным потеплением климата на планете, уже вызвали серьезные неполадки в коммунальном хозяйстве. Затоплены некоторые городские коллекторы, фундаменты многих домов находятся из-за вечной сырости в угрожающем состоянии, просочившаяся вода вызвала замыкания ряда районных подстанций. В дальнейшем же эти многочисленные трудности будут только усиливаться…
Как хорошо, что мы с тобой встретились. А я выскочил из автобуса, колебался еще – через сад пройти к площади или все же по тротуару. Пошел почему-то по тротуару, хотя через сад, разумеется, ближе, и вдруг вижу, даже не верится, как ты несешься навстречу. Опять, наверное, опаздываешь куда-нибудь минут так на тридцать. Сколько я тебя знаю, ты все время куда-нибудь да опаздываешь. Кстати, я звонил тебе за последнее время, наверное, раз десять, но мне каждый раз отвечали, что тебя нет дома. Ни в одиннадцать вечера тебя нет, ни в половине двенадцатого, ни даже в двенадцать. И по выходным дням, в субботу и воскресенье, тебя тоже нет. Ты, наверное, специально сказала, чтоб мне так отвечали. Сказала? Да? Значит, я правильно понял. Выходит, ты все же решила «слить» меня окончательно. Наверное, подумала и решила, что так будет лучше. Значит, приговор уже вынесен, отмене или пересмотру не подлежит.
Ты только не думай, что я хочу тебя в чем-либо переубедить. Ты – свободная белая женщина и можешь, разумеется, поступать, как сочтешь нужным. У меня и мысли не было переубеждать тебя в чем-либо. Просто я почему-то надеялся, что все это будет несколько легче. Я почему-то надеялся, что это будет несколько легче. Однако уже третий месяц заканчивается, а почему-то легче мне не становится. Я, как и раньше, живу, точно в обмороке, по ночам иногда просыпаюсь и вижу пустой лунный блеск, лишенный надежды. Прежде ни за что не поверил бы, что счастье может причинять такую невозможную боль. Те три года счастья, которые у нас с тобой все-таки были. Они были, были, их уже не вычеркнуть ни из твоей жизни, ни тем более из моей. Их уже не забыть, не сделать вид, что эти три года для нас ничего не значат. Они все равно, еще долго, будут доноситься до нас из прошлого. Они будут еще звучать в нас мучительным эхом, вероятно, многие годы. Укрыться от этого будет некуда. Ведь я и в самом деле был тогда счастлив. Я был счастлив в Москве, когда бродил один по солнечному пустынному номеру, я был счастлив в Апраксином переулке – это, помнишь, мы опаздывали с тобой на какую-то выставку, я был счастлив, когда мы ссорились на набережной Екатерининского канала, и когда под дождем, искали потом кафе, чтобы укрыться. Уж не говорю, как я был счастлив в квартире твоей Алины: ты опаздывала, разумеется, а я лежал на диване и пытался что-то читать. Любопытно: не понимал ни единой строчки. Ни единой строчки не понимал и все равно был счастлив. В квартире Алины я просто задыхался от счастья. И я счастлив даже сейчас, хотя в это и трудно поверить. Это было чудо, которое случается, вероятно, далеко не каждую жизнь. А теперь это чудо закончилось, и вместе с ним закончилось то, что называется жизнью. Началось нечто, по-моему, совершенно иное. Жизнь после жизни; существование, лишенное силы. Если ты помнишь, у римлян, кажется, было такое понятие – «гений места»: божество озера или рощи, которое эту местность одухотворяет; маленькое такое божество, почти не имеющее могущества, и вместе с тем без него это место становилось как бы лишенным жизни. Вот и у меня был, оказывается, такой «гений места», свое маленькое божество, которое озаряло окрестности. А теперь этого «гения» нет, и местность сразу же опустела. Солнце уже не греет, трава – серая, воздух – без кислорода, дышать им нельзя. Жизнь действительно превратилась в существование.
И все-таки хорошо, что я тебя встретил сегодня. Бывают иногда в жизни такие удивительные случайности. Мы ведь могли, наверное, больше уже никогда не увидеться. Петербург – город маленький, разумеется, всю его центральную часть можно пройти – так, без лишней спешки – минут за сорок. Однако это все-таки город, особенно если брать новостройки, мегаполис, где утром и вечером происходит нечто вроде человеческого наводнения. Миллионы людей, как призраки, не замечают друг друга. Тут можно расстаться на полчаса и в самом деле – больше уже никогда не встретиться. Прожить всю жизнь и даже случайно не увидеть нужного человека. Никогда не столкнуться с приятелем, который от тебя в трех минутах ходьбы. Законам большого города не свойственно снисхождение. Лет пятнадцать назад – я, кажется, тебе рассказывал, – я развелся, причем довольно решительно, со своей первой женой. Неважно, по каким причинам мы разошлись, но с тех пор, можешь себе представить, я ее уже ни разу не видел. Представляешь, целых пятнадцать лет – нигде, ни разу, хотя бы мельком. Даже в транспорте, даже в метро никогда с ней не сталкивались. Кстати, кто-то мне недавно сказал, что она теперь тоже живет на Васильевском. Ну, живет и живет. Вот тебе, пожалуйста, и «маленький город».
Дай я хотя бы прикоснусь к тебе на прощание. Да, я знаю, что ты не любишь, когда выставляют на обозрение то, что принадлежит только двоим. Я сам этого не люблю. Более того, я этого терпеть не могу. У меня был когда-то один хороший приятель, еще с института, встречались время от времени в разных компаниях, человек, с моей точки зрения, очень даже приличный, и вот недавно я случайно услышал, как он разговаривает со своей новой знакомой. Недавно развелся и теперь собирается на ней жениться. Звонил, что задерживается и будет дома несколько позже. Какие слова, боже мой, он говорил ей при этом! «Целую, мое солнышко ненаглядное, в правый глазик… Нет, лучше в левый, он ближе к твоему родному сердечку»… Мне, честное слово, просто хотелось провалиться сквозь землю. Да если бы я сказал тебе нечто такое, ты бы меня просто бросила. И это при всех, человек пять-шесть гостей – сидят, слушают. С тех пор, неудобно конечно, но уже не могу его видеть. Человек он хороший, хороший, но я уже не могу с ним больше. Сразу же вспоминаю про этот несчастный «глазик». Однако, во-первых, здесь, посмотри, никого поблизости нет, а во-вторых, извини, я не собираюсь говорить тебе ничего подобного. Я только прикоснусь пальцем, чуть-чуть, как будто снимаю соринку. И не вздрагивай, ради бога, на нас никто не обращает внимания. Никому, пойми, никому нет до нас дела. Сейчас вообще никому ни до кого нет дела. Вот так, не вздрагивай, уже все, ради бога! Какие у тебя, оказывается, холодные щеки. Как у лягушки. Нет-нет, пожалуй, это даже не шутка. Просто действительно холодно, летние ощущения давно выветрились. Зима в этом году будет у нас, наверное, очень тяжелая: слякотная, наверное, без просветов, темная, муторная, неприятная. Не зима, вероятно, а что-то вроде репетиции смерти.
Кстати, по-моему, она уже начинается. Это уже не дождь, это, по-моему, уже дождь со снегом. Чувствуешь – льдистое что-то такое течет, тающее, слегка творожистое. Пройдем вот сюда, по крайней мере не так будет капать. Я же говорю: капает, у тебя левое плечо совсем мокрое. Ты так наклонила зонтик слегка сюда, вот и капает. Лучше, конечно, найти какое-нибудь кафе, чтобы немного обсохнуть. Вообще – посидеть в тепле, успокоиться, выпить чего-нибудь согревающего. Только, извини, на кафе у меня сегодня нет денег. То есть, на две чашки кофе, если обычного, наверное, хватит. Да, к сожалению, мне все-таки пришлось уйти из лицея. Я таки поставил в четверти пару троек. Ты бы видела физиономию Фосгена, когда он об этом услышал. Я прямо перепугался, думал, что с ним будет удар. Ну и вот, в тот же день написал, значит, заявление по собственному желанию. Снова там же, и интересно, что мое прежнее место оказалось незанятым. Мымра на него, оказывается, так никого и не подыскала. Знаешь, она, по-моему, даже обрадовалась, что я вернулся. Разумеется, а иначе кого она будет тогда шпынять целыми днями. Ей же надо давать кому-то ценные указания. В общем, зря уходил. Эти рыночные отношения, по-видимому, не для меня. А зарплата, ну, как и раньше, возьму себе парочку лоботрясов. Ничего-ничего, одного на субботу назначить, другого, соответственно, на воскресенье. Ничего-ничего, раньше-то мне этого вполне хватало. Так что и теперь, я думаю, тоже все будет в порядке.
Ну что, поищем кафе, а то, боюсь, ты тут совсем простудишься? Да, ты, конечно, права. Наверное, это уже не имеет смысла. Если уж расставаться, то, разумеется, расставаться сразу же. Я и сам это знаю, но ведь не всегда получается так, как задумаешь. Решаешь одно, а поступаешь почему-то совершенно иначе. Вот я случайно встретил тебя и вдруг, знаешь, обрадовался. Я уже, честное слово, не ожидал, что могу так обрадоваться. Нет-нет-нет, я, разумеется, не собираюсь тебя задерживать. Встретил, и то – вспоминать буду теперь, наверное, целый месяц. Мне ведь тоже нужно бежать, я, к сожалению, тоже уже опаздываю. Вот как раз собираюсь глянуть сейчас на такого одного лоботряса. Неудобно, знаешь, опаздывать при первом же посещении. Вообще – ни минуты; дома у нас теперь небольшое сотрясение почвы. Да уж такое; затеяли, понимаешь, ремонт на свою голову. Дело, разумеется, нужное, квартира с момента, как въехали, в порядок не приводилась. Даже весь потолок в каких-то таких желтых проплешинах. Просто стыдно становится, если вдруг кто-то случайно заглядывает. Гости к нам – редко, а вот соседи, или к Ангелине подруги иногда заходят. Так что я теперь каждый вечер – шпаклюю, заравниваю поверхности, крашу, снова заравниваю. Затем снова крашу, потом что-то такое подклеиваю. Удивительно, как эта незамысловатая работа затягивает. Жизнь все-таки продолжается, несмотря ни на что. Если, конечно, то, что у меня продолжается, и есть жизнь. Если именно жизнь. Я как-то в этом не очень уверен.
Извини, я, наверное, слишком много болтаю. Не могу расстаться с тобой. Нет сил порвать эту последнюю ниточку. Да-да, я все понимаю, у меня тоже нет времени. Тем не менее, не могу: ниточка эта, по-моему, идет прямо к сердцу. Подожди ну хотя бы еще секунд десять. Что такое десять секунд, если мы, скорее всего, уже никогда не увидимся. Просто почти неуловимое мгновение вечности. Извини, пожалуйста, но у меня вот тут такая дурацкая просьба. Ты не могла бы пожелать мне чего-нибудь на прощание? Только искренне, пожалуйста, искренне, того, что ты мне и в самом деле желаешь. Мне почему-то кажется, что тогда оно так и будет. Спасибо, спасибо, я тоже желаю тебе именно счастья. Честное слово. И тоже – абсолютно искренне. Именно счастья. Пусть оно у тебя все-таки будет. Будь хоть немного счастлива, и я, наверное, тоже буду тогда хоть немного, но счастлив. Я, наверное, тоже буду тогда хоть немного, но счастлив. Тоже счастлив тогда. Пусть именно так и будет. Посмотри еще раз и, дай я тебе опять подмигну. Тебе же нравилось раньше, когда я подмигивал на прощание. Вот. И ты на прощание – тоже, вот-вот, как раньше. Вот-вот-вот, у тебя это удивительно смешно получается. А теперь – все, иди, не останавливайся, пожалуйста, не оглядывайся. Не надо только оглядываться. Нет ничего печальнее, чем оглядываться. Не оглядывайся, иди, иначе мы уже ни за что не расстанемся. Иди-иди, я знаю, что ты меня больше не слышишь. Ты уже далеко, ты переходишь на ту сторону Екатерининского канала. Такой небольшой, на цепях, узкий, горбатый мостик. Ты не слышишь меня, совсем не слышишь и не услышишь, наверное, уже никогда. Тебе, наверное, и не надо больше слышать меня. Не надо оглядываться, останавливаться, не надо махать рукой на прощание. Не надо ничего этого делать. Ты только иди через мостик, пожалуйста, иди через этот мостик. Я тебя еще вижу, я вижу, я вижу тебя еще немного. Совсем немного, немного, но вижу, как ты спускаешься по ступенькам на набережную. Я тебя еще вижу, я вижу, я вижу, как ты уходишь все дальше и дальше. Я еще чуть-чуть вижу тебя, и пусть это будет длиться вечно…