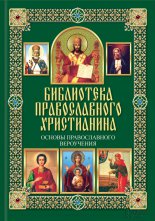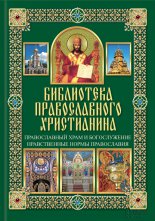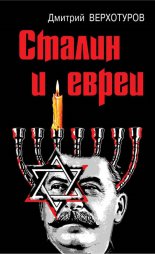Женщины в любви Лоуренс Дэвид

Сознание, что кто-то осмеливается ей противоречить даже в такой мелочи, подняло бурю в ее крови. Прогулка по парку была предназначена для всех без исключения.
– Потому что мне не нравится маршировать в толпе, – ответил Руперт.
На какое-то мгновенье слова застряли у нее в горле. Но затем она с каким-то удивительным спокойствием парировала:
– Ну, если малыш раскапризничался, оставим его здесь.
Она получала истинное удовольствие, оскорбляя его. Но он от этих слов только еще больше замкнулся в себе.
Она направилась к остальным и повернулась только чтобы помахать ему платком и со странным смешком протянула:
– Пока-пока, малыш.
«Иди-иди, наглая стерва», – сказал он про себя.
Гости шли по парку. Гермиона хотела показать гостям дикие нарциссы на склоне холма.
– Сюда, сюда, – временами раздавался ее протяжный голос. И им приходилось к ней подходить. Нарциссы были очень красивыми, но разве они кого-нибудь интересовали? К этому времени Урсулу уже тошнило от отвращения, тошнило от самой атмосферы этого места. Гудрун иронично и беспристрастно наблюдала за всем происходящим, подмечая даже самые незначительные детали.
Они подошли посмотреть на пугливого оленя. И Гермиона заговорила с ним так, словно он тоже был маленьким мальчиком, которого ей хотелось обнять и приласкать. Он же был самцом, и поэтому она просто обязана была распространить на него свою власть. К дому они возвращались мимо прудов, и по дороге Гермиона рассказала им о ссоре между двумя лебедями, которые сражались за любовь одной лебедушки. Она со смехом и издевкой описывала, как проигравший соперник сидел на каменистом берегу и прятал голову под крыло.
Когда они вернулись к дому, Гермиона остановилась на лужайке и высоким голосом, проникающим во все уголки усадьбы, протянула:
– Руперт! Руперт! – она произносила первый слог протяжно и четко, а второй почти проглатывала. – Ру-у-у-уперт!
Но ответа не последовало. Зато появилась служанка.
– Алиса, а где мистер Биркин? – тихо и слабо поинтересовалась Гермиона. Но какое же настойчивое, почти безумное желание скрывалось под этим бесстрастным голосом!
– Мне кажется, он в своей комнате, мадам.
– В комнате?
Гермиона медленно поднялась по ступенькам, прошла по коридору, вытягивая своим тихим высоким голосом:
– Ру-у-у-уперт! Ру-у-у-уперт!
Она подошла к двери и побарабанила по ней пальцами, продолжая звать:
– Ру-у-у-уперт!
– Что? – наконец раздался его голос.
– Чем ты там занимаешься?
Вопрос прозвучал мягко и пытливо.
Ответа не последовало. Потом он все же открыл дверь.
– Мы вернулись, – сказала Гермиона. – Нарциссы просто очаровательны.
– Да, – произнес он. – Я их уже видел.
Она бросила на него из-под ресниц внимательный, пристальный, бесстрастный взгляд.
– Видел? – эхом повторила она. И застыла на месте, не сводя с него глаз. Ее необычайно возбуждала эта война между ними, когда он вел себя, словно беспомощный капризный мальчишка, а она укрывала его от всех невзгод здесь, в Бредолби. Однако в глубине души она понимала, что разрыв между ними неизбежен и поэтому она инстинктивно ненавидела его.
– Чем ты тут занимался? – переспросила она мягким, безразличным тоном. Он не ответил, поэтому она, почти не осознавая, что делает, прошла в его комнату.
Он снял со стены ее будуара китайский рисунок, на котором были изображены гуси, и с удивительным умением и живостью копировал его.
– А, копируешь рисунок, – сказала она, подходя к столу и рассматривая его работу. – Да. Как замечательно у тебя получается! Тебе очень нравится этот рисунок?
– Он просто великолепен, – ответил он.
– Да? Я рада, что тебе нравится, потому что мне он тоже был всегда по душе. Мне подарил его китайский посол.
– Я знаю, – сказал он.
– Но зачем ты его копируешь? – спросила она небрежно, растягивая слова. – Почему бы не нарисовать что-нибудь свое?
– Я хочу понять этот рисунок, – ответил он. – Если скопировать этот рисунок, то можно узнать о Китае больше, чем если прочтешь множество книг.
– И что же тебе удалось понять?
В тот же момент все ее чувства обострились, она, казалось, запустила в него свои огромные щупальца, чтобы высосать из него все его секреты. Она должна была овладеть его знаниями. Ее терзало страшное, гнетущее желание, почти мания – узнать все, что узнал он.
Несколько мгновений он молчал, потому что ему ужасно не хотелось ей отвечать. Затем, подчиняясь ее настойчивости, он начал:
– Я знаю, где сосредоточена жизненная сила китайцев, как они чувствуют и воспринимают реальность, что гусь – это горячее, пронзающее воду средоточие в потоке холодной воды и грязи, я знаю, как гусиная кровь жгучим, жалящим теплом проникает в кровь китайцев подобно разрушительному огню, я знаю, как обжигает холод этой грязи, я знаю, в чем кроется загадка лотоса.
Гермиона искоса посмотрела на него. Щеки ее были мертвенно-бледны, глаза странно и опьяненно взирали из-под тяжелых, почти смыкающихся век, а плоская грудь конвульсивно вздымалась.
Он взглянул на нее с дьявольским и непреклонным выражением в глазах, и ее вновь охватило странное раздражение. Она отвернулась, словно ей стало плохо, и вновь ощутила, что разрыв неизбежен. Ее разум не смог понять его слова, Биркин захватил ее врасплох, сметя все ее защитные механизмы, и уничтожил ее, словно он владел какой-то коварной, магической силой.
– Да, – повторяла она, не понимая, что говорит. – Да.
Она сглотнула и попыталась взять себя в руки. Но это ей не удалось, она была неспособна понять его слова, ее воля была парализована. И хотя она призвала на помощь все свои силы, ей никак не удавалось оправиться от нанесенного им удара. Разбитая и уничтоженная, она ощущала всю боль и весь ужас своей гибели. А он все смотрел на нее, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Она мертвенно побледнела – казалось, кто-то выпил из ее жил всю кровь, и теперь она походила на привидение или на человека, которого мучают разъедающие душу призраки смерти. Она распрощалась с жизнью, словно мертвец, у которого разорвались все связи с божественной силой и внешним миром. Он же был все так же неумолим, все так же желал отомстить ей.
Когда Гермиона спустилась к ужину, в ней появилось что-то необычное, потусторонее; ее глаза смотрели тяжело, они были чернее тучи и в них читалась какая-то непонятная сила. Она надела платье из жесткой парчи светло-болотного цвета, которое плотно облегало ее тело и делало ее выше, страшнее, бледнее. Яркий свет, заливавший гостиную, обнажал деспотизм и мрачность ее натуры, но сейчас, в полумраке столовой, она чопорно сидела во главе стола, на котором догорали свечи, и казалась сильной, могущественной. Она слушала собеседников, принимала участие в разговоре, но мыслями была где-то далеко.
Веселая компания выглядела экстравагантно – все, за исключением Биркина и Джошуа Маттесона, облачились в вечерние наряды. На маленькой итальянской графине было платье из дорогого бархата с широкими оранжевыми, золотыми и черными полосками. На Гудрун – изумрудно-зеленое платье, отделанное причудливым кружевом, на Урсуле – желтое, украшенное вуалью цвета потускневшего серебра, мисс Бредли была в серо-алом платье с отделкой из блестящей ткани. У фрейлейн Мерц было голубое платье. При виде этих глубоких цветов, освещенных множеством свеч, Гермиону внезапно пронзило острое удовольствие.
Она видела, что беседа продолжается и не скоро закончится, и что голос Джошуа заглушал все остальные; что никогда не закончится перезвон женского смеха и обмен фразами; что ее окружают яркие цвета, белый стол, а сверху и снизу ложатся тени; и ей казалось, что она впадает в желанный экстаз, содрогаясь от наслаждения и одновременно страдая, что она как будто вернулась с того света. Она почти не участвовала в разговоре, но, однако, не упустила ни одного слова, ни одного звука.
Компания просто и без всяких церемоний перешла в гостиную, словно это была одна семья. Фрейлейн передавала чашки с кофе, все курили сигареты или длинные трубки из белого фарфора, которых оказалось очень много.
– Закурите? Сигарету или трубку? – кокетливо спрашивала фрейлейн.
Гости сидели кружком: сэр Джошуа с лицом человека из восемнадцатого века; Джеральд, веселый, статный молодой англичанин; Александр, высокий и привлекательный политик, раскованный и яркий; Гермиона, загадочная, как Кассандра, только повыше ростом; и остальные женщины в ярких нарядах. Все прилежно курили длинные белые трубки, сидя полукругом в уютной, полной теней гостиной перед отделанным мрамором камином, в котором потрескивали поленья.
Разговор то и дело переходил на политику и общественные проблемы, он был интересным и необычайно свободным. Мощный заряд энергии наполнял эту комнату, мощный и разрушительный. Казалось, все идеи низвергались в плавильный котел, а они, как подумалось Урсуле, были ведьмами, которые заставляли варево кипеть. Атмосфера была пронизана воодушевлением и удовольствием, однако новичкам было трудно выдержать такую силу мысли и мощную, захватывающую, разрушительную игру умов, которой Джошуа, Гермиона и Биркин забавлялись, а остальные должны были подчиняться.
Но тоска, странное гнетущее чувство охватило Гермиону. Неприметно, но не без использования своей вездесущей воли, она подвела разговор к своему завершению.
– Солси, сыграй нам что-нибудь, пожалуйста, – попросила Гермиона, окончательно ставя точку. – Может, кто-нибудь потанцует? Гудрун, вы же не откажетесь танцевать? Мне бы очень этого хотелось. Anche tu, Palestra, ballerai? – si, per piacere[13]. И вы тоже, Урсула.
Гермиона поднялась с места и медленно потянула расшитый золотом шнур, который висел над каминной полкой, на мгновение прильнула к нему, а затем внезапно выпустила из рук. Она выглядела, как погрузившаяся в свои мысли, впавшая в глубокое забытье жрица.
Была призвана служанка, которая вскоре вернулась с охапкой шелковых одеяний, шалей и шарфов, по большей части привезенных с Востока, которые за много лет скопились у Гермионы, большой любительницы красиво и экстравагантно одеваться.
– Это будет танец трех женщин, – решила она.
– И что же они будут исполнять? – спросил Александр, резко поднимаясь с места.
– Vergini Delle Rocchette[14], – тут же отозвалась графиня.
– Но они же такие скучные, – запротестовала Урсула.
– Три ведьмы из «Макбета», – предложила фрейлейн интересную мысль.
В конце концов было решено представить сцену с Наоми, Руфью и Орпой[15].
Урсуле досталась роль Наоми, Гудрун – Руфи, а графине – Орпы. Было решено представить небольшой танцевальный номер в стиле балетных номеров Павловой и Нижинского.
Первой была готова графиня. Александр сел за рояль, мебель отодвинули в сторону. Орпа, в прекрасных восточных одеждах, в медленном танце рассказывала о смерти мужа. Затем появилась Руфь, и они вместе рыдали и плакали, а затем вошла Наоми, неся им утешение. Во время представления не было не произнесено ни слова, женщины выражали свои эмоции жестами и движениями. Маленькое представление длилось около четверти часа.
Урсула была прекрасна в облике Наоми. Все мужчины в ее семье погибли, ей оставалось только одиноко стоять, бурно переживать случившееся и ни о чем не просить.
Руфь, предпочитавшая мужчинам женщин, любила ее. Орпа, живая, чувственная, утонченная вдова, должна будет вернуться к прежней жизни и повторить все сначала. Изображаемые в пантомиме чувства были неподдельными и пугающими. Было странно видеть, как Гудрун с сильной, отчаянной страстью льнула к Урсуле, улыбаясь ей легкой коварной улыбкой; как Урсула молча принимала эту страсть, поскольку больше не могла позаботиться ни о себе, ни о других, но в ней еще бушевали опасные и неукротимые чувства, заглушающие ее боль.
Гермионе нравилось наблюдать. Она смотрела на порывистую верткую чувственность графини, беспредельное, но вероломное влечение Гудрун к женскому началу сестры, опасную беспомощность Урсулы, которую, казалось, снедала какая-то тяжесть, которую она никак не могла с себя сбросить.
– Это было прекрасно! – в один голос вскричали зрители.
Но в душе Гермиона испытывала страшные муки, так как она сознавала, что происходящее было неподвластно ее разуму. Она громко предложила исполнить еще один номер, и по ее воле графиня и Биркин насмешливо станцевали на мотив песенки «Мальбрук в поход собрался»[16].
Джеральд был взволнован, видя, как отчаянно Гудрун льнет к Наоми. Истинная сущность свойственного только женщинам безрассудства, скрытого до поры до времени, и насмешки взбудоражили его кровь. Он не мог забыть, как Гудрун обращала к небу лицо, как она предлагала себя, льнула, какая отчаянность и в то же время ирония пронизывала ее тело. А Биркин, выглядывавший из своего угла, словно рак-отшельник из своей раковины, видел только чудесно сыгранные Урсулой нерешительность и беспомощность. Природа щедро одарила ее опасной силой. Она походила на причудливый, самозабвенный бутон, который, раскрывшись, дал бы выход обладающему огромной мощью женскому началу. Сам того не осознавая, он тянулся к ней. Его будущее было в ее руках.
Александр заиграл какую-то венгерскую пьесу, и все закружились в танце, поддавшись царившему настроению. Джеральд испытывал огромную радость, получив возможность размять ноги и приблизиться к Гудрун, и хотя его ноги еще не отвыкли от вальсов и тустепа, он чувствовал, как по ним, по всему телу разливается освобождающая его сила. Он еще не знал, как следует танцевать этот судорожный, похожий на регтайм, танец, но он понял, как следует начинать. Биркин танцевал стремительно и с неподдельным весельем – ведь ему наконец-то удалось избавиться от угнетающего давления неприятных ему людей.
И как же Гермиона ненавидела его за эту безрассудную веселость!
– Теперь я вижу, – восхищенно воскликнула графиня, наблюдая за его искренне-веселыми движениями, которыми он решил ни с кем не делиться, – мистер Биркин-то изменник.
Гермиона медленно перевела на нее взгляд и содрогнулась, понимая, что увидеть и сказать такое мог только человек другой культуры.
– Cosa vuol dire, Palestra?[17] – нараспев спросила она.
– Смотри, – сказала графиня по-итальянски. – Он не человек, он хамелеон, настоящий мастер меняться.
«Он не человек, он полон коварства, он не такой, как мы», – проносилось в сознании Гермионы.
А ее душа корчилась в муках, желая полностью отдаться ему, потому что у него была сила, с помощью которой он всякий раз ускользал от нее, которая позволяла ему существовать, не соприкасаясь с ней, потому что он не знал, что такое постоянство, потому что он не был мужчиной, он был недомужчиной. Она отчаянно ненавидела его, это отчаяние разбивало ей сердце и сминало ее, она остро чувствовала, как начинает разлагаться изнутри, подобно трупу, и это ужасающее, вызывающее дурноту чувство разложения ее внутреннего мира, ее тела и души, было в данный момент единственным.
Поскольку дом был полон гостей, Джеральда поместили в маленькую комнату, сообщавшуюся с комнатой Биркина и в обычные дни служившую гардеробной. Когда гости разобрали свечи и пошли наверх, где приглушенно горели лампы, Гермиона перехватила Урсулу и отвела ее в свою спальню поболтать. Оказавшись в этой странной, большой комнате, Урсула почувствовала, как ее сковали какие-то невидимые оковы. Казалось, что Гермиона, величественная и полная смутных намерений, давит на нее, умоляет ее. Они рассматривали привезенные из Индии шелковые блузки, заключавшие в себе, в своей форме роскошь и чувственность, почти порочное великолепие. Вдруг Гермиона подошла совсем близко, ее грудь судорожно всколыхнулась, и от страха Урсула чуть не потеряла сознание. Как только запавшие глаза Гермионы узрели страх на лице другой женщины, ее вновь охватило чувство, будто она летит с обрыва в пропасть. Урсула вцепилась в сшитую для четырнадцатилетней индийской княжны блузку из алого и голубого шелка и машинально восклицала:
– Мне кажется, она прекрасна – кто только осмелился соединить эти яркие цвета…
В комнату неслышно вошла служанка Гермионы, и Урсула, охваченная сильным влечением, в панике ускользнула.
Биркин сразу же лег в постель. Он чувствовал себя счастливым и хотел спать. А счастливым он себя почувствовал, когда начал танцевать. Но Джеральду непременно нужно было поговорить с ним, поэтому он, не раздеваясь, уселся на кровать Биркина, как только тот лег, и завел разговор.
– Кто такие эти сестры Брангвен? – спросил Джеральд.
– Они живут в Бельдовере.
– В Бельдовере! И чем же они занимаются?
– Преподают в школе.
Молчание.
– Преподают! – через некоторое время воскликнул Джеральд. – Вот почему мне казалось, что я их уже где-то видел.
– Ты разочарован? – спросил Биркин.
– Разочарован? Нет – но как они оказались в гостях у Гермионы?
– Она познакомилась с Гудрун в Лондоне – это та, которая помоложе, с более темными волосами; она художница, занимается скульптурой и лепкой.
– Так она не преподает в школе – только другая?
– Они обе преподают – Гудрун учит рисованию, а Урсула исполняет обязанности классной дамы.
– А чем занимается их отец?
– Он преподает основы ремесла.
– Вот это да!
– Рушатся, рушатся классовые барьеры!
Джеральду всегда, когда в голосе друга появлялась насмешка, становилось не по себе.
– Да, их отец преподает в школе основы ремесла. Мне-то что до этого?
Биркин рассмеялся. Джеральд посмотрел в его лицо, выражающее насмешку, язвительность и равнодушие, и не смог уйти.
– Я не думаю, что тебе повезет часто встречать Гудрун в обществе. Она птичка беспокойная, через пару недель она сорвется с места.
– И куда же она полетит?
– В Лондон, Париж, Рим – только одному Богу известно. Я всегда жду, что она устремится в Дамаск или Сан-Франциско; это райская птичка. Бог знает, что она забыла в Бельдовере. Наверное, этот убогий городишко предвещает ей, что ее ждет что-то грандиозное, подобно тому, как дурной сон порой предвещает удачу.
Джеральд немного поразмыслил.
– Откуда тебе так много про нее известно? – спросил он.
– Мы встречались в Лондоне, – ответил приятель, – в кружке Алджернона Стренджа. Она знает о Киске, Либидникове, об остальном – хотя лично она с ними не знакома. Она никогда не была одной из них – она более консервативна. По-моему, мы знакомы уже около двух лет.
– И она зарабатывает деньги не только как преподавательница? – поинтересовался Джеральд.
– Иногда, довольно редко. Ее модели хорошо продаются. Вокруг ее имени была шумиха.
– И за сколько?
– От одной до десяти гиней.
– Они недурны? Что они из себя представляют?
– Мне кажется, что некоторые просто восхитительно как хороши. Те две трясогузки, что у Гермионы в будуаре – ты их видел – ее работа, она вырезала их из дерева и раскрасила.
– А я думал, это опять туземная резьба.
– Нет, это ее. Вот такие они и есть – животные и птицы, иногда странные человечки в повседневной одежде; так интересно, когда они выходят из-под инструмента. Они очень забавные, и одновременно непонятные и тонкие.
– Возможно, когда-нибудь она станет известной художницей, – предположил Джеральд.
– Возможно. Но я не думаю. Она забросит искусство, если что-нибудь другое захватит ее. Ее противоречивая натура не позволяет принимать все это всерьез – она никогда не увлекается на полном серьезе, она чувствует, что не должна до конца отдавать себя какому-то делу. И она не отдает – в любой момент она готова дать задний ход. Вот чего я терпеть не могу в таких, как она. Кстати, как у вас все устроилось с Киской после того, как я ушел? Я ничего не знаю.
– Да отвратительно. Халлидей начал выступать, и я едва не дал ему тумака – мы устроили самую настоящую драку, теперь таких не бывает.
Биркин молчал.
– Понятно, – сказал он. – Джулиус в некотором смысле безумец. С одной стороны, он ужасно религиозен, а с другой, его завораживают всякие непристойности. В один момент он целомудренный прислужник, омывающий ноги Иисуса, а в другой уже рисует на него неприличные карикатуры; действие, противодействие – а между ними нет ничего. Он и правда ненормальный. С одной стороны, ему нужна девственная лилия, девушка с личиком младенца, а с другой стороны, он во что бы то ни стало должен обладать Киской, осквернять себя ее телом.
– Вот чего я не пойму, – сказал Джеральд. – Любит он ее, эту Киску, или нет?
– И любит, и не любит. Она шлюха, в его глазах она самая настоящая развратная шлюха. И его страстно тянет с головой окунуться в грязь, которую она олицетворяет. А затем он выныривает с именем девственной лилии, девушки с личиком младенца на устах и наслаждается самим собой. Старая история – действие и противодействие, а между ними ничего.
– Я не думаю, – после паузы ответил Джеральд, – что Киску это очень уж оскорбляет. Я с удивлением обнаружил, что она и правда невероятно развратная.
– Но мне показалось, что она тебе понравилась! – воскликнул Биркин. – Я всегда испытывал к ней теплые чувства. Но лично у меня с ней никогда ничего не было, честное слово.
– Пару дней она мне и правда нравилась, – сказал Джеральд. – Но уже через неделю меня бы от нее выворачивало. Кожа этих женщин пахнет так, что в конце концов ты чувствуешь крайнее омерзение, даже если раньше тебе и нравилось.
– Я знаю, – ответил Биркин. Затем, с некоторым раздражением добавил: – Отправляйся в постель, Джеральд. Бог знает, сколько сейчас времени.
Джеральд взглянул на часы и вскоре поднялся с постели и направился в свою комнату. Через несколько минут он возвратился, уже в ночной рубашке.
– Еще кое-что, – сказал он, вновь усаживаясь на кровать. – Мы бурно расстались, и у меня не было времени заплатить ей.
– Ты про деньги? – спросил Биркин. – Она вытянет все, что ей нужно, из Халлидея или из одного из своих дружков.
– Но тогда, – сказал Джеральд, – мне бы хотелось отдать то, что я ей должен, и закрыть этот счет.
– Ей до этого нет никакого дела.
– Да, скорее всего. Но я чувствую, что надо мной висит долг, а хочется, чтобы его не было.
– Правда? – спросил Биркин. Он смотрел на белые ноги Джеральда, сидящего на краю кровати в своей рубашке. Это были белокожие, полные, мускулистые ноги, красивые, с четкими очертаниями. И в то же время они пробуждали в Руперте жалость и нежность, которые возникают при виде ножек ребенка.
– Я бы все же выплатил долг, – сказал Джеральд, рассеянно повторяя свои слова.
– Это не имеет совершенно никакого значения, – сказал Биркин.
– Ты всегда говоришь, что это не имеет значения, – несколько озадаченно сказал Джеральд, с нежностью смотря на лежащего собеседника.
– Не имеет, – повторил Биркин.
– Но она вела себя вполне прилично, правда…
– Отдай кесарю кесарево, – сказал, отворачиваясь, Биркин. Ему показалось, что Джеральд говорит только ради того, чтобы говорить. – Иди отсюда, я устал – уже слишком поздно, – сказал он.
– Хотелось бы, чтобы ты сказал мне что-нибудь, что имеет значение, – сказал Джеральд, не отводя взгляда от лица другого мужчины и чего-то ожидая. Но Биркин отвернулся в сторону.
– Ну хорошо, засыпай, – сказал Джеральд, любовно положив руку на плечо Биркина, и ушел.
Утром, когда Джеральд проснулся и услышал шаги Биркина, он крикнул ему:
– Я все равно считаю, что я должен был заплатить Киске десять фунтов.
– Бог ты мой, – ответил Биркин, – не будь таким педантичным. Закрой счет в своей душе, если пожелаешь. По-моему, именно там ты не можешь его закрыть.
– Как же ты это понял?
– Я тебя неплохо знаю.
Джеральд задумался на несколько секунд.
– Мне кажется, что самый правильный метод обращения с Кисками – платить им.
– А правильный метод обращения с любовницами – содержать их. А правильный метод обращения с женами – жить с ними под одной крышей. Integer vitae scelerisque purus…[18] – ответил Биркин.
– Не надо говорить гадости, – сказал Джеральд.
– Мне скучно. Не интересуют меня твои грешки.
– А мне плевать, интересуют или нет – меня-то они интересуют.
Наступившее утро вновь оказалось солнечным. Приходила служанка, принесла воду для умывания и раздвинула занавеси. Биркин приподнялся на кровати и с ленивым удовольствием смотрел из окна на парк, зеленый и пустынный, романтический, увлекающий в прошлое. Он размышлял о том, каким прекрасным, каким однозначным, каким законченным и сформировавшимся было все, созданное в минувшие эпохи, в чудесные прошедшие времена, – этот золотистый дом, дышащий покоем, этот парк, несколько веков назад погрузившийся в дрему. А затем ему подумалось, насколько же коварна и обманчива эта застывшая красота: ведь Бредолби был самой настоящей жуткой каменной тюрьмой, и из этой мирной обители нестерпимо хотелось вырваться на свободу! Но уж лучше запереть себя здесь, чем участвовать в омерзительной борьбе за выживание, которую люди ведут в наше время.
Если бы только было возможно создавать будущее по велению своего сердца – потому что сердцу постоянно требуется хотя бы немного незапятнанной истины, оно постоянно, но решительно просит, чтобы в жизни появились самые простые человеческие истины.
– По-моему, ты не оставил мне ничего, чем можно было бы интересоваться, – раздался голос Джеральда из маленькой комнаты. – Нельзя ни Кисок, ни шахт, ничего нельзя.
– Да интересуйся, чем хочешь, Джеральд. Только мне это не интересно, – сказал Биркин.
– И что же мне теперь делать? – продолжал голос Джеральда.
– Делай, что хочешь. А что делать мне?
В тишине Биркин чувствовал, как в голове Джеральда одна за другой проносятся мысли.
– Черт подери, я не знаю, – послышался добродушный ответ.
– Понимаешь ли, – сказал Биркин, – часть тебя хочет Киску, и ничего кроме Киски, часть тебя требует шахту, работу, работу и ничего кроме работы, вот ты и мечешься.
– Есть еще одна часть, и она тоже чего-то хочет, – произнес Джеральд непривычно тихим, искренним голосом.
– Чего? – удивленно спросил Биркин.
– Я надеялся, что это ты мне скажешь, – ответил Джеральд.
Повисла пауза.
– Я не могу тебе сказать – я не знаю, куда нужно идти мне самому, что уж говорить про тебя. Ты должен жениться, – проговорил Руперт.
– На ком – на Киске? – спросил Джеральд.
– Возможно, – ответил Биркин. Он встал и подошел к окну.
– Вот каков твой рецепт, – сказал Джеральд. – Но ты даже не испытал это на себе, а у тебя уже выработалось к этому отвращение.
– Правда, – согласился Биркин. – И все же я найду свой путь.
– С помощью брака?
– Да, – упрямо ответил Биркин.
– И нет, – добавил Джеральд. – Нет, нет, нет, мальчик мой.
Они замолчали, и в комнате возникла странная напряженная атмосфера.
Они всегда держались друг от друга на некотором расстоянии, соблюдали дистанцию, они не хотели быть связанными друг с другом. Однако их всегда непонятным образом тянуло друг к другу.
– Salvator femininus[19], – саркастически заметил Джеральд.
– А почему бы и нет? – спросил Биркин.
– Нет смысла, – сказал Джеральд, – вряд ли это сработает. А на ком бы ты женился?
– На женщине, – ответил Биркин.
– Прекрасно, – похвалил Джеральд.
Биркин и Джеральд спустились к завтраку самыми последними. Гермиона требовала, чтобы все вставали рано. В противном случае ее мучило ощущение, что у нее отнимают часть дня, ей чудилось, что она не успевает насладиться жизнью. Казалось, она хватала время за горло и высасывала из него жизнь. Она была бледной и бесплотной, точно привидение, как будто она осталась там, в призрачном утреннем свете. Но ее власть никуда не исчезла, ее воля все так же подчиняла себе все вокруг. Когда двое молодых мужчин появились в комнате, в воздухе отчетливо стало ощущаться напряжение.
Гермиона посмотрела на них снизу вверх и радостно пропела:
– Доброе утро! Вы хорошо поспали? Я очень рада.
Она отвернулась и больше не обращала на них внимания. Биркин, который очень хорошо ее знал, понял, что она решила не принимать его в расчет.
– Берите с буфета все, что захочется, – сказал Александр с легкой укоризной в голосе. – Надеюсь, ничего еще не остыло. О нет! Руперт, выключи, пожалуйста, подогрев на том блюде. Спасибо.
К некоторым вещам Гермиона относилась без особого энтузиазма, и тогда уже Александр проявлял свою власть. Само собой разумеется, свои интонации от перенял от нее. Биркин сел и оглядел стол. За много лет близких отношений с Гермионой эта комната, этот дом и царящая в нем атмосфера стали знакомыми до боли, и сейчас они не вызывали иных чувств, кроме отвращения. У него не могло быть ничего общего с этим местом. Как хорошо он знал Гермиону, которая чопорно сидела, погрузившись в молчание, с задумчивым выражением на лице, и в то же время ни на секунду не теряя своей властности, своего могущества! Он знал, что в ней ничего не менялось, что она точно застыла, и это выводило его из себя. Ему трудно было поверить, что он все еще в своем уме, что перед ним не статуя из зала царей какой-нибудь египетской гробницы, где сидели великолепные мертвецы, память о которых жива и поныне. Как досконально он знал Джошуа Маттесона, который постоянно говорил и говорил резким и в то же время жеманным голосом, мысли которого постоянно сменяли одна другую, который всегда вызывал интерес у других и никогда не говорил ничего нового – его слова были заранее известными, какими бы новыми и мудрыми они ни казались; Александра, принявшего на себя роль хозяина, такого хладнокровно-бесцеремонного; весело щебечущую и вставляющую в нужный момент словечко фрейлейн; уделяющую всем внимание маленькую итальянскую графиню, которая вела свою игру и бесстрастно, точно выслеживающая добычу ласка, наблюдала за всем происходящим, получала от этого одной ей понятное удовольствие, не выдавая себя ни единым словом; затем – мисс Бредли, высокую и подобострастную, с которой Гермиона обращалась холодно, насмешливо и презрительно, из-за чего и все остальные относились к ней пренебрежительно. Как предсказуемо было все это, точно шахматная партия с заранее расставленными фигурами, теми же фигурами – королевой, ферзями, пешками, – что и сотни лет назад, которые движутся согласно одной из множества комбинаций, как раз и задающих направленность игры. Однако ее исход известен заранее, она не обрывается, словно страшный сон, и в ней нет ничего нового.
Вот Джеральд, с приятным удивлением на лице; игра доставляет ему удовольствие. Вот Гудрун, наблюдающая за происходящим огромными недвижными, настороженными глазами; игра завораживает ее и в то же время вызывает у нее отвращение. Вот Урсула, на лице которой озадаченность, точно ей причинили боль, и она еще не осознала ее.
Внезапно Биркин поднялся с места и вышел.
– Довольно, – непроизвольно вырвалось у него.
Гермиона поняла смысл его движения, хотя и не разумом. Она подняла затуманенные глаза и наблюдала за его внезапным бегством – как будто непонятно откуда взявшиеся волны унесли его прочь, а затем разбились об нее. Однако ее неукротимая воля заставила ее остаться на месте и машинально время от времени задумчиво вставлять свои мысли в общий разговор. Но она оказалась во мраке, она ощущала себя ушедшим на дно кораблем. Для нее все было кончено, она потерпела крушение и погрузилась во тьму. А между тем никогда не дающий сбоев механизм ее воли продолжал работать, этого у нее было не отнять.
– А не искупаться ли нам в столь чудесное утро? – взглянув на гостей, внезапно предложила она.
– Отлично, – сказал Джошуа, – сегодня великолепное утро.
– Да, сегодня чудесно, – отозвалась фрейлейн.
– Да, давайте купаться, – согласилась итальянка.
– У нас нет купальных костюмов, – усмехнулся Джеральд.
– Возьми мой, – предложил ему Александр. – Мне нужно идти в церковь и читать проповеди. Меня ждут.
– Вы верующий? – с внезапно проснувшимся интересом спросила итальянская графиня.
– Нет, – ответил Александр. – Вовсе нет. Но я верю, что древние институты следует поддерживать.
– В них столько красоты, – изящно ввернула фрейлейн.
– Действительно, – воскликнула мисс Бредли.
Гости высыпали на лужайку. Стояло солнечное, теплое летнее утро, и сейчас, когда лето только начиналось, земля жила тихой, похожей на воспоминание жизнью. Где-то в отдалении слышался перезвон церковных колоколов, на небе не было ни облачка, лебеди на озере походили на брошенные в воду белые лилии, павлины важно и надменно прохаживались по траве, то укрываясь в тени, то выходя на солнце. Хотелось с головой окунуться в эту безупречность, свойственную только миру, которого более не существовало.