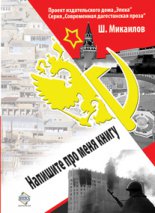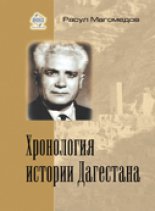Пробуждение Улитки Куберский Игорь
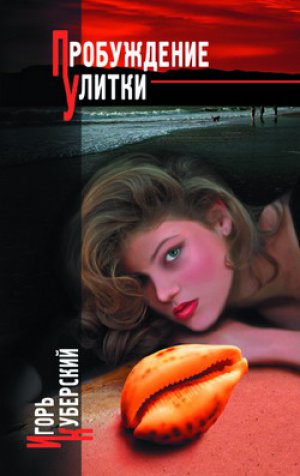
Читать бесплатно другие книги:
Неоязыческое движение является оригинальным явлением нашего времени. К нему обращаются образованные ...
В этой книге вы найдете как традиционные, так и оригинальные рецепты домашних колбас из мяса, птицы ...
Настоящая книга знакомит читателя со сказками лучших мастеров слова многоязычного Дагестана. Каждая ...
В этой книге вымышленные герои живут рядом с историческими персонажами конца прошлого века: Горбачев...
В книге известного дагестанского ученого Расула Магомедовича Магомедова в хронологическом порядке пр...