Призрачный мир. Сборник фантастики Дивов Олег
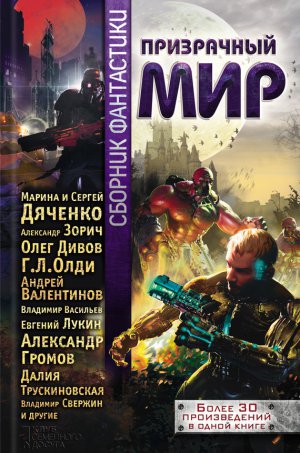
— Да успокойся, Эфан, — заговорили со всех сторон. — Что ты завелся-то, в самом деле? Ну какой-то дурак повесил какую-то ленту…
— Не какую-то, а ленту Империи! — надрывался Эфан. — И не дурак, а подлец! Подлец в наших рядах! А это хуже врага! Пусть он выйдет! Пусть эта трусливая собака признается! Мы сразимся один на один! Давай! Выходи!
Ряды расступились, и вперед пробился здоровенный парень в лихо скошенной зеленой треуголке. Он на ходу закатывал рукава комбинезона, обнажая могучие руки.
— Ну я это сделал! — рявкнул он.
Томаш знал, что это сделал не он.
Эфан поднял раструб бластера, и лицо его исказилось.
— Ты сделал?! — зловеще повторил он. — Ты, Дельвиг?
— Брось пушку и ответь как мужчина, — пробасил верзила. — Ты хотел сразиться, Эфан? Или ты трус?
Но Эфан не спешил расставаться с бластером.
— Так это сделал ты… — Он прищурился, а затем вовсе прикрыл один глаз, поднимая бластер. — Так получи же, поганая собака…
Неизвестно, чем бы это закончилось, но дверь распахнулась и на пороге в сопровождении парней в тигровых повязках появилась высокопоставленная персона. На вид этому человеку казалось не больше сорока лет, был он одет в мундир имперского ко-адмирала, слегка напоминавший расшитый золотом халат, а один глаз его закрывала повязка тигровой расцветки.
— Отставить дебош! — холодно произнес он. — Всем сесть. Сюда идет его превосходительство адмирал Эрнесто Марианус.
— Да здравствует его превосходительство адмирал Эрнесто Марианус! — разом отчеканили сотни глоток.
Настала тишина, ко-адмирал кратко махнул ладонью, приветствуя, и словно по команду вытянулись тигровые повязки.
— Славься его сиятельство ко-адмирал Санчес Диего Хуан Мигель Фернандес! — заорали они. — Слава! Слава! Слава! Вечная слава! Слава! Слава! Вечная слава!
Их было меньше, но орали они дольше. Ко-адмирал гордо прошел по залу и сел у дальней стены — там, где столики стояли на небольшом возвышении. Тут же все тигровые повязки перебрались к нему. Их действительно оказалось почти впятеро меньше, но выглядели они гордецами. Зеленые треуголки смотрели на них очень неодобрительно. Даже не на них — а чуть выше. Томаш пошевелился, чуть отполз и снова приник к щели, скосив глаза, — теперь ему целиком стал виден дальний конец зала и стена. На этой стене красовался огромный летящий тигр, растопыривший лапы в прыжке. Томаш мог поклясться, что еще утром его здесь не было.
В этот момент в сопровождении свиты появился властный седой старик в мундире адмирала и небольшой короне с изумрудом.
— Да здравствует его превосходительство адмирал Эрнесто Марианус! — разом отчеканили глотки.
— Здравствуйте, орлы! — гаркнул старик с неожиданной для своего возраста силой. — Да здравствует победа!
Он поднял руку, улыбнулся тонкими губами, оглядывая ряды зеленых треуголок, но вдруг заметил летящего во всю стену тигра и ряды тигровых повязок на возвышении. И улыбка сползла с его лица. Слегка растерянным казался и его адъютант — он держал в руке ящик с микрофоном и не знал теперь, куда его поставить. Вроде бы надо на возвышение, а оно занято.
Наконец Эрнесто Марианус решительно проследовал к тигровой стене и сел рядом с ко-адмиралом среди полосатых повязок. Адьютант установил микрофон, и Эрнесто Марианус начал:
— Бойцы! Орлы! Мы одержали большую победу! Гадолиниевый рудник отныне принадлежит Империи! Наши потери составили ноль! Наши враги обезоружены и заперты в ангаре! В страхе и мольбах они ожидают завтрашнего дня, когда мы явим им либо милость Империи, либо силу Империи!
— Убить!!! — заорали со всех сторон.
— Преступник Грабовски скован и заперт в моей каюте под охраной моих гвардейцев.
— Убить!!! — заорали со всех сторон. — Убить!!!
Адмирал улыбнулся краем рта и снова поднял ладонь.
— Мы празднуем нашу победу! — повторил он. — Слухи о нашей доблести летят так далеко, что теперь любой враг Империи предпочитает сдаться нам на милость, потому что…
— Не на вашу милость, господин Эрнесто, — тихо, но веско произнес кто-то за столом рядом с ним.
Адмирал запнулся, и губы его побелели.
— Не на вашу, — повторил тот же голос, — а на милость его сиятельства ко-адмирала Санчеса Диего Хуана…
— Молчать! — рявкнул в микрофон адмирал Эрнесто. — Как ты смеешь перебивать командира эскадры?!
— Вы не мой командир, ваше превосходительство, — возразил голос. — Мой командир был, есть и будет его сиятельство Санчес Диего…
В зале поднялся ропот и вперед выскочил капрал Эфан со своим бластером.
— На олени! — орал он. — Проси извинений, мерзавец! Ты оскорбил адмирала!
— Отберите у него бластер! — заорал кто-то, но было поздно.
Эфан поднял раструб и дал залп поверх голов. На стене, там, где была голова тигра, появилось раскаленное алое пятно. Оно вспыхнуло, словно по инерции прогреваясь изнутри, и медленно погасло, став черным. Тигр остался без головы.
— Подонки оскорбляют клан! — послышался истеричный голос, а следом раздались два залпа.
Обезглавленное тело Эфана безвольно обмякло.
И следом начался настоящий ад.
* * *
Полковника хоронили в закрытом гробу — настолько оказалось изуродовано его тело. Роботы-рудокопы привычно и деловито ковыряли оранжевый грунт. Они делали это легко и бездумно — так же копали они руду десятилетиями, так же вчера рыли котлован, куда свалили две тысячи имперских трупов.
Гарнизон стоял в молчании — все восемьдесят человек. Лишь тихо сипели кислородные мундштуки. Наконец гроб опустили в яму, и комендант базы файер-капитан Замир Пауль Ольга Юсупов первым снял с головы капюшон и поднял раструб бластера.
— Бойцы! — начал он. — Братья! Сегодня мы прощаемся с тем, кто был для нас дороже отца и матери! С тем, кому мы верили как самому себе! С тем, чья мудрость и военный опыт не знали границ! С тем, кто все предвидел, все понимал и все рассчитывал лучше нас на три хода вперед! С тем, кто самоотверженно отдал свою жизнь за нашу победу! Нашу горькую победу! Прощай, замученный подлыми имперскими гвардейцами, но не сдавшийся бригадир-полковник Зоран Зоран Петра Грабовски!
Замир качнул бластером и дал залп в низкое серое небо. Холодный аргон пронзил оранжевый световой луч и растаял в вышине. Следом вскинули бластеры остальные. И Томаш, закусив губу, яростно надавил на кнопку.
Роботы деловито закидали яму грунтом, а рядом поставили пирамидку из гадолиния с выгравированной надписью.
«Оказывается, ему уже было семьдесят три», — сообразил Томаш.
Обратно шли молча, гуськом. Лишь в санпроходнике перед лифтами, когда уже сняли кислородные маски, кто-то сказал задумчиво:
— Да уж, всего не рассчитаешь…
— В каком смысле? — обернулся Замир.
— Я говорю, — продолжал рассуждать Оскар, — вряд ли полковник рассчитывал погибнуть. Он грамотно рассчитал, что нерастраченный боевой дух и вражда кланов заставят их устроить драку. Но ведь его не собирались убивать в тот вечер, просто под горячую руку попался, когда у них началась бойня.
Замир прищурил глаза и смерил Оскара взглядом.
— Оскар Шимон Бояна Вельд! — отчеканил он. — Уж не хочешь ли ты сказать, будто полковник не совершил свой последний подвиг? Будто он не отдал жизнь за всех нас и за победу над эскадрой? Будто погиб по глупости и недосмотру?
— Да нет, — покачал головой Оскар. — Я так не говорил. Я сказал, что полковник вряд ли собирался погибать так просто. Наверняка думал выжить, да всего ж не учтешь…
— Оскар Шимон Бояна Вельд! — отчеканил Замир яростно. — Сегодня, в день нашей победы, в день прощания с полковником ты посмел усомниться в его мудрости и героизме? Выйди и повтори при всех, чтобы все видели, что в наших рядах враг!
— Послушай, Замир, — неожиданно для себя вмешался Томаш. — Может быть, хватит, а? Уж кто бы говорил про сомнения в мудрости полковника!
Замир вспыхнул, его лицо пошло багровыми пятнами.
— Томаш Мирослав Тереза Новак! — рявкнул он, поднимая бластер. — Ты как смеешь говорить с комендантом?!
— А ты мне не комендант! — выпалил Томаш, отступая на шаг. — Мне полковник был комендантом! А ты для меня трус и изменник!
— Тихо, тихо! — встревожился Оскар. — Да вы что, парни? В день победы, в день похорон…
— Не тихо! — яростно огрызнулся Томаш на Оскара и снова повернулся к Замиру, чувствуя, как левая рука сама прижимается к груди и тянется вправо, за отворот комбинезона. — Не трогай память полковника, понял? Все, что угодно, говори! Но об одном лишь прошу: оставь ее в покое!
Владимир Венгловский
Равлик-Павлик
Радиостанция в нашем Т-34 плохонькая, толку от нее во время боя — кот наплакал. Ломается чаще, чем работает. На привале вместо отдыха чинить приходится. Все уже третий сон видят, один я бодрствую — радиостанцию кручу. Хоть какая-то от меня польза. Во время боя обзор у стрелка-радиста маленький — все перед глазами скачет, ни черта не видно. Стрелял наугад, когда Студент, то есть командир, приказывал. Убил кого — не знаю.
Один лишь раз точно видел, что убил. Месяц назад под артиллерийский обстрел попали — пушку раскурочило, гусеницу сорвало. Сидим в башне — радуемся, что живые остались. Ваську-Гуся только контузило. И тут фрицы в атаку пошли. Думали, наверное, что в танке все померли. Прут цепью. Вытащили мы пулемет, за танком спрятались. Васька глаза выпучил, как рыба, ртом воздух хватает. Командир кровь со лба вытирает — осколком чиркнуло. Стреляй, говорит, Равлик. Я тогда не боялся — это же не «тигр»… Знал, что выживу. Командиру после боя орден Красного Знамени дали, а мне — медаль «За отвагу». Обещали в звании повысить, но пока не сложилось, так сержантом и остался.
Третий день наступаем. Из целых танков — наш, командира батальона и лейтенанта Павлущенко. Из моего пополнения почти все погибли. Впереди за леском — деревня, где фрицы окопались, Глушки называется. Все эти деревеньки у меня в голове перемешались. Деревня — бой, едешь, стреляешь, гарь, дым, в танке угореть можно. Снова деревня — опять бой. Вот и завтра эти самые Глушки взять надо. Небось, у фрицев тоже танки есть. Лишь бы не «тигры».
Когда «тигр» где-то в километре тебя на прицеле держит — все, туши свет. Или молись, или из танка выпрыгивай прямо под трибунал. Потому что пушка у «тигра» нашу броню на таком расстоянии пробивает, как яичную скорлупу. «Бэмц!» Кто из экипажа сразу убит, кого осколками искалечило. Если еще и в бак с горючим залепило… Солярка горит, температура в танке, как в аду. А я — в самом невыгодном положении. Сзади — Васька-заряжающий, слева — Михалыч. Только после кого-то из них вылезти могу.
Хотя насчет выпрыгивания из целого танка это я просто так сказал. Не выпрыгнем мы, пока не подобьют. И уж тем более командир. Злой на фашистов наш Студент. Отчаянный.
Один раз на «тигра» нарвались. Выехал между домами — метров пятьдесят до него было. Т-34 ревет. По внутренней связи не слышно ничего от грохота. Командир ноги на плечи Михалыча поставил и давит, показывает, куда ехать. Вдруг — «тигр»! Не ожидали его. Вообще фрицев не ждали. Не вижу — ощущаю, как командир напрягся. Губы сжал. Кулак под нос Ваське сует, мол, бронебойный давай! А я сижу ни жив ни мертв. Чувствую, не только мы напряглись — весь танк сжался. Металл, он же как живой, свои соки имеет. Положишь на него ладонь — и понимаешь, как они там, внутри, бегут, будто кровь в человеке. К подбитому танку прикоснешься — труп трупом. А к целому… Я с ним и разговариваю иногда, когда никто не слышит. Михалыч, наверное, лишь усмехнется в усы, а Васька — тот сразу пальцем у виска покрутит. Командир очками блеснет и начнет пургу нести, которой его в институте научили. Антинаучно, мол, это все. Только я чего снаряды от масла очищать люблю? В них тоже металл живой. Они — словно часть нашего танка. Вроде как семена у дерева, но не жизнь, а погибель несут.
Скукожился наш Т-34, будто кожей гусиной покрылся. «Тигр» уже пушку развернул. Командир губы сжал и выстрелил прямо на ходу! Чувствую — летит снаряд. «Хлоп!» — фашист загорелся, башню в сторону повело. А потом как рванет! У меня руки ходуном ходят. Михалыч кричит: «Лейтенант!» Он чаще всего нашего командира только лейтенантом и называет. Михалыч — он такой. Еще на финской воевал.
— Лейтенант! — кричит. Даже заикаться перестал. — Мы «тигра» подбили!
Обошлось. Выжили. Только «тигров» я теперь боюсь — смертельно. Едва вижу — сразу руки дрожать начинают. Когда радиостанцию после боя чиню — успокаиваюсь. Особенно если еще и ладонь к танку приложить. Не хочу, чтобы нас завтра «тигры» ждали. А металла впереди — куча. Знаю. Слышу его.
— Равлик! — прохрипел командир. — Черт с ней, с радиостанцией. Ложись спать. Я подежурю. Завтра бой, отдохнуть надо. А ты и так — странный какой-то. Сидишь, губами шевелишь, будто с танком разговариваешь. Молишься, что ли? Ложись давай.
Ложусь. Укрываюсь брезентом. Равлик… Это командир мне прозвище такое придумал. На самом деле я — Павлик. Павел Жаба. Фамилия моя такая. По имени меня никто из знакомых никогда и не называл. В школе я был Жабой. «Жаба, к доске». «Жаба, опять ты урок не выучил». В училище перед самой войной — тоже Жаба, и все тут. Когда месяц на радиста-стрелка переучивали — Жаба! Ну, думаю, в экипаже тоже земноводным зверем буду. Хотя чего уж там — фамилия как фамилия. Бывают и хуже. Но в первый же день, когда нас, молодых, в экипаж собрали (один Михалыч из стариков был, весь его предыдущий экипаж погиб) командир меня Равликом окрестил. Сидели мы, отъедались после полуголодных пайков в училище. Гляжу — по танку улитка ползет. Я ее за панцирь схватил, поднес к глазам и говорю:
— Равлик-Павлик, высунь рожки.
— Что-что? — спросил командир наш новенький — лейтенант Григорьев. — Что еще за «равлик» такой?
— Дам тебе горошка… Это у нас в Украине так улиток называют, — улыбнулся я и аккуратно опустил равлика на лист лопуха.
— Эх ты, Равлик-Павлик, — сказал Григорьев.
За мной это прозвище и закрепилось. По-настоящему, так меня только мама называла, когда еще жива была. А командира мы Студентом зовем. За глаза, конечно, но он об этом знает. Когда только в часть явились, комбат нас принимал. Подошел к Григорьеву, а тот в строю стоит: шея длинная, уши торчат, очки такие круглые, интеллигентские. Ну, командир и спрашивает:
— Это что за студент такой?
А Григорьев:
— Никак нет, товарищ командир, аспирант!
Но для нас он Студентом так и остался. Зло Григорьев дерется, очень зло. Не щадит ни себя, ни нас. Всю семью его фашисты убили — и мать, и брата малого. А отец на фронте в сорок первом погиб. Думали вначале, что командир весь экипаж погубит. Но мы — в числе трех танков. Тех, что выжили. А сколько позади фашистов подбитых осталось — я не считал.
Эх… Лишь бы завтра не «тигры».
* * *
Сглазил! Знал же, что не надо каркать!
Первым подбили Павлущенко. Он справа под лесом шел. По центру — комбат. Слева — наш танк. И место открытое — не объедешь, не подкрадешься. Как на ладони все. Послали нас вперед, перед пехотой, ворваться в село и подавить огневые точки.
«Сынок, — сказал политрук Григорьеву, — понимаешь, надо! Ты уж не подкачай».
Надо — значит надо, тут ничего не поделаешь. Поможем пехоте. Первым делом мы два минометных расчета уничтожили, благо противотанковой артиллерии у фрицев не было. «Тигр» между хатами прятался. Подпустил танк Павлущенко поближе и, как в тире… Я только вскрик металла услыхал. Т-34 будто на стенку наткнулся, а затем башня от взрыва метров на десять отлетела.
— Вон он, лейтенант! Между д-домами, ч-черт!
Григорьев повернул башню — не электрическим приводом, вручную крутил — все премудрости во время боя из головы вылетели. Выстрелили мы — только нет «тигра», отъехал. Стена дома обрушилась, пыль от штукатурки столбом. Танк комбата куда-то выстрелил. Я тоже строчил из пулемета в сторону немцев. По кустам, домам, в божий свет… Лишь бы заглушить начинающийся страх.
Вторым загорелся танк комбата. Трое успели выскочить и катались по земле, сбивая пламя. Четвертый член экипажа остался обгоревшим трупом, высунувшимся из люка на башне.
Я смотрел на все словно глазами нашего Т-34.
По танковой броне щелкали пули.
— Бронебойным, заряжай!
— Бронебойным готово!
«Тигр» выехал нам навстречу из-за стены крайнего слева дома. Лоб в лоб. Не пробьем мы его броню на таком расстоянии. Я снял непослушный палец с гашетки. Все бесполезно. Знал же, что погибну от «тигра». Обидно все-таки. А чем ты лучше других, Равлик? Ничем. Я схватился за броню, царапая ногтями металл, словно пытаясь удержать его, укрепить перед выстрелом врага. Спрятаться за прочным непробиваемым панцирем. Выжить.
В детстве у маленького Равлика это хорошо получалось.
Я закрыл глаза.
* * *
Ночью снова стонал отец. Есть такая болезнь — позвоночная грыжа. Павлику она представлялась в виде большого черного паука, забравшегося под кожу и впившегося в позвоночник кривыми зубами. Павлик знал — утром снова придет отец Григорий, сухонький, в старой потрепанной рясе. Он скажет: «Ну-с, Андрей Николаевич, расслабьтесь», положит ладони на голую спину отца и будет долго сидеть, что-то бормоча себе под нос и глядя в потолок. Когда Павлик был совсем маленьким, как сейчас Аленка, он не понимал, почему этого чужого дядьку, от которого пахнет свечами и еще чем-то незнакомым, тоже называют отцом. Какой же из него отец? Отец большой, сильный. От него здоровски пахнет махоркой и начищенными сапогами. У отца есть наган, из которого он обещал дать пострелять, когда Павлик подрастет. У отца колючие усы и еще он — большевик! Даже тетушка Оксана, которая так и норовит огреть палкой пониже спины из-за краденых яблок, и та уважительно к отцу относится. Обязательно первой поздоровается.
Отец Григорий уйдет спустя час, сгорбившись, бросив на Павлика острый взгляд, от которого холодок пробежит по спине. Родной отец некоторое время полежит, потом, кряхтя, поднимется, распрямится, словно и не было никогда черного паука в спине.
В этот раз Павлик столкнулся с отцом Григорием в сенях — не удержался, выбежал во двор по нужде, а когда возвращался, то уткнулся лбом прямо в рясу.
— Ого! — сказал отец Григорий. — Экий ты, пострел, однако, шустрый. Ну-ка, посторонись.
Павлик прижался к поржавевшему умывальнику, пропуская гостя, зажмурился. Ладони легли на холодный металл. Железо поможет, защитит от дядьки. Вот сейчас… Ну… Отец Григорий остановился. Павлик открыл глаза.
— Лови, — сказал отец Григорий и кинул в него большую железную гайку.
Павлик поймал — не руками, мыслью поймал. Гайка повисла в воздухе, а потом, будто стесняясь своего поступка, со звоном упала на пол.
— Что случилось? — прокричала из комнаты мама.
Она не провожала гостя, а осталась вытирать мокрым платком пот со спины отца.
— Ничего, хозяюшка, — ответил отец Григорий, — это я тут с отроком разминуться не смог.
Он наклонился, подбирая с пола гайку, и вдруг весело подмигнул.
— Приходи-ка ты сегодня ко мне, поговорим.
— А вы никому не скажете?
— Как можно? Это будет наш секрет.
Почему-то удаляющийся отец Григорий уже не казался Павлику таким страшным, как раньше.
* * *
Церковь была старенькой, с паутиной под потолком в дальнем темном углу. Павлик стоял и думал, что надо бы, наверное, перекреститься, как тетка Оксана крестится. Но он этого делать не умел. И вообще, его скоро в пионеры принимать должны.
— Здравствуй, Павел, — сказал появившийся в дверях отец Григорий. В руках он держал сапку с налипшими комками земли.
Так и сказал, не Павлик, не Павлуша, а Павел. Как взрослому. И от этого в груди прямо к горлу поднялся комок чего-то радостного и возвышенного.
— Здравствуйте, — сказал Павлик и, испугавшись, что голос получился писклявым, грубо добавил: — А чего у вас тут так… запущено.
— Вот ты возьми и распусти. — Отец Григорий опер сапку о стену и устало опустился на лавку. — Каждый норовит поругать, а помочь — добровольцев нет.
Он достал старый носовой платок и вытер лоб.
— Было тут хорошо раньше. Икона даже позолоченная была. Только когда голод в Поволжье начался, я ее отдал. Не забрали — сам отдал. Пусть и святая вещь, но, поверь, ни одна вещь на свете не стоит человеческих жизней, прости меня, Господи.
Отец Григорий перекрестился.
— Сейчас кто сюда ходит? Раз-два и обчелся. Паства по домам разбежалась.
— Ну и что? — сказал Павлик. — Религия — опиум для народа! — Он не знал, что означает слово «опиум», но подозревал, что что-то очень нехорошее, как самогон, который отец пьет по праздникам. — И… это, Бога нет!
— Ты в этом уверен? — улыбнулся отец Григорий.
— Да!
— А почему?
— Ну, так в школе говорят. Это антинаучно!
Отец Григорий спрятал платок и достал гайку. Сжал ее между указательным и большим пальцами и посмотрел сквозь отверстие на Павлика.
— Лучше скажи, ученая голова, как ты это делаешь?
Павлик нахмурился.
— А как вы папу лечите? — с вызовом спросил он.
Отец Григорий встал и неожиданно погладил Павлика по голове. Рука, прикоснувшаяся ко лбу, оказалась грубой и шершавой, как у папы.
* * *
Это случилось после того, как купили Люську. Павлик пас ее на дальнем пустыре. Люська была козой упрямой и вредной — того и гляди, боднет под коленки. Зато молоко по утрам она давала — вкуснее не бывает.
«Ладное молоко», — говорил отец Григорий, когда Павлик приносил ему кружечку.
О побеге заключенных из городской тюрьмы Павлик узнал позже, но в то утро никак не думал встретить на пустыре двух чужих дядек.
— Хорошая коза, — сказал первый дядька.
— Что с мальцом будем делать? — спросил второй.
Бежать? Но как? Догонят. Павлик сунул руку в карман.
— Ясно что. Выдаст, уйти не успеем.
В руке у одного блеснул нож. И тут Павлик по-настоящему испугался. Вокруг одуванчики цветут. Телега сломанная валяется. Солнце на небе яркое. Умирать не хочется. Но Люську отдавать убивцам нельзя — столько денег на нее копили. В кармане у Павлика лежало сокровище — английский перочинный нож, папин подарок. Надо выхватить, раскрыть лезвие и драться. Пальцы прикоснулись к металлу. По руке пробежали колючие ежики. Поднялись к плечу, покатились клубками по спине. Затылок обдало холодом. Сейчас Павлик выхватит папин подарок…
Нож раскроется, блеснет в воздухе и угодит в плечо первому убивце. Дядька схватится за рану, сквозь пальцы потекут струйки крови, как тогда, когда Павлик пробил вилами кожу на ладони. Потом Павлик подхватит заржавевший обод колеса, лежащий у сломанной телеги. Обод большой, тяжелый, хорошо по дядькиному лбу приложится. Металла вокруг много: гвозди в телеге, подкова под большим лопухом. Главное — не бояться.
Павлик закрыл глаза.
— Ме-е-е!
— Держи ее! За ноги держи! У-у, шавка.
— Ме-е-е!
И всхлип. Не человеческий. Страшный. А потом: кап-кап, кап-кап — капли падают и разбиваются о лежащую среди травы крышку консервной банки. Если раскроешь глаза, то увидишь повисшую на руках у дядьки Люську с перерезанным горлом.
— Зар-раза, таки выпачкался. Уходим быстрее!
Перочинный нож, обод, подкова — они связаны невидимой нитью. Создают панцирь, укрывающий Павлика от всего мира. Павлика нет. Его не существует. Он за прочной броней, отгородившийся от страхов. Где-то там, во внешнем мире, про него забыли. Там режут Люську и льется кровь. Но здесь тихо и спокойно, только громко колотится сердце. Надо лишь выждать, пока убивцы уйдут.
Панцирь рассыпался с едва слышным звоном, как тонкое стекло. Мир встретил пятнами крови на земле и мыслью: «Что я скажу маме?»
* * *
— Сильно мать убивалась? — спросил отец Григорий, когда они сидели на лавочке возле церкви.
Павлик всхлипнул. Он бросил на землю несколько крошек для стайки воробышков, что весело прыгали и щебетали на теплой земле.
— Не плачь, — сказал отец Григорий. — Она была рада, что ты жив остался. А коза — дело наживное. Ну, перестань. Есть такие моменты, когда каждый может испугаться.
— Папа бы не испугался! Вы бы не испугались!
— Я? — нахмурился отец Григорий. — Еще как бы испугался! Что я могу сделать против двух здоровяков? Зато я умею фокусы сотворить, хочешь, покажу?
Павлик кивнул. Отец Григорий достал коробок спичек, зажег одну, держа в правой руке. Затем протянул левую, и огонек, сорвавшись со спички, пролетел по воздуху и впитался в вытянутый палец.
— Здорово! — удивился Павлик. — Вы… огонь… в себя! А папиного паука… боль от спины тоже так забираете?!
— Подобным образом.
— А вам не больно?
— Чуть-чуть, — усмехнулся отец Григорий. — Вот если я много огня впитаю, тогда да — больно будет, даже очень. Смотри, я, оказывается, еще и слезы забрать умею!
— Нет, — улыбнулся в ответ Павлик. — Они сами высохли. Ой, совсем забыл. К отцу человек приходил, о вас спрашивал. Сказал, что не надо вам больше видеться. Это плохо, что я подслушал, да?
— Это негоже, Павлик.
— А меня простят? Ну… там.
— Перед этим ты сам себя простить должен. А насчет отца не переживай. Я все равно приду, когда его опять схватит. Пусть ночью, чтобы никто не видел. Понимаешь, ведь нам с тобой не просто так сила дана. И родились мы здесь не случайно. Где-то существует другой мир, светлый, чистый, там люди не убивают друг друга и царит счастье. Может быть, среди нас есть посланцы оттуда, что думаешь? Что, если Господь хотел, чтобы мы родились тут и принесли частичку света иной жизни?
— Я не знаю.
— А ты не знай. Просто поступай, как считаешь правильным.
* * *
Отец Григорий умер два месяца спустя, когда начались холода и первые заморозки затянули лужи тонким льдом. Павлик сидел дома — противная ангина схватила горло. Говорить было больно. Книгу про детей капитана Гранта читать не хотелось — Павлик лежал и смотрел в окно. По небу медленно и торжественно, как на параде, плыли тучи с розовой корочкой. И далеко-далеко в воздушном океане чудились волшебные земли, полные ярких цветов и говорящих птиц.
Ему рассказали позже, как загорелась школа. Наверное, отошла заслонка у старой печи. Выпало горящее полено, занялся половик. Через несколько минут пламя бушевало, перекрыв выход к спасению. Испуганные ученики и Мария Опанасовна собрались в углу класса, задыхаясь от дыма. Не вырваться, не убежать.
Никто не знает, почему пламя так внезапно погасло, поговаривают, что его задул сильный порыв ветра. Только тетка Оксана каждый раз, вспоминая трагедию, истово крестилась и обнимала свою дочурку.
При пожаре погибли только двое — пьяный сторож и отец Григорий. Обгоревшее тело священника нашли невдалеке от школы. Он лежал, раскинув руки в стороны, и смотрел в небо почерневшим лицом. Говорят, что бросился спасать детей, потому и обгорел.
Но Павлику известно, как все было.
Кровь на земле от убитой козы. Сгоревший отец Григорий. Высунувшийся из танка черный труп.
«Что я скажу маме?»
«Поступай, как считаешь правильным». Но впереди — страх и смерть. Там прячется убийца, поджидающий жертву.
«Равлик-Павлик…»
Павел улыбнулся. Палец вернулся на гашетку пулемета. Ладонь ощутила холодный металл.
«Равлик-Павлик, высунь рожки, дам тебе горошка».
* * *
Перед нами был «тигр», но мои руки больше не дрожали. Едва начавший твердеть панцирь со звоном лопнул и рассыпался невидимыми осколками. Я почувствовал вражеский танк, понял волнение и азарт затаившегося безнаказанного хищника.
— Стреляй, командир, — сказал я.
Два выстрела слились в один. Короткое мгновение полета снаряда в цель. Я летел вместе с ним, ощущал пение ветра и яркую свободу жизни. Я знал, куда надо направить смерть.
Снаряд «тигра» задел борт Т-34 и разорвался снаружи. Внутрь брызнули осколки брони. Коротко охнул Михалыч. Закричал Василий, зажимая рану на голове. Больно кольнуло в ногу и грудь.
Наш выстрел угодил «тигру» под башню — единственное незащищенное место. Хищник захлебнулся огнем и смертью. Пламя вспыхнуло погребальным костром.
— Мы подбили его, Равлик, — прошептал лейтенант.
— Я знаю, — сказал я и попытался улыбнуться.
Позади с криком «Ура!» шла в атаку пехота.
Карина Шаинян
Водочистка
Чуть-чуть вытоптанной травы, немного переплетенных корней, а все остальное — грязь, красная, липкая грязь. Даже в детстве Катя не умудрялась так перепачкаться — это другие дети, и земляне, и тхуканцы, могли извозиться, как поросята, но не она. А теперь даже в волосах грязь, брюки порваны на коленках. Пахнет гарью, листвой и железом, капли дождя оставляют во рту металлический привкус. Болит голова, и страшно саднит висок.
Холодный ствол бластера содрал кожу. Зачем так давить — неужели Тами боится, что Катя убежит? Куда она денется с корабля? Кусок металла несется через пустоту, скорчились в уютных мягких креслах пассажиры, и страшно, страшно. В кают-компании тхуканцы с лицами, похожими на лезвия кинжалов, держат под прицелом землян. Сталь подрагивает в руках, — как будто дикари ждут сопротивления от кучки студентов.
Тами вталкивает Катю в рубку, рычит капитану:
— Корабль заминирован. Лети на Тхукан. Сейчас.
Совсем рядом Катя видит белые от ужаса глаза второго пилота. Тами коротким тычком отбрасывает его в сторону и сильнее вжимает ствол в Катин висок.
— Пересчитывай маршрут. Быстро!
Тами говорит с сильным хакающим акцентом, как будто у него першит в горле. Катя улыбается сквозь слезы.
— В детстве ты говорил чище…
Тами смотрит на нее бешено и недоуменно, отбрасывает в сторону. Катя съеживается на полу, в спину врезается что-то твердое и холодное. Мокрое. Грязное.
Катя отодвигается от валуна, на который опиралась спиной, машинально тянется отряхнуть спину. Трет зудящую ссадину, под пальцами глина сбивается в катышки, и Катя испуганно отдергивает руку. Если грязь попадет на ранку — она загноится, превратится в язву. Как у тех людей, которые хлынули на Байкал во время Кризиса.
Страшная старуха с лицом, покрытым гнойными струпьями, хватает пятилетнюю Катю за руку: «Доченька, нашлась, нашлась!» От нее шибает больным немытым телом, и Катя молча вырывается, еле сдерживая тошноту. Дома она старательно моет руку там, где в нее впились грязные цепкие пальцы. Льет на ладони чистую, прозрачную воду, а потом пьет — долго, через силу, с торжествующей жадностью. У них есть вода! У них много чистой воды. Потому что они хорошие — папа говорил, что люди сами виноваты в Кризисе: расслабились, научившись строить звездолеты, увидев, сколько в космосе хороших планет. «Каждый думал — успею улететь, если что, — говорил папа. — Перестали заботиться о Земле. А ведь предупреждали…» Папа тоже предупреждал, Катя знает. Папа — ученый, а ученые хорошие.
А теперь вокруг их биостанции — палатки, шалаши, грязные куски полиэтилена, душная кислая вонь. Все эти люди, которых предупреждали, прибежали теперь в их чистый поселок, кричат, ругаются с деревенскими. Даже дерутся — Катя видела, как на станцию прокрался егерь. Лицо его было в крови. Он говорил, размахивая руками и дергая разбитой бровью, а отец все качал головой, и наконец егерь плюнул под ноги и ушел. Отец долго смотрел на палатки, и лицо у него было тоскливое и растерянное, совсем незнакомое.
А теперь ночь, и свежий ветер с озера не может разогнать мерзкий запах лагеря. Катя забралась в родительскую постель — если придет та страшная старуха, папа с мамой защитят. За окнами гудит людской муравейник, а потом вдруг взрывается криками. Мама подскакивает с кровати, лицо у нее белое. «Не смей, Марина», — говорит отец. «Они перебьют друг друга, Андрей, мы должны что-то сделать, тебя послушают…» — «Не смей выходить. Если вмешаемся — вовек не отмоемся… Там нет правых и виноватых». — «Что же дальше будет…» — шепчет мама, ломая пальцы, и отец обнимает ее, отводит от окна: «Улетим на Тхукан. Мне недавно предложили место… И теперь, пожалуй, имеет смысл согласиться». А потом раздается громкий треск, мелькают огни, и отец дергает Катю за руку, бросая на пол.
Тами выталкивает Катю на середину поляны, и она безнадежно опускается на землю. Корабль приземлился почти на самом берегу Хата, в знакомых с детства местах. Тхуканцы рассыпались цепью вокруг поляны, окружив выгнанных под дождь людей.
— На Земле не верят, что мы настроены серьезно, — говорит Тами. — Что ж, тем хуже для вас.
Он поднимает бластер, грохот заглушает шелест дождя, ошметки грязи летят в лицо. В наступившей тишине слышно, как за деревьями густо всхлипывает Хат, и Катя инстинктивно ползет на звук. Сквозь зелень уже мелькает красная, лаково блестящая вода — в верховьях ливни смывают почву, вода мешается с илом. Катя ползет изо всех сил, в ушах гудит от напряжения — нет, это гудит насос, работает на пределе, очищая воду…






