Где светло (сборник) Михеева Ася
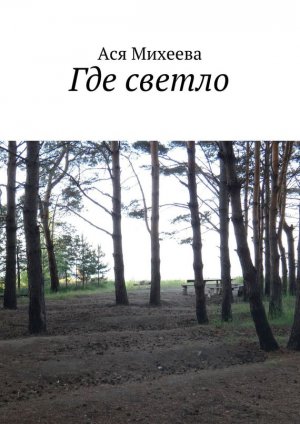
© Ася Михеева, 2016
© Ольга Васильевна Казанская, фотографии, 2016
ISBN 978-5-4474-0553-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Поэт и Хромой Лосось
Охане сидел на носу легкой яхточки и с удовольствием смотрел, как Наташа управляется с парусом. В ее движениях чувствовалась какая-то незаученная, природная свобода.
– Среди ваших предков, мне кажется, были моряки, – сказал Охане и напрягся, ожидая Наташиной реакции.
– Что-то? – переспросила она, переждав порыв ветра.
Охане повторил погромче.
– Да, конечно. Я по бабушке поморка, – улыбнулась Наташа.
Охане кивнул головой. Северная Европа, этноландшафт приморских европеоидов, отлично прижившихся на побережьях Канады и Восточной Сибири. Должно быть, На Юкатане-3 ей вольготно. Что и спрашивать; человека, довольного своей жизнью и работой, видно.
Наташа сузила прозрачно-серые глаза, вглядываясь в горизонт.
– Думаю, они где-то здесь. Пройдем еще с час на зюйд-ост, а там начнем дрейфовать, хахаффы нас сами найдут.
Охане посмотрел на сверкающую равнину моря.
– Я чувствую себя очень неуверенно.
– Хахаффы похожи на дельфинов, – дружелюбно ответила девушка, – уверяю вас, они очень славные. А неуверенность проходит с опытом.
– Я читал, что хахаффы ближе к земным лососям. Это… трудно представить: разумные лососи.
Наташа неуловимо шевельнула рулем, вернув в парус изменившийся ветерок.
– Трудно за глаза. Я думаю, вам проще будет понять их, изучив всю экосистему. Сейчас мы просто познакомимся, а завтра поедем на катере по Сейре, посмотрим нерестилища.
– Сколько осталось времени до следующего нереста?
Наташа нахмурилась.
– Два месяца. Обычно в это время они уже вовсю празднуют, чествуют уходящих. Ничего. Третий год – совсем ничего.
– Экосистему рек вы поддерживаете искусственно, вносите искусственный белок, и сколько-то выпускаете размороженной молоди, – уточнил Охане, – а хахаффы как к этому относятся?
– Благожелательно, – поморщилась Наташа, – то есть так, как будто это лично их не касается.
Охане замолчал. Информация от специалиста-практика очень важна, особенно в сопоставлении с докладом планетарной заявки-вызова; но он чувствовал, что должен подготовиться к встрече. Практический ксенопсихоанализ – абсолютно тёмная вода. В нее следует входить… соответствуя.
Прохладный ветерок дышал вокруг, обгоняя яхту, а ослепительно-белый диск дельты Скорпиона рассыпал по поверхности океана золотистые искры. Охане неподвижно смотрел на воду и не шевельнулся даже тогда, когда первая спина, покрытая радужными чешуйками, разрезала волну.
Стая хахаффов окружила яхту. Опущенный в воду транслятор запищал, защелкал. Наташа склонилась к микрофону и пискнула в ответ. Охане поморщился, чувствуя, как беззвучной вспышкой в мозгу начался инсайт языка хахаффов, выученного в гипноиндукторе за время полета. Одно слово… другое, задним числом понята предыдущая фраза, дополнительный смысл высказывания с прижатыми жабрами (сквозь зубы? Нет, скорее нарочито гнусаво), фразеологизм, намекающий на высоту поэтического стиля. Хахаффы поинтересовались, войдет ли к ним новый человек. Наташа посмотрела на Охане, повторяя вопрос одними глазами.
– Конечно, войду. Много ли даст знакомство сквозь Великое зеркало? – проскрежетал Охане. Хахаффы разразились приветственными речами. Тем временем Наташа помогла Охане натянуть океанский экзоскелет, тихонько инструктируя:
– Старайтесь работать бедрами. Спиной удобнее, но позвоночник с непривычки будет болеть. Руки держите у тела, разве только для поворотов, хахаффы используют боковые плавники для ударов, активные руки ими воспринимаются как агрессия.
Охане закрыл костюм налобной кнопкой, опустил осмотическую маску, улыбнулся встревоженной девушке и упал спиной вперед в воду.
Острое чувство полета – над дымчатым изменчивым миром, под зыбью Великого зеркала – охватило его, как и в первый раз. Охане нырнул поглубже, встраиваясь в выделенное ему хахаффами место, четкую точку в согласованном переплетении плывущей стаи. Хахаффы немедленно отметили учтивую воспитанность незнакомца, перестроившись так, чтобы Охане занял место в переднем ряду. Он осторожно продемонстрировал боязливость и неготовность к ответственности. Инсайт инсайтом, но без опыта работы с дельфинами и морскими котиками – где бы в таких тонкостях разобраться. Охане удовлетворенно вздохнул, увидев, как к нему в положение парной беседы подстраивается крупный самец. Цепочки бугорков вдоль спины указывают на успешный брак, темные чешуйки вокруг плоских рыбьих глаз – на солидный, хотя и не преклонный возраст.
– Мои друзья называют меня Хиасс, – приветливо сказал гигантский лосось.
– Как почетно с первого же входа встретиться со стаей великого поэта, – ответил Охане, восторженно выгибая спину, – ваше имя знакомо мне, как и многим с той стороны зеркала.
– В прошлом я бы застеснялся, – в ответ хахаффа вкралась грусть, – но теперь я волен признать – я действительно Был великим поэтом. Прошлое не отменить, тем оно и прекрасно. А как ваше имя, учтивый гость?
– Приятно сказать, что мое имя отчасти связано с вашим народом. На языке моих предков меня зовут Дикий-родич-хахаффа-повредивший-плавник. Звучит это Охане.
– Большинство имен наших друзей не связано с пространством под зеркалом, – отметил Хиасс.
– Это связано с тем, где жили наши предки. Большинство людей живут далеко от моря, лишь некоторые близки к подзеркалью.
– Я отмечаю, что нити вашего лобного украшения также выглядят иначе, чем у моих знакомых, – осторожно добавил Хиасс.
Охане попытался вспомнить, встречал ли он на Юкатане черноволосых.
– Мы не обращаем особого внимания на цвет волос, – ответил он наконец, – поскольку различные роды перемешались много поколений назад. Теперь в одной семье могут быть люди с разным цветом волос. Но, в сочетании с цветом кожи, цвет волос указывает на район происхождения предков.
– Я вижу, что ваша кожа действительно темнее, чем я привык видеть.
– Бывают и более темные люди. Со временем вы можете встретить и их. Я не думаю, что они будут вести себя как-то иначе, нежели люди со светлой кожей и волосами.
Стая Хиасса тихонько переговаривалась, обсуждая вид и слова нового человека. Крайние особи – крупные молодые самцы – неуловимо отплывали от стаи, чтобы отослать в пространство краткий импульс дальней связи – невидимым в подводной дали стаям. Охане знал, что через пару часов его узнает в лицо любой хахафф океана Хейердала.
Законное место каждой стаи в пространстве подзеркалья; право и очередность приближения к гигантским стаям мелкой пищи; брачные, сугубо экзогамные отношения; сложная иерархия в большой, до полусотни особей, стае – все эти условия создали из крупной хищной рыбы существо, обладающее изощренной речью; существо разумное. Как всякое разумное существо, не всеведущее. Хахаффы понятия не имели, почему им расхотелось размножаться.
– То, что никто больше не хочет подниматься к истокам, вполне понятно, – говорил Хиасс, когда Охане наконец перешел от этикетных тем к причине своего приезда, – лично меня больше беспокоит, что молодежь стала равнодушна к вступлению в брак. Нет, они продолжают играть, обмениваться песнями… Но избегают оплодотворения икры. Самки носят компактную неоплодотворенную икру, не затрудняющую движений, самцы так и вовсе щеголяют гладкой подростковой кожей, – хахафф неодобрительно встопорщил плавник в сторону членов своей стаи.
– Значит, репродуктивное поведение страдает не только в своей окончательной фазе? – спросил Охане.
– Конечно. Хотя я почти уверен, что только страх перед истоком меняет их поведение. Я сам слышал, как молодые хахаффы говорили – того, кто не покрыт икрой, незачем и отправлять в последний путь; будем же жить без икры.
– В свое время меня восхитил обычай хахаффов делить икру пополам между супругами.
– Об этом существуют несколько прекрасных древних стихотворений, – охотно ответил Хиасс, – мне кажется, на заре нашей цивилизации были хахаффы, которые вели себя иначе. Память народа поминает их с осуждением.
– Видимо, сам механизм имплантации оплодотворенной икры в тела родителей сформировался довольно поздно, – задумчиво сказал Охане, – одновременно с формированием разума. И тогда же было отложено созревание икры.
– В морской воде икра может спать десятилетиями, – подтвердил Хиасс.
Охане прислушался к стае старого поэта и решил сменить тему. В движениях молодых хахаффов начинала пробиваться тревожность.
Хорошо еще, что хахаффы не считают столь деликатную тему неприличной, особенно в обсуждении с инопланетянином. Иначе Охане пришлось бы исплавать с хахаффами и океан Хейердала, и океан Амундсена, чтобы через пять-шесть лет в ночной беседе со старым другом таки добраться до нужного вопроса.
Он мягко перевел русло разговора в область светской беседы. Обсудив структуру стаи Хиасса, Охане выслушал и рассказал несколько стихотворений (Хиасс высоко ценил технику танка и был восхищен идеей венка сонетов), и на закате дал сигнал Наташе.
Девушка умудрилась отстать от стаи всего лишь на каких-нибудь пятнадцать минут. Под серебристым светом Хаски, первого спутника планеты, Охане перевалился через борт яхты и застыл, задрав ноги.
Наташа протянула ему термос с бульоном.
– Пейте, переодевайтесь и ложитесь спать. Утром мы будем в устье Сейры, я сдам вас речникам и сама отправлюсь отдохну. Не думала, что вас в первый же день на столько хватит.
– Мне приходилось болтаться в море неделями, – ответил Охане, выпутываясь из костюма. Угревшееся тело на ветру немедленно прохватил озноб. Охане торопливо оделся в сухое и глотнул бульону, – я же работал с зоопсихоанализом морских млекопитающих, особенно котиков. А они такие недоверчивые ребята…
– А я-то считала вас кабинетным ученым, – весело покаялась Наташа.
– Ну, это зря, – кратко ответил Охане, заворачиваясь в одеяло. Через несколько секунд он уже спал.
В конференц-зале экологического центра Охане чувствовал себя, как фокусник, которого ошибочно приняли за мессию. Почетно, но несколько тревожно. Выступающий юкатанец смотрел на профессора с Земли почти умоляюще.
– На сегодняшний день мы гораздо лучше понимаем механизм, приведший к нарушениям репродуктивного поведения хахаффов. Однако, это ничуть не приблизило нас к решению проблемы…
Охане внимательно слушал выступление и размышлял. Итак, корни проблемы все-таки не связаны с деятельностью человека. Медленное изменение розы ветров у горного хребта Ломоносова – результат циклических климатических изменений. Реки, текущие от хребта Ломоносова на запад, обмелели. Объем ила, выносимого их водами в океан, уменьшился. Прибрежного планктона стало меньше, стаи рыбы отошли в глубину океана. Ход хахаффов также отодвинулся от берега. Пресная вода и минеральные вещества, вызывающие у хахаффов подсознательную решимость на нерест, перестали попадать в организмы разумных рыб. А без подсознательной решимости какое разумное существо пойдет на верную гибель?
– Все это логично, – сказал вдруг Охане, – а как вы объясняете аналогичные проблемы у хахаффов океана Амундсена? У них-то с пресной водой все в порядке?
– В порядке, – мрачно ответил кто-то из зала, – только они от нее бегают как от чумы. Сидят в середине океана и честно отвечают, что не желают терять голову, а вовсе намерены еще пожить в свое удовольствие. Было не меньше десяти случаев, когда престарелый хахафф и хотел уже выбраться на нерест, но не справлялся с течением реки.
Охане сощурился, став совершенно похожим на хакасскую каменную бабу.
– А… по времени в двух океанах… это произошло одновременно?
– Нет, – ответили несколько голосов сразу, – в океане Хейердала началось раньше. На несколько лет, если быть точными.
– Последний вопрос, – подумав, сказал Охане, – как соотносятся поэтические школы двух океанов?
– Хиасс – последний живой поэт, – сказала женщина из переднего ряда, – теоретически у хахаффов бывают два-три всенародных поэта в поколении. Они передают мастерство ученикам, когда находят способных. Хиасс, насколько нам известно, сам давно готов к нересту. Он ждет талантливую молодежь.
– А молодежи никакой не видать, – прорезюмировал Охане, – благодарю вас. Я должен обдумать все услышанное.
* * *
Только через пару недель он счел возможным вернуться к тому, что считал узловой проблемой хахаффов.
– Хиасс, – спросил Охане, уважительно проскальзывая под брюхом старого поэта, – я многое обдумал и полагаю, что должен задать вам ряд невеселых вопросов. Быть может, нам стоит сделать нашу беседу не столь громкой для ваших товарищей?
– Это нетрудно сделать, – ответил хахафф и вильнул хвостом, притормаживая. Стая проследовала вперед, оставляя за собой в воде эхо болтовни и обсуждений, зачем человек секретничает со стариной Хиассом – видать, не так уж тот и обезголосел, что надзеркальники возятся с ним.
– Хиасс, друг мой, – мягко сказал Охане и продемонстрировал высшую степень участия, готовность нести хахаффа на себе, – Хиасс, о чем было ваше последнее стихотворение?
– Я поклялся не повторять его, – печально ответил хахафф.
– Быть может, я угадаю? Вам останется лишь сказать – «да» или «нет».
Хиасс не выразил ни согласия, ни отказа. Его плавники на миг ощетинились, но покорно прижались к телу.
– Вам трудно говорить об этом, я знаю, – мягко сказал Охане, – но поверьте мне, друг мой, человеку тоже знакомо горе.
– Какому возрасту хахаффа соответствует ваш возраст? – тихо спросил Хиасс.
– Мне сорок два года. Брачный возраст у людей наступает в половине этого срока, смерть приходит, обычно, через такой же срок, – ответил Охане.
– Насколько мне известно, нерест у человека не связан со смертью, – уточнил хахафф.
– Не прямо, но связан, – задумчиво ответил Охане, – организм человеческой самки необратимо изменяется после созревания нескольких икринок; теряет силы и привлекательность. Самец человека после созревания икры навсегда меняет образ жизни. Большинство людей вынуждены оставлять стаю на большую часть времени, поскольку каждая созревшая икринка требует кормления и заботы … до становления взрослой особи. Родительство – это шаг и к смерти, и к бессмертию одновременно.
– Бессмертию? – переспросил Хиасс.
– Биологическое бессмертие – это продолжение себя в детях. Социальное бессмертие – продолжение своего дела, например, в учениках. Личность, к сожалению, на бессмертие не способна.
– Пфиа ушла к истоку, не дождавшись моей готовности, – горько сказал Хиасс, – я оплакивал ее… Я не знал, что поэма получит такой резонанс… Я не предполагал.
– Но разве после нее вы не пели ничего? «Прощание с любимой» только в мире людей переведено на восемнадцать языков, и, насколько мне известно, на три языка других рас. Позднейших ваших стихотворений люди не слышали. Но я рискну предположить, что последней вы спели хулу смерти.
Хиасс растопырил плавники, широко открыл рот и раздул жабры. Охане немного отстал, устало думая о том, что трансфер, видимо, оказался слаб и ему сейчас достанется на орехи.
– Да, – наконец сказал Хиасс.
Они долго молчали, плавно двигаясь между тугих струй холодного арктического течения.
– Почему личность должна быть принесена в жертву всеобщему? Почему каждый должен умереть, чтобы жили все? – горько спросил гигантский лосось, – неужели и вы, зазеркальщики, не нашли ответа?
– Когда я был мальком, – медленно сказал Охане, – дед брал меня с собой на лов лосося… Мои предки, как и большинство хищников, питались рыбой. И до сих пор во время нереста и человек, и медведь, и волк выходят на берег и ждут. Лососи идут вверх по течению, перепрыгивая пороги. Их столько, что вода кипит их телами. Они торопятся, выталкивая слабых и уставших на берег. Кажется, что море пытается втиснуться обратно в реку. Каждый из них погибнет, но каждый торопится подняться выше, чтобы отметать икру в лучших заводях… Мой дед говорил, чтобы я учился их отваге. Великолепному презрению к смерти. Идти смерти навстречу ради чего-то большего… непросто. Особенно с поврежденным плавником. Я тогда не вполне понял, о чем он говорил. Только много лет спустя, когда дед уже давно умер, я осознал – стремление сохранить жизнь любой ценой разрушает личность, а готовность пожертвовать ею – сохраняет. Это удивительно, но работает.
– Говорить с отцом своего отца? Хотел бы я с ним поговорить. Мы ведь даже не знаем, на теле отца или матери взрастает грибок, который кормит нас первое время жизни. К моменту, когда хахафф начинает что-то запоминать, от тела родителя остаются только кости. А родитель родителя… – хахафф присвистнул.
– Древнейшим поэмам хахаффов несколько тысяч лет, как я понимаю? – спросил Охане.
– Пожалуй, вы правы, – ответил Хиасс после долгого раздумья, – но как я отвечу?
– Мой дед говорил, что некоторые вещи нельзя вернуть, их можно только передать дальше.
Старый хахафф решительно ударил хвостом.
– Мне надо попасть к истоку… Но мне надо и сказать слово, которое останется внукам. Ни один из молодых не пойдет со мной к реке, а вернуться я уже не смогу. Что делать, надзеркальщик?
Охане перевернулся в воде и посмотрел в сторону темного пятнышка на глади Великого зеркала – киль Наташиной яхты.
– Я думаю, люди смогут это устроить.
Охане оставался на Юкатане-3, хотя даже с дальних побережий океана Амундсена уже пришли сообщения о начавшемся нересте. Многих состарившихся хахаффов пришлось везти к верховьям рек на водных санках. Наташа принесла Охане запись того, как на грузовом судне к оговоренному месту привезли и выпустили за борт семь тысяч тонн речной воды; как одинокий хахафф учтиво поблагодарил людей и исчез в глубине. Охане ждал.
Наконец хахаффы позволили людям записать песнь Возвращения.
– Вы будете ждать литературного перевода? – спросил Охане незнакомый человек, принесший запись.
– Зачем? – спросил Охане.
– Ну… Впрочем, мы все равно вышлем его вам, – в благодарность за спасение целого народа.
Охане сдержался и не поморщился.
– Извините, – вдруг сказал незнакомец, – я не биолог… и не психолог. Я специализируюсь по поэзии хахаффов. Я не понимаю, как вы добились, – он помялся, – такого решительного перелома. Хиасс был гений, но гениальность ведь непредсказуема.
– Я же психоаналитик. Поэзия так же коренится в доразумных глубинах подсознания, как и инстинкты, – спокойно ответил Охане, – только инстинкты подчинены разуму, а поэзия руководит им. Если это настоящая поэзия, конечно.
Где светло
Здравствуй, Серега.
Больше всего я жалею, что ты мое письмо никогда не получишь. Не знаю, почему, но я его все время сочиняю, заучиваю наизусть. Некоторые слова меняю. А многие от частого повторения становятся какими-то толстыми, как будто я все-таки пишу тебе письмо на бумаге и эти фразы обвожу снова и снова. И знаешь, что самое постоянное? Даже не «здравствуй». Самое-самое, что остается постоянным всегда – это «Так жаль, Серега, что я не могу показать тебе Антарктику».
Так жаль.
Сейчас конец февраля, и лето на исходе. По ночам ненадолго становится темно, и, значит, мне пора на Север. В семь утра, когда я иду проверять датчики и менять кассеты, небо исчерчено цепочками облаков, как будто «Буран» проехал по гладкому снегу. Солнце высовывается из-за надувов, щиплет глаза – тут без темных очков не ходи – сожжешь и не заметишь! А снег чистый-чистый, синий в длинных утренних тенях, розовый, золотой, медовый в освещенных полосах. Все до горизонта полосатое.
Ну, это в хорошую погоду. Чаще натаскиваются от океана тучи, облепляют все кругом и сидишь как в вате – я ведь в первый год заблудился прямо у домика. Метель была, не видно ни зги. Леера я тогда еще не натягивал – и поперся на обход дуриком. Когда понял, что плохо дело, зарылся и включил сигналку. Дежневцы, когда я в двенадцать не вышел на связь, сразу прислали людей, выдернули как миленького, изругали и водкой напоили. Я водку, кстати, теперь пью совершенно спокойно. И не пью совершенно спокойно. Доктора дивятся.
А как офигительно красиво, Серега, когда туча только-только поднимается с горизонта, видная во всей красе: клубится, наворачивается на себя сама, сияет. День ясный, небо светлое, а у тучи светится не только верх, но и низ, как будто вечером. Это потому, что снег, который еще под солнцем, освещает ее снизу отраженным светом. В глубине-то туча синяя и черная, но тоже чистая, прозрачная. Вот когда облепит со всех сторон, заволочет ватой – тогда сереет.
Я не всегда тут один живу. Обычно где-то на половину лета приезжают ребята – метеорологи, в основном. За Откосом, где дежневцы живут, уже климат другой, хотя казалось бы, сто пятьдесят километров. Откос воздушные потоки сильно меняет. Я тут вообще много чего нахватался. Думаю начать всерьез учиться.
Вот иду сейчас вдоль цепочки датчиков, проверяю схемы. Хоть и по лету мороз не сильный, но бывает, сбоит. К тому же в теплое время года влажность гораздо выше – зимой-то, народ говорит, тут воду из воздуха вымораживает в ноль процентов. Жуть, конечно. А сейчас хорошо – под ногами немного поскрипывает. Нанесло последним ветерком. А то бывает, как по бетону идешь. Твердо да еще отполировано – хоть на коньках катайся. Но не скользит. А может, на городской обуви бы и скользило – да кому она тут сдалась, городская-то? Толку как со сланцев.
Вот который год я тут – а все смотрю и слушаю, и дивлюсь. Как мало людей все это видели… Да оно какое-то, конечно, и не очень для людей – что равнина эта, по которой полосы поземки текут реками; что небо это хрустальное, сияющее. В самый яркий день, бывает, начинают прямо из воздуха сыпаться снежинки. Ну, к холоду, понятно, мало радости; но стоишь и дуреешь – огромные, медленные, прозрачные, а сквозь них солнце. Народ рассказывает, какие тут полярные сияния – читать можно, и равнина до горизонта отражает цветные полосы. Что же, я не видел, ну и ладно. Я зато двойную радугу вокруг солнца раз пять видел, про обычное-то морозное гало что и говорить, тут это дело обычное.
Вот пройдет еще месяц, потом второй пойдет, и за мной приедет смена, зимники – они тут не меньше чем по трое живут – зима не шутит, это летом я тут могу один справляться. Они меня дачником дразнят. Но не сильно, они, в общем, с пониманием ребята.
И поеду я, Серега, на снегоходе до побережья, а оттуда побегу на кораблике до Африки, а оттуда уже самолетом в Москву. Самое это мерзкое дело, ты-то понимаешь. Но я уже приладился, в каюту ставлю четыре лампы дневного света, а иллюминатор задраиваю наглухо. А в самолете меня садят в середину салона, да я еще подгадываю, чтобы вылетать утренним. Пока до Европы доберусь – уже совсем очумевший, в Гамбурге обычно вырубаюсь и в Шереметьеве мне все по барабану, хватает обычного мазепама, чтобы не дергаться. И такой, на полуавтомате, еду я во Внуково, и в маленьком Архангельском аэропорту выхожу уже опять утром, светло и жить можно.
И иду я, Сережка, всегда пешком, хотя ни один нормальный человек после такого перелета пешком не попрется, а я не могу лезть в автобус, потому что в пять утра в апреле у вас там небо как пенка молочная, розовое и теплое. И деревья настоящие, уже задумавшиеся, а не к весне ли дело, и на снеге солнечные ожоги. Хорошо, что сейчас нормально стало с рейсами, а то один раз я в Москве застрял, пришлось в гостинице ночевать – а там известно какое освещение. Ну, вызвали мне коридорные бригаду под утро, еле не увезли в дурдом. Я же так и ору, ну ты помнишь. Каждому свое, да.
И, если что, ты знай – я на тебя никакого зла не держу. Не может быть никакого зла. Да я, думаешь, помню? Я бы и не знал, если бы Игореха не рассказал, что это ты меня душил тогда, ночью в госпитале. Мое дело же простое – в угол забился и выть, хе, и не помнить ничего. А Игореха, земля ему пухом, вообще соображухи не терял. Ни в больнице, ни там. Все в памяти держал, потому и сломался, наверное. Гамзат-то тот просто сердцем не выдержал, нянечки говорили, а Игореха, насколько я знаю, сам. Я бы тоже не вынес. Наверное, просто повезло нам с тобой, что тронулись быстро. Я ведь ничего не помню, с того момента как Вяха орать перестал, и начал булькать, – вы с Гамзатом еще пытаетесь докричаться, – что с тобой да что с тобой, а тут Азиз у меня над ухом спокойно так говорит «Я знаю, что это. Это муравьи» и через пару минут тоже начинает визжать. А дальше только и помню, как нас из ямы в светлое вытаскивают, и твоя рама уже вся переломана, и ты на запястьях висишь и рычишь, и рядом со мной тянут раму с тем, что от Азиза осталось, и тут я уже и до больницы ничего не помню. Мне уж ребята кое-что рассказывали, что в группе захвата были.
Я с одним из них до сих пор переписываюсь. Он и сказал, что они даже не знали, что живые пленные есть – брали штаб. Меня случайно услышали. И что иначе просто бы не нашли нас. И как они понять не могли, зачем возле ямы закрытой канистра меда валяется… А потом увидели муравейник.
Неизвестность и беспомощность, вот что самое страшное в жизни, мне так кажется. И эти сволочи, похоже, тоже так думали. Чтобы мы до последнего не знали, что нас убивает, и не могли ничего сделать. Но мы – я так думаю – каждый по-своему – все равно пытались. Понимаешь, Серега, мы же не сдались, мы пытались что-то сделать до самого конца. И теперь всегда, всегда так и делаем – потому что она же тогда кончилась, эта темнота. Значит, и в другой раз кончится. Каждому свое – ты драться, я выть, Гамзат в клубок зажимался. Игорехе хуже всех было – он запоминал, и когда отчитался – вроде как уже и больше ничего не мог сделать. Потому и сдался… И плевать мне что за него вроде как молиться нельзя – если не за него, то за кого же еще, Серега, молиться?…
И вот об этом я буду думать – я всегда об этом думаю, когда пароходик идет по медленной воде, и вокруг еще шуга, бывает, ходит – а бывает, чисто. А на берегу еще лежит снег, наш, северный, мягкий, слабый снег. Меня селят всегда в одну и ту же комнатку, окнами на север. Комнатка совершенно обычная, гостевая. Смешная такая, с веселенькими обоями, с узорчатым покрывалом на кровати. Потом я схожу, запишусь на какую-нибудь работу, что-нибудь всегда находится. Картошку ли чистить, простыни ли гладить, все не бездарем сидеть. Я ведь почти полгода буду у вас жить, только в конце августа уеду в госпиталь на месяц – ну, как всегда. А в этот, первый день я буду просто бродить и привыкать.
А вечером все пойдут в церковь, и я пойду тоже.
И я приду к дверям, и постучусь, и спрошу отца Симеона, и мне ответят, что схимников видеть не разрешается. А я спрошу, можно ли просто тебе передать, что я здесь. Не чтобы ты вышел, просто чтобы ты знал, что я рядом. Они скажут, что и это нельзя, и тогда я, как каждый год, повернусь и пойду сидеть на берег.
Нет, я знаю, что тебе там, где ты сейчас – тебе светло. Просто так жаль, что я не смогу рассказать тебе про Антарктику.
Остров Женщин
Уходя, Анна поцеловала Сабину в теплый лобик. Та пробормотала «пока, бабушка» и почмокала губами, проваливаясь обратно в сон. От детской подушки пахло деревенским молоком.
Анна тихонько заперла дверь. Сабине спать еще и спать, одна радость в этой второй смене. Что-то забыла. Что забыла? А, пакет с мусором. Анна поколебалась – не вернуться ли – но решила, что внучка вынесет. Девочка чистюля, даже напоминать не надо, заметит сама. Коврик у соседкиной двери сбился, Анна поправила его носком сапога и ступила на лестницу.
На полдороге вниз ее мысли уже ускакали вперед, на работу. Как там Леночка Фетискина? Что-то сегодня УЗИ покажет. Может, сходить к Валентине Палне вместе с Леночкой? А то разбирать потом, угадывать. Еще надо закрыть отчеты по последним неделям, а то что ж, лежат истории неподписанные, стыд какой… И еще надо бы договориться с эндокринологами, пусть кто-нибудь придет посмотрит Звереву, что-то она совсем уж располнела за два месяца.
…И все эти мысли и планы оказались зря, потому что у Марины Канунниковой сынишка лежал с тридцатью девятью, весь обсыпанный мелкими розовыми пузырьками, и Марина уже звонила на работу – сообщить, что плотно села на больничный, да пожалуй, еще и с карантином.
Завотделением поймала Анну в ординаторской, пока та еще не ускользнула по своим палатам.
– Ань, ну больше некому. Ольга Ивановна на операции. У Олега руки-крюки, он вечно расцарапает. Неля верующая.
– Раз верующая, пусть в нянечки идет, – огрызнулась Анна, – много стали себе понимать!
– Анют, ну пожалуйста… А я Нелю тогда посажу твои истории разгрести, она писучая, за день управится. Это же только на одно дежурство. Завтра Вадим Петрович выйдет, нельзя же его было с ночи оставлять.
Завотделением знала, чем подкупить. Все истории за одно поганое дежурство – это было искушение. И, что характерно, Анна понимала – завотделением могла просто поставить ее перед фактом. Во сколько УЗИ у Фетискиной? В полпервого, кажется. А может, и успеется.
Анна переоделась и отправилась посмотреть на сегодняшних. В холле первого этажа колыхалась унылая толпа женщин в домашних халатах, похожая на стайку заблудившихся куриц. Четырнадцать. Ну, до полпервого вполне можно успеть.
– Кто с анализами, ко мне, – кисло сказала Анна.
Ох уж эти абортницы. Сами понимают кто они. Что там про грех толковать, просто неудачницы. Жалкие, пристыженные, храбрящиеся. Ну, вот с этой все понятно, лет под пятьдесят (по карточке – сорок три…), от токсикоза вся зеленая, у рта платок. Судя по запаху, по дороге уже вырвало, и не раз. Дома, поди, уже двое есть. Да, двое родов… Не убереглась.
– Проходите на кресло.
Вот эта – помоложе, крепенькая, бокастая. Что такой не рожать?… Место работы – ЧП Бозоев, продавщица. Не замужем. Детей нет. Четвертый аборт. А предложить хозяину презервативами пользоваться? Эх…
Пошли безанализные, прижимающие свободной рукой локоть с торчащей ваткой. Толку-то что от того, что у них сейчас что-то найдем?… Анна кивнула головой, отпуская тринадцатую, предпоследнюю.
Ну вот, разумеется, без малолетки не обошлось. Драть бы тебя… Впрочем, шестнадцать исполнилось, не подкопаешься. Четыре месяца половой жизни, контрацепция… Контрацепция отсутствовала. Так и запишем.
По процедурной валандался анестезиолог Петенька, успевший уже договориться с большей частью абортниц за платный наркоз. Когда уже повсеместно введут приличное средство, а не этот калипсол, от которого в Марии Дэви Христосы загреметь ничего не стоит?…Анна вздохнула и попросила подкрутить повыше сиденье у операционного кресла – она была ниже ростом Марины Канунниковой. Ну, все? Раньше сядем – раньше выйдем.
– А вообще обещали сначала, что Брюса Уиллиса снимут. Да-с, – разглагольствовал Петенька сквозь маску, и вытягивал шею, внимательно наблюдая невидимое Анне женское лицо, – но нет, обойдемся, стало быть, Стивеном Сигалом – хотя совершенно, ну совершенно другой тип!
За что Анна любила Петеньку, так это за его способность отвлечь от самых тягостных мыслей. Хороший он, Петенька. Женить бы его на девушке стоящей, вон, сестренок сколько незамужних. Нарушая размеренность операционных звуков, хлопнула дверь, процокали каблуки (кто-то из сестер. Женя? Зачем? Что случилось?).
– Анна Петровна, как закончите, поскорее в отделение. У Фетискиной обильное кровотечение.
Ну нет, против этого и Петеньке не сдюжить… Анна подавила желание опустить руки и замереть. Четыре месяца на растяжке, все псу под хвост.
Сколько там осталось? Немного, пятеро.
Она была уверена, что рука не дрогнула. Но, право, что там цеплять-то делать, матка еще детская…
– Ох ты, – за спиной сказала Марковна и поспешила за дополнительным лотком.
Кровь уняли довольно быстро. Петеньке, правда, пришлось добавлять наркоз. Анна отметила про себя, что малолетке шел калипсол – интересно, не захотела платить или деньги кончились? Мало дают на мороженое?…
– Эту в общую палату. Сегодня не выпускаем, полежит пару деньков, там посмотрим.
Остальные операции прошли быстро, как по часам. Все тетки рожавшие, широкие, привычные. Что же там Леночка?…
Вечером Анна сидела в ординаторской, не в силах подняться. У Фетискиной отслоилась плацента больше чем наполовину, сохранять уже было нечего. Леночка храбрилась и обещала через год прийти на эту же кровать, Анна уверяла ее, что мало ли что бывает, в следующий раз все получится, но обе больше хорохорились друг перед другом. У Князевой упал гемоглобин. Тоже не здорово, но пока назначили железо, а завтра посмотрим…
Затрезвонил телефон.
– Здравствуйте, – вежливо сказала Сабина и шмыгнула носом, – не можете ли вы позвать Анну Петровну?
– Что случилось, солнышко? – спросила Анна. От одного внучкиного голоса – теплого и домашнего – ей стало легче.
– Ты скоро придешь, бабулечка? – тихо спросила Сабина, – мне сегодня двойку поставили… Мне очень грустно. И я лапшу сварила, вот жду когда ты придешь, будем с соевым соусом есть.
Сабина была не только самостоятельная, но и очень заботливая девочка. Таня, ее мать, четвертый год крутилась офис-менеджером в Москве, все надеялась выйти замуж. С замужем получалось не очень, присылала она на содержание Сабины долларов полтораста, редко двести, но Анна была не против такого положения. Жили они с внучкой не роскошно, но и не бедствовали, а за ее воспитание под рукой у Тани Анна была бы не спокойна.
Но двойка – это было ЧП, бесспорно. За четыре класса какая? Не то третья, не то четвертая. Анна прикинула, будет ли открыт еще ближний магазин, пока она доедет до дому. Сабину надо было утешить чем-нибудь вкусным. В то, что внучка заработала пару по собственной вине, Анна не верила нисколечки.
Наутро, еще до обходов, Анну вызвали в приемный покой.
– Поговори ты с этой мегерой, – устало сказала дежурная, пожилая Ольга Ивановна, – никаких моих сил нет. Понимаю, почему вчера дочь ее едва в халате не убежала, лишь бы эта ничего не знала.
Мамаша вчерашней малолетки требовала врача, который работал с ее дочерью.
– Девочка пришла к нам с кровотечением, – врала Анна, глядя в налившееся дурной кровью (а давление у ней, похоже, кошмарное) лицо посетительницы.
– Вы должны говорить со мной абсолютно откровенно, – напирала та, – я мать, вы понимаете, что это такое – МАТЬ!!! Я обязана знать, что происходит с моей дочерью. Признайтесь, она делала аборт?
– Аборты были вчера текущие по заблаговременной записи, а в приемном покое работают ежедневно с приходящими, и с теми, кого привозят на Скорой, – плавно продолжала Анна, – Аникушина лежит в палате отделения общей гинекологии, а абортных мы вообще в тот же день всех выписываем, это вам любая нянечка скажет. У вашей девочки произошло серьезное нарушение цикла, она совершенно правильно сделала, что обратилась в больницу…
– Почему вы дурите меня? Кто вам дал право? Вы обязаны, я подчеркиваю – вы просто о-бя-за-ны пропустить меня к моей дочери, я этого просто так не оставлю, я дойду до главного врача!
Анна закатила глаза (и за что мне это горе?) и вздохнула.
– Если бы девочка делала аборт, вы бы этого даже не узнали, честное слово! Она бы ушла домой еще в пятнадцать часов, вместе со всеми, мы палаты абортные в шестнадцать уже моем и кварцуем, там нет никого, вы понимаете? Она бы сейчас сидела дома и вы думали бы, что у нее месячные. Все. Класть ради этого в больницу нет никакой, я подчеркиваю, никакой необходимости. А к вашей девочке я бы рада была вас пропустить, но сейчас ходит ветрянка, а в отделении несколько палат беременных на сохранении, так что уж простите, это карантин, с этим строго. Дня два она пробудет на постельном режиме, если кровотечение не повторится – послезавтра придете и заберете ее домой. Никто не собирается мариновать тут ее без причины, вы уж поверьте.
Доводы Анны на даму подействовали, она слегка успокоилась и удалилась, бурча, что она, тем не менее, проверит все, что можно.






