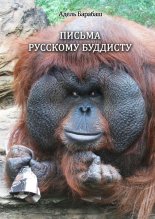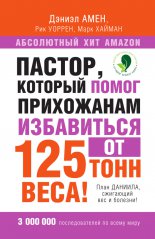Машка как символ веры Варфоломеева Светлана
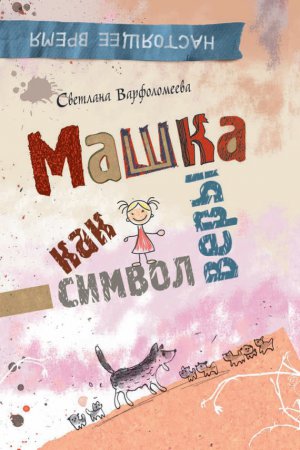
Мама
Его подойдет точно. Жорик сказал: не надо анализов, я отдаю свой мозг без проб. Если надо больше, возьмем у Борьки. Вам, девочки, волноваться не надо. Интересно, он дурак или прикидывается? Раз пять я ему объясняла про трансплантацию костного мозга. Он каждый раз делал вид, что слушает. И про то, что шанс найти донора в семье очень невелик. И даже братья и сестры подходят только в двадцати пяти процентах случаев. Но исследование делать надо. В отделении были детки, которые совсем уже собирались выписываться, а при обследовании оказывалось, что все надо начинать сначала.
Еще приплел Борьку. Хорошо, не вспомнил про свою Лилю. Из-за нее вся его одежда пропахла запахом духов. Даже во сне он иногда говорил «Лиля». Я всегда молчала об этом, подумаешь, секрет Полишинеля. А сейчас ужасно захотелось ему напомнить. Он что думает? Обследование – не рыбалка, а Машка – не рыба.
Вера
Машка – не рыба.
Я думала, что мама съехала с катушек. Никто и не думал, что рыба. Я всегда говорила, что хорек. Но тут сразу стало шумно и весело. Я так соскучилась по их скандалам. Мне даже стало стыдно за свое счастье. Мама кричала, что ее никто не слушает и папа ходит только на свою рыбалку. Он кричал:
– Я на рыбалке был год тому назад.
Мама с ходу придумывала что-нибудь еще.
– Ты не Господь Бог, чтобы придумывать грехи, – отвечал отец.
– Это я придумываю? А кто сжег Машкино одеяло, когда курил на балконе?
– Какое одеяло?
– Шерстяное, розовое, с мишками.
– Ир, это было лет пять тому назад.
– Я не спрашиваю – когда, я спрашиваю – кто? Ну, вспомнил? А кто потом одеяло покупал? На ком весь дом? Все, – сказала мама. – Ты костный мозг не сдаешь. Нам от тех, кто жжет детские одеяла и считает ребенка рыбой, мозгов не надо. Тем более что их у тебя нет. Брать нечего.
Отец
Брать нечего. Это у кого брать нечего? У меня институт с красным дипломом. Я по-английски со словарем читаю, я в шахматы играю. И никого рыбой не считаю.
Вера
«Я по-английски со словарем читаю, я в шахматы играю. И никого рыбой не считаю». Ни фига себе, отец заговорил стихами. Мама медлила и явно находилась в цейтноте. Но на то она и мама, чтобы никогда не попадать в безвыходные положения.
– Так, а кто ездил в Анапу?
Я не знаю эту историю, но в ней явно есть что-то подозрительное. Каждый раз, когда мама говорит: «Так, а кто ездил в Анапу?» – отец делается ниже ростом и проваливается куда-то под пол. В этот раз ничего нового не произошло. И, гордо подняв голову, мама пошла на выход:
– Пойду аквариум посмотрю.
– Какой аквариум, Ирочка?
– В котором рыбы живут.
И ушла на кухню готовить обед.
Вопрос с костным мозгом повис в воздухе. Я очень хочу, чтобы Машка выздоровела. Но как этот костный мозг будут брать? Я могу потерпеть, мне и молочные зубы выдергивали, и уколы делали, но по поводу костного мозга я ничего не знаю. Спрашивать у мамы подробности было уже неудобно. С одной стороны, она может подумать, что мне для Машки чего-то жалко, а с другой – мы в последнее время и не разговаривали совсем. То есть, конечно, все время разговаривали, но только по делу.
Просто мне тоже хотелось маму, свою собственную маму. Я еще маленькая. Меня никто не спрашивает, как у меня дела. Когда возникает вопрос про оценки, правду говорить нельзя, иначе мама расстраивается. Лучше всего наврать, тогда она говорит: «Молодец». Правда, когда я наврала про две пятерки по алгебре и одну по геометрии, отец попросил дневник. Но он же подписи математички не видел ни разу. А у меня есть ручка, которая потом стирается. Поэтому целых полчаса в моем дневнике было три пятерки по математике за одну неделю.
Идея с ручкой Светкина. Раньше мама не очень любила, когда я ходила к ней. Называла ее девушкой с неопределенным будущим. Светкины родители точно знали, что у нее будущее вполне определенное, и в красках описывали его каждый день.
– Не поверишь, – говорила Светка, затягиваясь сигаретой, когда мы стояли за школой. – Вчера мне сказали, что я буду парикмахером. Ты знаешь, мне эта идея так понравилась. Может, мне быть парикмахером?
– Стилистом, – поправила я Светку, тоже затягиваясь.
– Нет, они сказали парикмахером, это типа не cool.
– Стилистом тоже не cool, сейчас все стилисты.
Светкина мама работала доцентом в институте, а ее папа – врачом. Светка считала, что у них конфликт поколений, и жила на той же лестничной клетке, но в бабушкиной квартире. Бабушка была колоритная. Во-первых, она была ужасно старенькая, родилась до войны и в детстве жила под немцами в оккупации. Во-вторых, гнала самогон, который мы и попробовали во втором классе. А когда Светкина мать конфисковала аппарат, бабка стала заходить к соседям с предложением «вмазать по маленькой». Бабушка была страшной тайной, портившей благополучную картину счастливой семейной жизни.
Вообще у меня в школе было две подруги: Светка и Марина Ивановна. Марина Ивановна на самом деле была Мариной Ивановой, но все называли ее Мариной Ивановной. Когда Машка заболела, Светка сделала вид, что ничего не произошло. Она мне ни слова не сказала. Ее отец звонил, какую-то помощь предлагал. «Ты ему не верь, это он всегда выделывается. Смотрите, какие мы заботливые и предлагаем помощь». Маринка ходила вокруг меня кругами, сетовала на то, что Светка черствая:
– Давай я буду твоей лучшей подругой. Ты же понимаешь, две лучшие подруги – это нонсенс (она любила такие слова), а я тебе помогаю.
Мне действительно было обидно, что Светка никак не отреагировала. Но в воскресенье она позвонила и спросила:
– Ну, ты уже собралась?
Такая идиотская манера ничего не объяснять и задавать дурацкие вопросы.
– Куда?
– В больницу, я приду через две минуты, иди вниз.
Через две минуты я стояла внизу, лохматая и сонная.
– Свет, мы куда идем?
– К Машке в больницу.
– А деньги мы где возьмем, ты же знаешь, мне отец не оставляет, на что поедем?
Оказалось, что деньги дала Светкина бабка, причем с запасом, «на гостинчик». Деньги у нее делились на две части: одна – для жизни, вторая – на всякий случай. Всякийслучайные деньги хранились за иконкой Николая Угодника. Вечером позвала меня, и деньги из-за иконы вытаскивает. «Ты чего? Зачем?» Обычно она их доставала, чтобы перевести на какое-нибудь доброе дело. Давала Светке номер расчетного счета из газеты, и та шла в Сбербанк.
– Кому переводить?
– В Балашиху ехать, – решила бабушка. – У вас же там детка в больнице, а вы не едете никто.
И мы поехали.
Марина помогала словом. Хорошо помогала, с чувством. Я у нее дома на кухне плакала, плакала, когда чай пили, а она меня гладила по голове, но чашку потом выбросила в мусорку, я заметила.
Однажды я услышала, как в очереди в буфет она рассказывала девчонкам из «Б» класса, что старается мне помочь, потому что моя сестра скоро все равно умрет, и никто не доказал, что рак не заразный, а она не боится и рискует ради дружбы. Хотя ее родители против.
Я первый раз подралась в школе. Получила два за поведение в четверти. Классная сделала запись: «Бьет девочек на перемене». Но с Ивановой я больше не разговаривала.
Я набрала Светкин номер.
– Ты что-нибудь знаешь про костный мозг и трансплантацию?
– Ба, бабушка, расскажи, что ты знаешь про трансплантацию костного мозга.
Через минуту я услышала в трубке старческий голос:
– Сейчас костный мозг не берут, только кровь, перед этим делают укол, чтобы полезных клеток было больше, и потом ее переливают тому, кто болеет. А ты Машке по типированию подошла?
Откуда у Светкиной бабушки были такие знания?
– Нет, мы только поедем обследоваться.
– Ты не волнуйся, просто возьмут кровь из вены в пробирку, а потом дадут ответ.
– А вы откуда знаете?
– Так, из журнала «Здоровье». Еще в кино видела. Тут в одном сериале мальчонке надо было костный мозг пересадить, младший-то брат был не от отца, а мать за деньги хотела, чтобы результаты подделали. Но там одна девушка была, она все разузнала и подделать не дала. Ведь если костный мозг не подойдет, умереть можно. А она, мать, представляешь, хотела ребенка на погибель отдать, лишь бы только место у богатого мужа сохранить.
Светкина бабка продолжала рассказывать историю бессердечной южноамериканской матери дальше, а я подумала: «Вдруг мы с Машкой не родные?»
Мама
– Мы с Машкой родные? – спросила Вера.
– В каком смысле?
– Ну, в смысле родители у нас общие?
– Пока были общие. А тебя что так волнует?
– Вдруг на обследовании окажется, что мы не родные?
Я засмеялась:
– Нет, уверяю тебя, окажется, что родные. И никаких тайных принцесс крови в нашей семье, к сожалению, нет. Так что и платить за обследование нам придется самим.
– Ты же говорила, что у вас там бесплатно.
– Этот анализ делают в научном институте, а там платно, почти по сто долларов с человека, по курсу рублями. Значит, с нас четыреста долларов. Хорошо еще, что у нас всех кровь возьмут в отделении и за это платить не надо.
Вера пошла звонить Светке. В последнее время она ей звонит по сто раз в день. Я не спрашиваю, что они там обсуждают. Но постепенно Светка перестала быть отрицательной героиней.
Ладно, об этом можно подумать завтра. А вот о деньгах стоит подумать сегодня. Еще год назад 400 долларов выглядели большой, но не безнадежной суммой. Мы оба работали. После того как Маша заболела, понадобилось много денег, все деньги, какие были. Самым дорогим оказался транспорт. В смысле, дорога.
Когда Маша снова стала жить дома, а мы – ездить на уколы в больницу, деньги кончились первый раз. Гошка пытался найти еще какое-нибудь место, чтобы заработать, но какое? Заведующая дала нам справку, что мы нуждаемся в «индивидуальном транспорте», но что это такое, в нашей больнице не знали. Я сходила в то, что раньше называлось Собесом. Там сидели две тетушки, которые и так меня жалели, и так, и слезу уронили, но помочь не смогли. Светкина бабушка, очень активная старушка, пошла по нашему, как она выразилась, делу в администрацию. После чего нам со скрежетом стали давать машину без бензина, но с водителем. Но те тетушки, которые в прошлый раз в Собесе окропили себя слезами, орали на меня так, что я почти поверила в то, что и в прошлый раз они машину предлагали, а я, дура, не поняла.
Кроме этого, деньги потратились на квартиру. Мы купили озонатор для очищения воздуха (не обязательно, но было бы неплохо), успели поставить стеклопакеты в комнате, которая теперь стала Машкиной, поменяли сантехнику и ванну (на самом деле давно собирались) и стали ремонтировать нашу машину. Пока мы были в больнице, потратили кучу денег на мобильный телефон. Конечно, в холле был обычный, по карточке, но туда надо было идти, переобуваться, иногда ждать в очереди, а с мобильным было попроще. На работе мне собрали деньги, немного, долларов двести. Они почти сразу ушли, даже непонятно куда. И эти четыреста долларов были как-то некстати.
Я чувствую, что Гошка уже влез в долги.
Отец
Влез в долги. Я по уши в них провалился.
– Борь, нам анализ нужно сделать, одолжишь мне четыреста? Свободно? Спасибо, ты не представляешь, как выручил! Я тебе только отдать сразу не смогу. Но так, по сто долларов в месяц, пойдет? Але, Борь, не слышу! Але! Не молчи! А, так ты подумал – рублей, а в плане долларов напряг. Ну, извини.
– Вер, – обратился я к дочери, – ты там деньги мне показывала, можешь их на анализ отдать?
Вера принесла свои деньги, которых почти хватало на одного человека. Можно было еще что-нибудь продать. Но из того, что можно продать быстро, не было ничего. Если бы мне, сорокалетнему мужику, еще год назад кто-нибудь сказал, что я буду искать деньги, а мне их не будут давать, – и кто? Борька? – я бы не просто не поверил, я бы подумал, что у этого кого-то проблемы с головой. А сейчас я по копейкам должен искать эти деньги.
– В принципе, – сказала Вера, – можно занять у Светкиной бабки.
– Вера, нам Светкины родители одолжить уже не смогли. А у бабушки ее откуда?
Даже не сказав трогательного «от верблюда», Вера пошла звонить. И через пять минут убежала. Ей было просто стыдно, что и ей отказали. Я понимал, что есть варианты совсем неприятные, но если что, придется и туда обратиться.
Тут кто-то стал открывать входную дверь, и в проеме показалась рука с ногтями, накрашенными истерично розовым лаком, вцепившаяся в четыре сотенных долларовых бумажки.
– Вера, откуда у тебя такой похабный лак? – спросил я, забирая деньги.
– Мне Светка дала накраситься, а что? Классный лак. Ладно, я пошла, она меня ждет на лестнице.
– Вера, а как позвонить Светиной бабушке? Я хочу ее поблагодарить и договориться о сроке возврата денег. Ты сама понимаешь, эта ситуация случайная, и ты не должна расстраиваться по этому поводу.
– Я не расстраиваюсь. Про деньги она сказала, что отдавать не надо, это все равно на добрые дела. А позвонить можно по телефону. Светка же у нее живет. Ты номер знаешь.
Дверь хлопнула. Вера ушла. Я и не знал, что Света живет с бабушкой, у нее полный комплект, скорее, боекомплект родителей. Ира говорила, что на школьные собрания они всегда ходят вдвоем, и даже за руки держатся. Такие положительные. А девочка у бабушки? Ну, в принципе это дело не мое.
По телефону мне ответил голос старого курильщика.
– Ты меня послушай, я жизнь прожила. Все хотела куда-то успеть. Перехитрить всех. Детей своих учила не упустить ничего, все при себе держать. А сейчас уж ничего не хочу. И помочь-то ничем не могу. Вот как Гулька, моя старшая дочь, умерла, я ее квартиру продала и понемножку, на разные дела деньги посылаю. Пусть Гульке на том свете это зачтут и в рай направят. Я-то чувствую, что не там она. Молодые на меня за квартиру так обозлились, что и не разговаривают до сих пор. А Светка ко мне перешла. Ты не вздумай мне ничего отдавать, это деньги не мои. А с Машечкой твоей хорошо все будет. Я и на картах смотрела. Если вдруг на что еще будет надо, скажи, Гулечкины денежки помогут.
Потом она мне рассказала новую серию бесконечного сериала, наполненного акушерско-гинекологическими проблемами. И отключилась. Да, оказывается, что в моем возрасте можно удивляться не меньше, чем в детстве.
Мама
В детстве у нас не было йогуртов, Барби и фломастеров, чтобы ими рисовать на футболках. Эти мысли занимали меня по ночам, в первый месяц Машкиной болезни, когда мы лежали с ней в больнице. Спать я все равно не могла. Следила, дышит Машка или нет. Потом я не спала из-за усталости. Потом потому что подружилась с Сашиной мамой, и мы с ней не спали вместе.
Через месяц я увидела в зеркале старую, морщинистую и уставшую тетку. Так как за это время я чуть-чуть стала привыкать к тому, что случилось, то мысль, что Машка каждый день видит меня такой, была обидной, что ли. Главное, оказалось, что мне некому об этом сказать, я и не очень понимала, что сказать. Что у меня морщины? Что за месяц меня муж ни разу не приласкал? Как об этом можно говорить, когда вокруг такое? Жорик весь был как ушибленная коленка, только слезы и просьбы записать все на бумажке, а то он забудет. Мать готова сутками читать нотации. Вере? Что она поймет? Подруги за долгую супружескую жизнь подрастерялись.
И я рассказала врачу.
Лечащий врач
Рассказала мне о том, что жить не хочет, что сил нет. И хоть ей стыдно, но она сдается. Передо мной стояла довольно молодая, уставшая от боли и тоски женщина. Она была ненамного старше меня.
– Вдруг я ее больше не люблю, если об этом думаю?
– Любите, конечно любите. Все пройдет. Но вам нужно отдохнуть.
– Как? Где? А Машка?
– Вы знаете, за два часа ничего не случится. В вашей палате Саша с мамой. Мама посмотрит за девочками.
– А куда я пойду?
У меня было чувство, что я ныряю в глубокий колодец. Никогда нам не рассказывали, что нужно говорить родителям, если они не хотят жить и боятся разлюбить детей. Настоящим родителям. Для которых это не минутная истерика. Да, и тем, у кого минутная, тоже.
– Вы пойдете в салон красоты, где самые лучшие мастера и хорошая музыка. Вам сделают маску для лица и массаж бесплатно, я договорюсь. Когда приедете домой, то все увидят, что несчастье не сделало вас профессиональной страдалицей и вы продолжаете жить. Это важно не только вам, но и тем, кто рядом с вами. Без вас ни с Машей, ни с Верой, ни с Георгием ничего хорошего не будет. Вы – веселая, значит, все хорошо. На каждую вашу улыбку они ответят смехом. На каждую новую морщину – слезами. Нам с вами слезы не нужны. Собирайтесь.
Мама
«Собирайтесь». Тоже мне совет. Никуда я не поеду. Вдруг я поняла, что испытываю сильные чувства. Кроме тоски, в последнее время ко мне приходили лишь уныние и печаль. А здесь бегом, без дороги, неслась злость. И умирать расхотелось. Наша врач помнила, как зовут всех моих домочадцев. Я знала, что у нее маленькая дочь, учится в начальной школе, ее иногда приводят в ординаторскую делать уроки. И слышала, как мама-врач ей говорила:
– Ты посиди здесь пока одна, я должна посмотреть детишек, которым сейчас плохо.
В другом конце коридора, в кабинете заведующей, так же воспитывался еще один ребенок. Девочка была чуть старше, наверное, играла на виолончели, потому что часто ее привозили с портфелем и большим, в ее рост, футляром. И сидели эти горемыки по разные стороны коридора, набираясь своего детского опыта ответственности и раннего взросления.
Мы, конечно, с мамами врачей обсуждали. Это понятно. Слишком многое от них зависело. Про нашу ни разу никто не то что плохого, даже нейтрального слова не сказал. Только хорошие.
Одну историю рассказывала про себя мама Лена. Их лечили в обычной больнице от воспаления легких и вдруг выяснилось, что это совсем не воспаление, а уже метастазы в легкие. И тут же вечером нашли машину и привезли в детскую онкологию. Здесь был уже и отек легких, и клиническая смерть, но Татьяна Владимировна, наша врач, которая дежурила в ту ночь, девочку спасла. Всю ночь она от ребенка не отходила. Когда к утру Сонечка порозовела, Лена спросила: «А когда врачи придут?»
– Ты понимаешь, – оправдывалась потом Лена, – я не могла поверить, что так может быть. Она всю ночь, всю ночь и мне теплое словечко, и Сонечке. А сама такая молодая, такая хрупкая. Ты думаешь, она обиделась?
Я честно сказала, что не обиделась. Она слишком умная и опытная, чтобы на это обижаться. Сонечкина мама навсегда поверила, что Татьяна Владимировна – врач на все времена, и старалась задать ей даже не очень важные вопросы, на которые сама знала ответы.
Я пошла к Машке. На ней была уже испачкавшаяся майка, которую я надела часа три назад. Такие же вещи с вечно перепачканной едой грудью были у нее в детстве, несмотря на всякие слюнявчики.
– Маша, что тебе купить из игрушек?
Дочь ответила мне привычным взглядом королевы в изгнании:
– Где?
– В магазине.
– В каком?
– Маш, оставь. Скажи просто, что ты хочешь.
Тут разговор заклинило на мелочах. Мы сначала выясняли, почему я иду на улицу, потом – куда я иду, то есть в какую сторону, направо или налево. Потом – с кем я иду, и, наконец, что она будет есть.
– Маш, йогуртов не бывает яблочно-малиновых. Есть варианты. – Я поняла, что о вариантах йогуртов знаю больше, чем нужно в обычной жизни. – Итак, груша-абрикос, маракуйя-персик, яблоко-корица.
Машка продолжала смотреть на меня во все глаза.
– Мама, – остановила она меня на седьмом варианте, – надо в яблочный йогурт положить ложку малинового варенья, так Сашина мама делает.
Обладающая от рождения злобным характером и взглядом, одновременно удивленным и вредным, Маша выглядела сейчас гораздо добрее и умнее меня.
Только выйдя на улицу, я поняла, что в свойственной ей царственно-строгой манере моя дочь так и не сказала ничего про игрушки. Она, как обычно, поговорила на тему, которую сама выбрала, и прекратила разговор.
На улице была вьюга. Мелкие льдинки, прикидывающиеся снежинками, били меня в лицо, из-за ветра было невозможно глубоко вдохнуть. Номер маршрутки я помнила, но на проезжавших мимо маршрутных такси и автобусах номеров все равно видно не было. И я поймала частника.
Одна, в чужом, практически незнакомом городе. О Балашихе я знала только, что «есть рынок на Южном», в «Геркулесии» куры дешевле, а в «Планете» лучше. Лет десять я не ездила одна на такси, – или с Жориком и девочками, или на электричке. Пурга мешала мне разглядывать город. Но, отвлекшись впервые от постоянной боли, я стала с интересом, даже сквозь снежную стену, рассматривать стволы деревьев и заполненные людьми остановки.
– Знаете, как называют Балашиху?
– Нет.
– Город ста светофоров. Они тут везде. Кстати, меня зовут Саша.
Меня некстати звали Ирой. Вместо того чтобы назвать свое имя, я смотрела на незнакомца, открыв рот. Даже шея затекла. Во-первых, со мной никто не знакомился давным-давно. Во-вторых… ну, во-вторых, я сегодня утром собиралась умирать. В-третьих, у меня в больнице лежала дочь.
Тьфу, чушь какая-то. Если я скажу свое имя, то никого этим не предам.
– Ира, – сказала я густым, низким голосом.
– А в «Маску» зачем? Стричься?
– Ну и стричься тоже.
Оказывается, я уже забыла, что со мной можно разговаривать об этом. Наконец мы остановились. Сказать честно, я только лет в тридцать шесть узнала, зачем ходят к косметологу. Когда была моложе, то казалось, что это от лукавого. И, попав первый раз в косметический кабинет в санатории, исключительно от безделья, сказала единственное известное мне слово «чистка», после которой еще два дня не выходила из номера. Лицо горело, болело и казалось обожженным на солнце, хотя в местечке Кабаний Мост, где мы отдыхали, было минус двенадцать градусов и снег.
Отец
И снег. Машина с трудом пробиралась сквозь снежный заслон. Лобовое стекло, и я вместе с ним, ослепли, колеса испуганно жались друг к другу. Дворники давно умерли. Наконец я подъехал к больнице. По территории носились щенки. Рыжая собака, по кличке Сабрина, названная так за исключительно привлекательные формы, родила восьмерых. Ирина рассказала Машке о щенках, и мне было поручено сфотографировать их и предъявить ребенку. Следом за фотографиями появился интерес к книгам о собаках. Мы их покупали все, включая «Все об уходе за охотничьими и сторожевыми собаками». Машка их внимательно слушала и даже, со слов Ирины, читала сама.
Ко мне вышла мама соседки Маши по палате:
– Скоро придет.
Мама
Скоро, скоро. Я лежала на специальном подогреваемом кресле. Ловкими руками косметолог делала мне массаж лица и накладывала маску. Ноги мне укрыли пушистым одеялом. Было очень приятно, но охватывало чувство вины. Я здесь лежу, а Маша там одна. Музыка чуть притупляла эти чувства, но все равно внутри вертелось что-то неприятное. В какой-то момент я поняла, что держусь руками за кресло, чтобы не убежать отсюда.
– Дышите глубже и реже, вам надо расслабиться, – сказала косметолог с бейджиком «Ириска».
Она отпустила меня через час. Обратный путь я проделала в переполненной маршрутке. Сидячих мест не нашлось, и я ехала, изящно изогнувшись в позе дождевого червя. Рядом мама объясняла девочке чуть старше Машки, что она «уродка безмозглая». Девочка, видимо, была привычная и, отвернувшись, смотрела в окно. С другой стороны мужской голос, обладателя которого я не могла видеть, советовал какой-то Галке идти со своими претензиями куда подальше. «Галка» и «претензия» он сказал по одному разу, а остальные пять остановок объяснял, где это «куда подальше», используя весь набор ненормативной лексики. Судя по запаху, водитель непрерывно курил. В окнах проплывали рекламные растяжки о суши на дом, итальянской пицце туда же и выездном антрепризном спектакле «Чужие». Богатый досуг.
В больнице ничего не изменилось, кроме появления скорбного монумента «Ожидание жены, ушедшей неизвестно куда без мобильного, по которому отвечает Маша».
– А ты почему без сумок? Где ты была?
– Жор, сейчас я вернусь, только посмотрю, что у Маши.
– Мама, знаешь, почему снег скрипит у нас под ногами?
– Почему?
– Потому что молекулы трутся друг о друга. Мне Саша сказала.
Саша была удивительным человеком. Она была очень хороша собой: тонкий профиль, длинные, тонкие музыкальные пальцы. Мягкий, податливый голос. И мама – художница. Самое ужасное, как мне казалось вначале, это то, что у нее… не… как бы это сказать… у нее одна нога была ампутирована до бедра. Поначалу я не знала, как с ней разговаривать. Мне казалось, что Сашенька – самый несчастный человек на свете. К ней часто приходила заведующая, они рассказывали друг другу сны, смотрели Сашины фотки из прошлой жизни.
В палате дружно любили собак, и постепенно Машка стала активным участником разговоров о них. Сашина мама шепотом пересказывала мне свои разговоры с заведующей.
«Она должна хотеть жить дальше. Сама хотеть. Если этого не будет, то, сколько бы ей ни было отпущено, жизнью это не будет».
Мама понимала и тихо плакала по ночам в коридоре. Днем она часто рисовала Сашины портреты карандашом. И потом, когда Саши не стало, я угадывала на этих портретах без дат, сколько той оставалось до конца. Постепенно взгляд становился прозрачным, черты лица бестелесными, и эти маленькие портреты все больше походили на иконы.
Однажды наша врач спросила:
– Где ваши учебники?
Маша, по своей привычке, отодвинула меня и пообещала, что читать и писать она, конечно, будет. Еще будет учиться рисовать у Сашиной мамы. Но математикой заниматься – нет.
– Мафа, – сказала Татьяна Владимировна, – если не будешь учиться, рисовать тебе придется деньги, потому что настоящих ты не заработаешь.
И мы стали рисовать деньги, а потом их считать. В целом Машка идею продолжения образования одобрила. Но оно было сопряжено с кучей проблем и условностей. Во-первых, она очень хотела, чтобы к ней приходили учителя и ставили в дневник оценки. Учителей в больнице не было, и к нам никто не приходил. Во-вторых, она потребовала, чтобы мы завели классный журнал (общую тетрадь), расчертили графы для учеников и оценок, и каждый день я проводила занятия с виртуальным классом.
У нас были свои отличники. Когда я вызывала к доске виртуальную Свету Старорусову, Машка хмурила брови, делалась серьезной и старалась отвечать хорошо. Но если звучала фамилия Эдика Воробьева, то она даже говорить начинала по-другому, смешно растягивая слова и чуть-чуть шепелявя. Занятие это было довольно утомительным, тем более что нас перевели от Саши в другую палату, и подружки у Машки пока не было.
Зато у меня оказалась удивительная соседка. Утром, когда я уже мыла полы, она обычно потягивалась на раскладном кресле. Я не могу сказать, что сильно злилась на нее, ведь делала я это для Машки, но осадок бабской обиды оставался.
Я стала очень раздражительной, и то, что раньше значило не больше чем шум дождя в соседнем городе, теперь приобретало глобальное значение, всегда окрашенное черным цветом. Например, муж моей соседки, – мне и дела до него нет, но каждый день он подходил к окну, и начиналась одна и та же песня: «Когда Зайка вернется домой?»
Оказалось, что Зайка – это вовсе не их пятилетний сын Сашка, энергии которого хватило бы на пятерых здоровых детей. Сашка преданно любил своего врача, молодую Любовь Анатольевну, которая заражала всех вокруг своей неуемной энергией, весело смеялась, очень хорошо делала пункции и ставила капельницы.
– Любочка, милая, – причитал Сашка перед любыми манипуляциями, – спаси меня, свою радость.
Это она его так называла – «радость моя». Если по какой-то причине Любови Анатольевны на работе не было, Сашка изобретал любые способы не допустить осмотра другим врачом. Самый частый назывался «беспробудный сон». Внимательно прислушиваясь к любым шагам в коридоре, он был готов нырнуть под одеяло и притвориться спящим. Если этот номер не проходил, тогда использовался метод «я кушаю». Хитрый, как лиса, он упрашивал открыть ему банку с детским питанием и поставить на тумбочку, и если первый метод применялся уже несколько раз за день, тогда при приближении шагов он срочно хватался за банку. И тут уже даже его мать вмешивалась:
– Господи, дайте ребенку поесть!
В принципе любые действия врачей вызывали у нее недовольство. Я не помню, чтобы она осталась довольна хоть чем-нибудь. Часто приходят смотреть ребенка – плохо, редко приходят – плохо. Пришла врач вместе с молодым ординатором – плохо, пришла одна – плохо, что-нибудь не заметит. Больше всего ее раздражало, что врачи на работе ели. Она знала, во сколько они пьют чай, и немедленно шла в ординаторскую с вопросом. Например, оказывалось, что срочно нужно посмотреть продукт работы Сашкиного кишечника.
– Пойду, стул покажу, – радостно собиралась она в поход.
Любовь Анатольевна много раз просила ее не ходить с судном по коридору и сама прибегала в палату посмотреть. Но моей соседке доставляло истинное удовольствие метнуться с полным судном к врачам, когда те пытались поесть. Однажды, когда мы снова оказались в отделении вместе, Сашка лежал в отдельном боксе и страдал животом. Врачи расспросили соседку о Сашкином питании все, с ног до головы. Она честно рассказывала, что ел он только свежее, что разрешают, и прикладывала к глазам платочек.
– Вы давали компот?
– Да-да, свежий компот.
– А где вы его взяли?
– Как где? В тумбочке взяла, теплый, не из холодильника. Он вообще в холодильнике не стоял, он свежий.
– А когда вы туда банку поставили? – так же спокойно спросила доктор, Светлана Викторовна.
– Как когда, дня три назад.
Светлана Викторовна, которой бы сниматься в кино по ее красоте, молча вышла из палаты.
Соседкин муж, приходя под окно нашей палаты, живописал свои страдания без жены: «И супчик мне никто не погреет, и рубашки все мятые». Он делал бровки домиком, губки – трубочкой, прижимался носом к оконному стеклу и так стоял минут по двадцать. Хоть их семья и жила недалеко, но никаких продуктов он ни разу не принес: «Зайчонок, ты же лучше знаешь, где что продается, слетай».
Накануне выписки он попросил меня приглядеть за Сашкой, потому что Зайка пошла домой убраться. При этом моя соседка была искренне уверена, что он ее нежно любит и жить без нее не может.
Сегодня утром, когда она, вдоволь потянувшись на своем кресле, пошла умываться, я поняла, что у нее нет зубной щетки. Сначала я увидела, что у нее нет зубной пасты, а тут оказалось, что она и щетку не носит с собой в душ.
– Сейчас я встану, а ты, Ирин, мой, если хочешь. Хотя ты знаешь, я не разделяю. Санитарок полно, и все на зарплате. Что ж ты горбатиться будешь? Ты думаешь, тебе спасибо скажут?
– Послушайте, Марина Борисовна, тут моя дочка лежит, я хочу, чтобы у нее все было самое лучшее, насколько могу это сделать. Санитарки моют пол за зарплату, а я для своего ребенка. Вот и вся разница.
Зачем я ей все это говорю? Она надулась, но ответила:
– Я ухаживаю за ребенком.
Так уж и ухаживает (вот снова бабская обида полезла). Если сидеть весь вечер на диване в коридоре и болтать называется уходом, то ухаживает. Если переключать с мультиков на сериалы – это уход, тогда да. Обидно за Сашеньку, он очень талантливый мальчик, занимается с нами в нашей школе. Кстати, к нам присоседилась и девочка Майя, которая, как и Машка, не успела по-настоящему пойти в школу.
Майечка пишет стихи, которые записывает ее мама. Одно из них было таким:
- Если мишка мой умрет,
- Положу его я в гроб.
- Если кролик заболеет,
- Теплый чай его согреет.
- Потом с кроликом опять
- Мишка будет танцевать.
В Майечкином мире гроб и смерть были нестрашными символами. После смерти звери возвращались к жизни. Ножки у нее были тоненькие-тоненькие, а глаза огромные, она очень напоминала Мию Фэрроу времен «Ребенка Розмари». В нашу школу она ходила за компанию, приносила всегда альбом с фотографиями своих игрушек. На каждой карточке – отдельный игрушечный герой. Там был сиреневый заяц Виолетта. «Но это не тот, который умирал», этот был менее заслуженным. Уроки, которые я задавала на дом, она никогда не делала, но я ей все равно ставила пятерки, а Сашке и задавать не надо было ничего. Он с ходу все запоминал и выучивал наизусть.
Ужасно хочется удрать домой. Вроде в субботу отпускают на перерыв. Но когда я позвонила домой, оказалось, что Вера хрипит и температурит. Но она быстро решила проблему собственной изоляции, отправившись до понедельника к моей матери. Ехать можно. Машка мечтает о куриных котлетах, а я о ванне, пахучей, горячей, и в которой можно сидеть, сколько хочешь.
Отец
– Сколько хочешь – до Москвы и обратно?
Мужик на битой иномарке хотел столько, сколько она и новая не стоила. А моя «пятерка» сказала «нет». Не заводилась. Я раз сто выжал сцепление, безнадежно крутил ключи в замке зажигания. Потом открыл капот и посмотрел внутрь. Слава богу, мотор был на месте.
– Борь, – сказал я в трубку. – У меня машина не завелась. А надо Иру с Машкой забирать.
Борька закрыл трубку рукой и советовался с Галкой.
– Нет, я сама скажу, ты сам мямля, ничего не можешь.
Это уже была Галка, вернее, Галина-колбасина, как называла ее моя старшая дочь. Сказать, что я ее любил, было бы очень большим преувеличением.
– Жора, слушай, я все понимаю, что у вас там с Машкой несчастье. Мы и так делаем, что можем. Но так тоже нельзя, ты нас пойми.
– Не нас, а тебя, – издалека кричал Борька.
Значит, она, как обычно, вытолкала его из кухни и закрыла дверь.
– Послушай, ты и так должен нам десять тысяч рублей. Мы же не можем без денег сидеть. (Месяц назад купили кухонный гарнитур за штуку баксов.) Голодать нам, что ли? (Обычно на завтрак Галина-колбасина делала блинчики с мясом и икрой.) У нас самих такая же трагедия была. Мы ребенка, ты помнишь, потеряли. (У Галки был выкидыш на седьмом месяце беременности.) А Борьку ты с машиной совсем затаскал. Мы и так, считай, без нее остались. Попроси у кого-нибудь еще. Может, очередь установить, мы же у вас с Ириной не одни. Ну, она там как, держится молодцом? Я после выкидыша год в себя приходила. Ну, ладно, – засуетилась Галка, – даю своего.