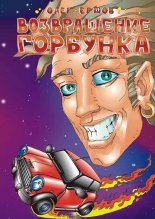Двое среди людей Вайнер Георгий

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Злодеяние
Владимир Лакс
— Сейчас налево, — сказал на Андроньевской Альбинас.
— Да ты что, друг! Здесь же «кирпич» — проезд закрыт, — рассыпал целую пригоршню картавых горошин таксист. — Объедем через следующий квартал.
Я как-то судорожно вздохнул и оглянулся. Сзади, в сумраке кабины, размазалось светлым пятном бледное лицо Альбинаса. Его русые волосы казались мне сейчас совсем черными, и длинная прядь на лбу повисла над глазом, как повязка у слепых.
Альбинас положил подбородок на спинку переднего сиденья и сказал:
— Тогда давай направо…
Я взглянул на щиток, часы показывали сорок три минуты первого.
«Волга» фыркнула на повороте и въехала в Рабочую улицу. Проезжую часть загораживал строительный тамбур.
— А, черт побери! — заругался таксист. — Снова перегородили…
Он часто ругался, но оттого, что очень смешно картавил, раскатывая во рту букву «р», будто этот один большой звук дробился о зубы на добрую дюжину маленьких круглых звучков, руготня его получалась несерьезной и совсем не злой. Он притормозил машину:
— Посидите, ребятки, минуту, я взгляну, можно ли проехать. А то здесь на мусоре баллон в два счета проколешь.
— Может, мы здесь выйдем? — сказал Альбинас, прижимая мне локтем руку. — Ведь рядом…
Я отодвинул руку и отвернулся:
— Нет, поедем дальше. Устал я. В крайнем случае объедем.
— Как хотите, — пожал плечами таксист. — Я тогда выйду посмотрю.
— Давай, — кивнул я.
Таксист оставил фары зажженными, и тихая зеленая улица просвечивалась белым мертвенным светом далеко, почти до конца. И фигура таксиста казалась от теней громадной, расплывчатой, очень сильной.
— Ты что, сдрейфил? — хрипло выдохнул Альбинас. — Ты его куда везешь?
— К дому, — резко обернулся я. — Ты дурак. Смотри, людей еще полно на улице.
Не было на улице никаких людей. Я почувствовал, как у меня остро заболел живот, защемило, заныло под ложечкой.
— Не, Володька. Испугался ты, — покачал головой Альбинас.
На скулах у меня набухли тяжелые соленые желваки, и все время набегала слюна, и сколько я ни сплевывал, она заполняла рот густой противной пеной.
— Я? Ладно, посмотрим сейчас. Только ты не лезь, я сам с ним толковать буду. Чтоб все культурненько. — Я достал из кармана нож и переложил в рукав пиджака. — Приставь ему перо к лопатке и сиди молча.
Шофер уже шел назад, и по асфальту тащилась за ним огромная и неуклюжая тень. Тогда у меня и мелькнула мысль, даже не мысль, а скорее ощущение, похожее на предчувствие, что, когда я наставлю нож на таксиста, он вырастет до размеров своей тени и просто задушит, раздавит, раздробит меня. Но шофер уже выходил из освещенной полосы дороги, и тень становилась все меньше, пока не исчезла совсем, и я позабыл об этом предчувствии. Потому что я очень испугался: таксист посмотрит мне в лицо и поймет все. Все, что мы задумали. И я больше не хотел делать то, что мы задумали. Я очень боялся этого таксиста, хотя он был такого же роста, как я, и гораздо меньше Альбинки. И худощавый. Но дело было совсем не в этом. Он был веселый, беззаботный, хороший парень, и мы за эти полтора часа с ним от души наговорились. И я боялся, что когда наставлю на него нож, то он даже не поймет, чего я хочу, а только засмеется и скажет: «Ты чего, дурачок?» — и снова начнет раскатывать во рту картавые горошинки. А мне, наверное, надо будет орать на него и требовать, чтобы он отдал деньги, или сказать тихим звенящим голосом: «Сейчас убью», — и его наверняка снова рассмешит моя шепелявость, и все это получится глупо, трусливо, нелепо. Я уже был уверен, что не смогу его испугать и тогда — конец всему.
Было бы здорово, если бы Альбинка заговорил с ним сейчас. О чем-нибудь, о чем угодно, только бы таксист не говорил сейчас со мной, потому что в этот момент я мог закричать, ударить его по голове, в лицо, чтобы не видеть его светлых, веселых, добродушно моргающих глаз. Если бы можно было сейчас убежать!
Но Альбинка сидел тихо, будто умер. Урчал ласково мотор, и счетчик еле слышно бормотал: тики-тики-тики-так, потом цокнул, и в окошечке выскочила следующая цифра — пять рублей шестьдесят три копейки.
Таксист рывком открыл дверь и сказал:
— Порядок, ребята. Проедем. Закатим один колесик на тротуар и проедем…
И снова рассыпал много-много маленьких мягких «р-р-р». Он въезжал правыми колесами на тротуар очень осторожно, видимо, боялся побить новую резину, и я делал вид, что мне страшно интересно, аккуратно он въедет на тротуар или нет, хотя мне было наплевать на его колеса, и покрышки, и всю эту проклятую машину, и я только хотел, чтобы он со мною не разговаривал и не рассыпал своих горошинок. Потому что, уж не знаю почему, он разбивал этими картавыми горошинками стену ненависти, которой, я хотел окружить его, чтобы появилась у меня, как перед дракой, лихая озорная злость, когда все просто и все можно. Но злость не приходила, а был лишь тоскливый щемящий страх, от которого где-то под сердцем повисла тошнотная мерзкая пустота. И страх этот был вовсе не перед милицией или судом — об этом я тогда вообще не думал. Было очень страшно напасть на человека…
Машина спрыгнула с тротуара и покатилась по улице, набирая скорость, и деревья по сторонам тоже запрыгали, замелькали и не казались мне больше неподвижно-спящими, и я тогда точно знал, что деревья — это существа одушевленные. Кое-где в незрячих коробках домов светились воспаленные абажурами окна. Но люди на улице уже совсем не встречались. Только на углу стояли двое парней с маленьким приемником в руках. Таксист притормозил, спросил, высунувшись из окна:
— Ребята, мы тут на Трудовую проедем?
И снова, снова эти рокочущие горошинки. Один из парней, крутивший ручку транзистора, сошел с тротуара и сказал:
— Налево, потом направо и снова налево.
Из приемника доносился бесстрастный голос диктора — «Корреспондент ТАСС Евгений Кобелев передает из Ханоя: сотни обожженных напалмом вьетнамцев…» Порыв ветра подхватил и унес конец фразы. Первая скорость, налево, вторая скорость, прогазовка, третья, тормоз, вторая скорость, направо, разгон, прогазовка, третья, притормаживает — здесь мокрый асфальт, заверещала пружина сцепления, вторая, налево, нейтраль. И счетчик все время: тики-тики-тики-так. Цок — пять рублей семьдесят три копейки. Такси подтормаживает у тротуара. Никого нет, и только ветер ударил по деревьям — заметались, зашумели, задергались. Шофер устало провел рукой по пушистым светлым волосам.
— Ну, вот и приехали, ребята, на вашу Трудовую…
Сыплются картавые горошинки, сыплются, смешные и ненавистные. Тяжело дышать, и горло сдавило, будто огромная тень уже душит меня. Сзади нетерпеливо ворохнулся Альбинас. Я поворачиваюсь лицом к таксисту, и его глаза, большущие светлые глаза, прямо передо мной. Если бы я подул ему в лицо, зашевелились бы ресницы. Я больше всего боялся этого мгновенья, потому что знал: придет же этот миг, и я посмотрю этому парню прямо в глаза, и он все поймет, и этот миг накоротко замкнет, сожжет и навсегда выключит всю мою прежнюю жизнь, пускай глупую и никчемную, но все-таки обычную, простую, вместе со всеми. Ту жизнь, которую я ненавидел, которой тяготился и убежал от нее, чтобы сейчас острее всего на свете захотеть вернуться в эту обычную, скучную жизнь.
Но таксист ничего не понял. Он устало улыбнулся и сказал:
— Намотался я чего-то сегодня. Как-никак — двадцать восьмая ездка за день. Хотел домой заскочить часиков в семь — пообедать, да вот засуетился и не успел. Есть очень охота…
И засмеялся. И ни одной горошины не упало. Он протянул руку к счетчику, но я придвинулся к нему и быстро сказал:
— Постой!
Таксист повернулся ко мне, и я навсегда запомнил его удивленные глаза. Потому что в следующий момент я увидел, как Альбинас наклонился вперед и взмахнул рукой и в ней тускло и равнодушно блеснуло лезвие ножа…
Константин Попов
— Сейчас налево, — сказал парень с заднего сиденья. Он все больше помалкивал и слушал, о чем мы болтали со вторым. Иногда только наклонится вперед, подбородок положит на спинку моего сиденья, и смотрит, и молчит. Серьезный парень. Сказал, что шоферские права получить хочет. Эх, шоферы, на «кирпич» поворачивают. Я засмеялся:
— Да что ты друг! Здесь же «кирпич». Проезд закрыт. Объедем через следующий квартал. Парень помолчал застенчиво и сказал:
— Тогда давай направо…
Это он зря, конечно, смутился. Дорожные знаки, они хоть и единые, но в новых местах даже опытный шофер, пока оглядится, пять раз нарушит. А ребята — приезжие, эти места плохо знают. Вот тебе, пожалуйста: позавчера здесь ездил, а сегодня уже перегородили улицу. От досады я даже ругнулся. Это же надо, чушь какая — снова перегородили. Сначала для теплосети копают траншею, трубу проложили — заасфальтировали. Потом газовики приходят, все раскопают, опять в мостовой ковыряются, снова асфальтируют. Потом телефон, потом водопровод — и все без конца. Хозяева! А это же не только в езде помехи, это ж ведь денег стоит, и каких! Вон, пока лагерь пионерский построили, сколько мы там навкалывались. А ведь за один такой дурацкий ремонт улицы можно, наверное, целый лагерь соорудить.
Я остановил машину и сказал ребятам, что схожу посмотрю, можно ли там дальше проехать. Тот парень, что сидел сзади, хотел расплатиться и выйти здесь. А второй, рядом со мной который, не захотел:
— Нет, поедем дальше. Устал я.
Он, видать, и впрямь устал. Забавный он паренек. Всю дорогу мы с ним весело трепались, рассказал он мне массу всякой чепуховины. Ну, а я ему про Москву рассказывал, про улицы, про дома, которые знаю. А знаю я их много. Все-таки шесть лет открутить баранку в такси — это тебе не шуточки шутить. Гидом мог бы работать. Вот беда только — картавых в гиды, наверное, не берут.
Я вышел из машины и удивился, какая нынче ночь тихая, теплая. Улица была темная, далеко высвеченная белыми столбами фар, и по бокам дремали старые липы, и небо густо, ярко вызвездило, прямо по-южному. А на востоке синеву уже размывало, слегка засвечивало близким рассветом, и плыли там рядами маленькие, похожие на ягнят облака. И я вспомнил, что сегодня начинается солнцестояние, что сегодня самая короткая ночь. Скоро погаснут фонари, улицы зальет фиолетово-синий сумрак, и наступит тот недолгий час, когда в город придет тишина. Издали будут перемаргиваться светофоры, с ласковым шипеньем проползут, раздувая серебристые усы, машины-поливалки, дворники зашаркают метлами по асфальту, появятся первые прохожие, будет еще во всем тихая сонная одурь ночи, но утро уже придет.
А когда приеду домой, на кухне будет совсем светло. За долгие годы мы с Васькой научились бесшумно входить в квартиру. Васек, брат, работает со мной в одной колонне. Мы почти всегда уходим на работу вместе, а приходим — кто когда. Обычно, когда приезжаем поздно, мы неслышно отпираем входной замок, снимаем в прихожей ботинки и ходим в носках. И никто не просыпается, кроме матери. Я думаю, что она просто не засыпает, пока мы не приходим. Мы сердимся на нее за это, так она не выходит на кухню, пока мы ужинаем или завтракаем — какой в три часа ужин? Но я слышу, как она ворочается, скрипит ее матрас, потом она не выдерживает, выходит и притворно протирает глаза: «Ох, чего-то не спится мне сегодня, Костик. Вон спозаранку подняло…»
Мы пьем вместе чай и тихонько разговариваем. Она не спеша рассказывает свои небольшие, но очень важные новости, советуется о чем-то, хотя мои советы ей совсем ни к чему и она привыкла обходиться без чьей-то помощи. Считай так, что она одна вырастила нас с Васьком.
А глаза — будто песка насыпали. Веки тяжелеют, ресницы слипаются, и в ушах — глухой мерный шум. Как волны по камням шуршат. Материн тихий голос еще убаюкивает.
— Зина на тебя сердилась, — слышу я, как издалека.
Зина — моя жена, и мать ее очень любит, Поэтому, если Зина на что-нибудь сердится, мать сразу становится на ее сторону: Зина, мол, зря сердиться не станет.
— Чего ж это она сердилась? — спрашиваю я сонно.
— Снова, говорит, документы в техникум не подал. Со дня на день, говорит, откладываешь, только бы время протянуть.
Зина — инженер в проектном институте. Она меня уговорила, заставила, доказала, что надо учиться дальше. Конечно, девять классов — это тебе не фонтан знаний. Но, если честно говорить, учиться мне не очень охота. Старый я уже для учебы — осенью тридцать стукнет. А потом, я ведь про себя точно знаю — автомобиль без колес мне не выдумать. Ну, а по части вождения — тут, пожалуйста, можем потягаться с кем угодно: как-никак, первый класс! А Зина сердится и говорит, что это нормальная обывательская трусость, закутанная в мягкие словечки. Смешно, ей-богу. Кроме того, если все таксисты пойдут учиться на техников-автомехаников, то кто же людей возить будет? Этот мой вопрос больше всего злит Зину. А вообще-то, конечно, она права. Надо будет завтра заехать, сдать документы. Как говорит наш начальник колонны Израиль Соломонович Солодовкин: «В карете прошлого далеко не уедешь». Но все-таки, если учиться, я бы лучше пошел в историко-архивный…
Я улыбаюсь:
— Маманя, не волнуйся, мы с Зиной семейно стираем грань между трудом умственным и физическим.
Мать качает головой и тяжело вздыхает…
Я задумался, стоя на мостовой под светом фар, которые вынесли из-под моих ног огромную тень. Проехать дальше можно. Я шагнул к машине, и тень задрала длинную ногу. Почему-то без всякой связи с предыдущим я подумал, что все наши поступки совсем не похожи на нашу тень, потому что, совершившись, они начинают жить абсолютно независимо от нас. И мы не можем изменить их так же, как нельзя наступить на свою тень.
Я сел в машину и сказал:
— Порядок, ребята. Проедем.
Они сидели какие-то грустные, расстроенные, что ли. Будто поссорились. Особенно тот, что рядом со мной, пригорюнился. Или устал он сильно? Мне даже показалось, что его в сон кинуло. Ладно, пускай подремлет, сейчас уже приедем. За день по Москве намотались до упору, глаза высмотреть можно.
Я включил первую скорость, тонко зазвенела пружина сцепления, «Волга» тронулась и аккуратно вкатилась правыми колесами на тротуар. Но парнишка этот все-таки проснулся, тряхнул головой и потер лицо руками.
На углу я притормозил и спросил у проходивших по улице ребят, как проехать на Трудовую. Один из них, с транзистором в руке, показал: налево, направо, снова налево. По радио передавали о том, что большинство раненых вьетнамцев обожжено напалмом. Говорят, что напалм — это смесь алюминиевого порошка с бензином. Надо же, чушь какая! Пользовались люди сколько времени алюминием и бензином, прекрасными и нужными вещами, а потом какой-то мудрец соединил их, и получилась такая жуткая штука. Иногда и среди людей такое случается: живут себе поврозь два обычных человека — и все вроде нормально, а соединились они вместе, искра попала и тут черт те что натворить могут. Воюют еще люди много. Дня, пожалуй, не проходит, чтобы где-то на земле в кого-то не стреляли. Завтра двадцать шесть лет будет, как война началась. Мне тогда еще четырех не было. Сколько мать с нами намучилась, елки-палки. А отец совсем молодой мужик был, когда умер: от ран оправиться не мог, а тут еще туберкулез его согнул. Был бы жив отец, мы бы с Васьком, наверное, институты уже окончили. Сына заводить надо…
Я выглянул в окно. На доме напротив четко светился номерной знак: «Трудовая улица, дом 7». Остановил машину, потянулся:
— Ну, вот и приехали, ребята, на вашу Трудовую…
Пассажир мой справа посмотрел на меня, и глаза у него были совсем шальные от усталости — круглые, без блеска. И я почувствовал, как сам устал за день. И очень сильно есть хотелось. Ладно, через час уже буду дома. И документы сегодня не завез в техникум. Ведь мог же — двадцать восемь поездок было за день, всю Москву исколесил, мог завернуть. Мать будет шептать: «Зина сердится…»
Я засмеялся:
— Ох, намотался чего-то сегодня! Как-никак, двадцать восьмая ездка за день. Хотел домой заскочить часиков в семь — пообедать, да вот закрутился и не успел. Есть очень охота.
Я взглянул на таксометр, а он себе выстукивает: тики-тики-тики-так. Пять рублей семьдесят четыре копейки. Взялся за ручку счетчика, чтобы выключить, но парнишка рядом со мной вдруг сказал сорвавшимся голосом:
— Постой!
Я удивился и посмотрел на него. Стал он какой-то взъерошенный, испуганный и злой. Я захотел…
Альбинас Юронис
— Сейчас налево, — сказал я. Я знал, что налево нет поворота. Но я думал, что таксист этого в темноте не заметит. По всему переулку слева не горели фонари. И все-таки подальше от дома. Я вообще не понимал, зачем Володька тащит его прямо к дому, но спорить с ним сейчас уже было поздно. Да и опасно. Он чего-то здорово сник, наверное боится сильно. Не надо было сажать его вперед. Нервный он, все испортить может. А назад все равно уже дороги нет — на счетчике пять с полтиной. Этот таксист — даром что веселый парень, знаю я таких. На глотку его не возьмешь. Такие вот веселые, они легко не пугаются.
— Да ты что, друг! Здесь же «кирпич» — проезд закрыт, — сказал таксист. Он как-то смешно прикартавливал, как маленький. Но водил машину он здорово. — Объедем через следующий квартал.
Ну что ж, дороги назад все равно нет. Этот картавый таксист обязательно привезет нас в милицию, если Володька испугается. А там уж обязательно всплывет Паневежис. Деньги нужно взять сегодня. Я наклонился вперед, положил подбородок на спинку сиденья и сказал:
— Тогда давай направо…
У него на «Волге» был хороший движок. Она с места принимала на всю катушку. Только улица эта правая, Рабочая она называется, была перегорожена. Я знал об этом еще с утра, когда ходил за водкой, и все осматривался тут. Таксист ругнулся и остановил машину. Фары хорошо освещали улицу. Никого не было видно, только в самом конце гулял с собакой какой-то пижон. До ближайшего фонаря метров пятьдесят.
— Может, тут выйдем? — сказал я, прижимая локтем Володьке руку. — Ведь здесь рядом…
Но Володька отодвинул руку и отвернулся к окну:
— Нет. Устал я. В крайнем случае объедем.
— Как хотите, — пожал плечами таксист. — Я тогда выйду посмотрю.
— Давай, — кивнул я. Таксист хлопнул дверью.
— Ты что, сдрейфил? — сказал я Володьке. — Ты куда его везешь?
— К дому! — рванулся, прямо бросился на меня Володька. — Ты дурак! Смотри, людей еще полно на улице.
Испугался Володька. Тоже придумал — людей полно! Один-единственный человек, который с собакой. Да видеть Володька его не мог. Я его сам еле разглядел, а у меня зрение не ему чета. Сильно я разозлился, что Володька вдруг стал командовать, а я ничего не могу сделать. Ругаться с ним сейчас глупо — оба пропадем. И я должен тащиться за ним и слушать все эти его школьные глупости. Но разваливаться мы сейчас не могли. Ну, просто никак не могли. Я решил — черт с ним, потом разберемся, кто из нас должен командовать. Но все-таки сказал:
— Нет, Володька, ты испугался…
— Я? Я? — Володька зло крутанул головой. — Ладно, посмотрим сейчас. Только не лезь, я с ним сам толковать буду. Чтобы все культурненько…
Володька достал из кармана нож и переложил в рукав. Но даже в слабом свете приборного щитка я видел, как у него тряслись руки. Рассуждать смелый был. Очень тоскливо мне стало. Я и сам боялся, что все получится не так, как задумали. Ведь говорил же Володьке, не торопись, не гони картину, давай высмотрим таксиста. Надо старого брать. Слабее он, да и вообще старые сейчас молодежи боятся. От одного только испуга старого паралик хватить может. Так нет, вперся в первую попавшуюся машину. А теперь мы с ним навозимся. Он хоть и сухопарый, а плечи у него будь здоров!
— Приставь ему перо к лопатке и сиди молча, — сказал Володька. Усики у него от страха запрыгали. — Давай, давай распоряжайся, потом посмотрим на твои штанишки. Ладно, я погляжу, как и что. В крайнем случае у тебя разрешения спрашивать не стану.
Таксист уже возвращался назад, волоча за собой длинную тень. Я откинулся на спинку сиденья. Подумал, что хорошо бы было вырасти до такого роста, как тень. Можно было бы поступить в сборную по баскетболу. Наверняка бы взяли — без труда закладывал бы мячи в корзину, стал бы заслуженным мастером. Зарплата у них громадная, а работы — никакой. За границу ездил бы все время. Купил бы форд «тандерберд», прикатил в Паневежис. Поговорили бы мы тогда с Нееле по-другому. Запрыгала бы тогда, наверное, забегала — ах, Альбинка, ты такой необычный, на других непохожий, я тебя просто не понимала!..
Таксист сел в машину, захлопнул дверь и сказал:
— Порядок, ребята. Проедем…
Зря он захлопнул дверь. Может быть, я это потом придумал, но вот тогда мне казалось, что, если бы он не захлопнул дверь, возможно, ничего бы и не случилось. Ехал бы с открытой дверью. Не было бы этого металлического стука, будто затвором щелкнули, и все это развернулось бы, наверное, по-другому. Но он хлопнул дверью. И как будто эта дверь меня в спину толкнула — давай, хватит трястись. Ведь Володька пошел со мной на дело только потому, что знает: я ничего и никогда не боюсь. И мне все время ему надо это доказывать. А я уже сильно устал от всего этого цирка. Потому что я часто делаю какие-то мне самому непонятные вещи от испуга и отчаяния, а вовсе не от смелости. И те истории, которые я ему рассказывал про себя, большей частью я придумал или слышал от Ваньки Морозова. Глупо, что за мной волочится длинная тень каких-то идиотских подвигов. Еще с самой школы. А совершал я их потому, что уроков никогда не знал. Надо было и себе и другим создать эту легенду, чтобы не думали, будто я просто малоумный дурачок, порочный, мол, я ребенок, незаурядный объект воспитания. Я боялся, но шкодил, нахальничал с учителями и от страха дрался со старшеклассниками. Самое смешное, что от дерзости и наглости побеждал их. И учителям это, наверное, нравилось. На любом педсовете про меня можно было сказать: «Это же Юронис — сами понимаете…» И всем девчонкам родители запрещали дружить со мной: «Ты с ума сошла — это же отпетый бандит!» Если бы Володька знал, что я часто плакал по ночам от страха, он наверняка не пошел бы со мной на эту затею. А плакал я потому, что совсем запутался, закрутился. Мне было очень страшно жить дальше. Ведь я совсем ничего, ну, ничегошеньки не знал. Я писать-то еле-еле могу, хоть и оставался трижды на второй год. Я очень долго мечтал зажить по-новому. Стать знаменитым, как старший битл Джон Леннон. Или чемпион мира по автогонкам Вольфганг фон Трип. Тогда бы все изменилось. Но для этого надо было сначала уехать из проклятого Паневежиса. Там все для меня было постоянной болью и унижением. Потому что в этом треклятом крошечном городишке не бывает ни от кого секретов, и все живут как на ладошке друг у друга. А я уже весь изоврался, все в моей жизни стало непрерывным враньем и липой, все в городе знали, какой я плохой. Только никто не догадывался, что мне это ненавистно. И я бы хотел жить по-другому, но только не так противно-скучно, как они все. Потому что любой человек живет на земле очень мало, и жить должен ярко и интересно. А у нас в городке никто, наверное, не живет так, как живут в кинофильмах. И чтобы жить красиво, нужно много денег. Столько денег, что во всем нашем городке нет. Поэтому надо было уехать туда, где тебя никто не знает и где есть много денег. Но в этом большом и интересном мире все деньги были не наши. А заработать мы их не хотели и не могли. Для этого надо много времени и много всяких знаний, которых у нас тоже не было. Да и невозможно столько денег просто заработать. И вообще, у нас было шестьдесят три рубля и наши планы. Поэтому я взял с собой ножи. Я знал, что скоро наши шестьдесят три рубля кончатся и деньги надо будет у кого-то отнять. Вот и получилось так, что деньги вчера кончились. И сейчас нам нужно отнять эти деньги у таксиста.
Деньги! У него и денег-то рублей тридцать-сорок, не больше. Тоже мне невидаль. Не в этом дело. Просто надо же когда-нибудь начинать. Рано или поздно, раз мы решили. Вот это, видно, самое трудное — начать. Испробовать себя и свои ножи. Главное — первый шаг. Вроде как с вышки первый раз в воду прыгнуть. Страшно, руки-ноги дрожат, но ты уже взобрался на вышку, все смотрят, и не прыгнуть нельзя. Позор до смерти. Сердце замирает, совсем останавливается, в ушах — шум какой-то, но ты заставляешь непослушные ноги оттолкнуться от настила и летишь вниз, в пропасть… Надо заставить себя сделать этот один-единственный шаг. Надо быть смелым, отчаянным, злым — не таким, как все остальные людишки. Неважно, что у него денег мало, потом мы добудем больше…
Он неплохой парень, этот таксист. Но, видно, так уж распорядилась судьба. Она все знает, и от нее все равно никуда не уйдешь. Да и не искать же специально плохого человека, чтобы отнять у него деньги. Люди ведь не ходят с этикетками на пузе: «Хороший человек», «Средний человек», «Совсем паскудный человечишка». Да и неизвестно еще, что за птица наш таксист — может быть, он и есть распоследний негодяй, только маскируется. Во всяком случае, не надо было ему хлопать дверью. От этого стука у меня что-то в мозгу щелкнуло, и я точно понял, что пятиться назад теперь уже глупо. Не захлопни он дверь, может быть, все еще как-то разрядилось бы. Не знаю, может быть. Но ведь машины не ездят по улицам с открытыми дверцами…
«Волга» покатила по тихой пустынной улице. Я смотрел на сжавшуюся, ставшую очень маленькой спину Володьки и чувствовал, как ему сейчас невыносимо страшно. И от этого сам пугался еще больше. А ведь я знал наверняка, что нас не поймают. Вернее, просто прогнал эту мысль. Не думая больше о том, что есть милиция, что может встрянуть кто-то из прохожих. Щелкнуло что-то у меня в голове, когда таксист захлопнул дверь. Я знал, что назад вертеть не придется.
На углу двое ребят слушали транзистор. Шофер притормозил около них и спросил, как проехать на Трудовую. В шелестящей тишине ночи быстро тараторила дикторша: «Корреспондент ТАСС Евгений Кобелев передает из Ханоя…» Опять про войну. Я бы хотел побывать на войне. Там все проще. Там сразу все ясно — кто чего стоит. На самые тяжелые места бросали штрафные батальоны. Я бы мог себя там показать. Не то, что Володька, дурак, сам попросился, чтобы отчислили из военного училища. Эх, даже родиться мне не повезло — через четыре года после войны вылупился. Чепуха это, что в жизни всегда найдется место для подвига. Смелого человека рождают обстоятельства.
Я вдруг подумал, что изо всех сил стараюсь не замечать таксиста. Как будто его и нет здесь. Когда я смотрел на его русый кудрявый затылок с каким-то совсем детским вихром, на его широкие плечи, еле вмещавшиеся в черный поношенный пиджак, меня заливала волна противной тошнотной слабости. И я даже не пытался яриться на него, я знал — бесполезно это. Очень я радовался, что мне не надо смотреть ему в лицо. Даже если Володька испугается, я все равно уже никогда не увижу его лица, его противно-добродушные веселые глаза. Конечно, будь он мерзким парнем, все стало бы проще.
— Ну, вот и приехали, ребята… — сказал таксист.
Будто подал сигнал о том, что все началось. Все, о чем мы столько трепались с Володькой. Будто таксист с нами был в сговоре и специально подыгрывал нам, чтобы мы были увереннее. Он как будто проверял нас. И все это было не в самом деле, а понарошку, как в школьной самодеятельности. Но это было не понарошку, а в самом деле, все уже началось, остановить этого нельзя. А может быть, наоборот, здесь все кончилось. Но так уж получилось, что все трое мы жили до этой минуты столько лет, и у каждого была своя судьба и своя жизнь. Пока мы не сошлись на крошечном пространстве душной кабины такси. Разойтись просто так, как мы встретились с этим таксистом два часа назад, мы уже не могли. Правда, что-то еще могло измениться, если бы таксист оказался трусливее, чем Володька. Но я в это не верил.
Мне показалось, что счетчик тикает оглушительно громко: тики-тики-тики-так. Все, нужно действовать. Но у Володьки от страха, видно, все затормозило. Это было хуже всего. Нельзя было дать таксисту насторожиться. Но он совсем был какой-то тюлень, или, может быть, ему это и в голову не приходило, или раздумывал он о чем-то о своем. Он потянулся и сказал:
— Намотался я чего-то сегодня. Как-никак, двадцать восьмая ездка за день, — и чего-то он еще говорил. Но я просто не помню, потому что я как будто окунулся в плотный красный туман, забивший глаза, уши, ноздри. И откуда-то издалека, будто с соседней улицы, я услышал голос Володьки: «Постой!..»
Но я знал, что он уже все провалил, испугался до конца, и мы приехали на финиш. Я плотнее сжал в левой руке деревянную рукоятку ножа. Я левша и правой рукой только ем, а дерусь всегда левой. Рукоятка была липкая и влажная от пота. И от этого, от трусости своей, я почувствовал какое-то остервенение, размахнулся и изо всей силы ударил шофера ножом в спину. Я еще боялся, что мокрая ручка выскользнет из ладони, но нож вошел легко, мягко, ну, как в мыло, например. Я это почувствовал, потому что мой кулак по инерции ударил его в спину…
Константин Попов
— Постой!
Я удивленно посмотрел на него. Стал он какой-то взъерошенный, испуганный, злой. Я захотел…
Боль. Жуткая, нечеловеческая боль вдруг пронзила все тело, будто меня проткнули насквозь раскаленным пылающим прутом. Я еще ничего не понял, но боль, страшная, разламывающая меня на куски, рвущая, пылающая, вопящая в каждой моей клеточке нестерпимой мукой затопила, захлестнула, поволокла меня куда-то. И во всей этой боли передо мной тускло маячило синее лицо парня с круглыми от ужаса глазами. Тогда я понял, что это лицо смерти, что на меня смотрит человек, который убил меня. Я хотел ударить кулаком в его лицо, отогнать его, чтобы кончился вдруг страшный сон, проснуться, но эти жуткие глаза куда-то уплыли в сторону сами, а боль снова бросилась на меня с ревом и визгом, испепеляя меня дотла. Из машины надо, вон из машины, скорее. Это, наверное, взорвался бензобак, и я весь горю, скорее из машины! Но меня что-то цепко держало за плечи, и последним невероятным усилием, в которое я вложил все уходящие силы, я вывалился из кабины и побежал по улице. А боль неистовствовала, у нее был голос, и она грохотала на всю улицу так долго и так страшно, пока я не понял, что это я кричу сам.
Асфальт ожил под ногами. Он выгибался, прыгал и проваливался, и, как на чертовом колесе, я видел его то перед самыми глазами, то неожиданно он вздыбливался, и я бежал на крутую гору, а он стремительно заходил все выше и выше, пока не заслонял небо, и снова, перевернувшись, вдруг падал резко вниз, и я не мог никак на нем удержаться и скользил, как по льду, и мостовая с тусклым отсветом фонарей приближалась быстро и бесшумно, и я падал лицом в эти желтые отсветы, которые сталкивались и вспыхивали сияющим фейерверком, а я все удивлялся, что мостовая совсем не жесткая, а мягкая, теплая, слабо пахнущая бензином и увядшей черемухой. Боль уже утихла, на меня напала сонливость, и мне совсем не хотелось вставать, но я был уверен, что обязательно надо встать, быстрее встать и бежать куда-то, хотя я и сам не знал, куда и зачем мне надо бежать.
Руки уже отнялись у меня, но я все-таки поднялся и очень удивился, что вокруг уже нет никаких домов и куда-то пропали деревья. Я слышал только сильный ветер, и вокруг плавали какие-то дымные клочья тумана, и лишь в стороне, где-то далеко, горел неярко огонек. И я решил бежать на этот огонек и с сожалением подумал, что не запер машину. Но возвращаться сейчас не имело смысла, потому что я должен сначала добраться до этого огонька. Обязательно надо было…
Я хотел бежать, но двигался как-то плавно-неуклюже, будто брел по стоячей воде. Я очень боялся упасть, потому что знал наверняка — больше я не встану. Но снова ожила боль, заполыхала во всем теле, задергалась, забилась судорожно, закричала, и вместе с ней опять ожил асфальт, заплавал, задрыгал под ногами, и я почувствовал, что я очень устал, что эта боль сильнее меня. Я споткнулся о тротуар, и он прыгнул мне навстречу, как голодный зверь. Я ударился лицом, но мне было не больно, потому что эту маленькую боль бесследно растворила в себе та ужасная мука, что поселилась у меня в спине.
Я перевернулся на спину, стараясь придушить, прижать к мостовой, раздавить свою боль. И мне стало легче. Открыл глаза и сквозь сизую пелену удушливого тумана увидел над собой большие тяжелые звезды. Их было очень много, и меня удивило, что они совсем не мерцают, а застыли светло и неподвижно, как на фотографии. Пока одна вдруг не сорвалась и, косо чертя горизонт, полетела на рассвет, к утру. «Человек родился», — подумал я лениво. И плыли не спеша какие-то разрозненные мысли, громоздкие, бесформенные, равнодушные, похожие на стадо дремлющих слонов. Потом звезды стали меркнуть, и я подумал, что наступает рассвет. Так они и пропадали поодиночке, пока я не понял, что это я умираю. Что меня убили…
Владимир Лакс
И когда Альбинас выдернул нож, то лезвие больше не блестело, оно было все покрыто чем-то черным. Таксист даже не вздрогнул, продолжая смотреть мне прямо в лицо. А я будто окаменел, потеряв вообще способность двигаться. Но все это продолжалось одно мгновение, потому что таксист закричал. Боже мой, сколько жить еще буду, запомню этот крик! Я никогда ничего подобного не слышал. Я и предположить не мог, что человек способен так кричать. Собственно, это и крик-то был не человеческий, столько муки, невыносимой боли было в нем! И пока длился этот ужасный крик, он все время смотрел мне прямо в лицо остекленевшими от страдания глазами, и я понял, что передо мной та самая великанская тень, которая сейчас убьет меня, и каждая клеточка тряслась во мне от животного мерзкого страха, который был страшнее всего того, что мне еще пришлось потом испытать и перенести.
Я не знаю, сколько прошло времени, наверное, совсем немного, но таксист рванулся и стал открывать свою дверь, чтобы выскочить. И все время он кричал. Альбинка схватил его за плечи, стараясь не выпустить из машины, потому что если бы он убежал, то вся эта затея вообще утратила бы смысл, и все страхи, которых мы натерпелись, были бы совсем ни к чему.
— Держи!.. — хрипло крикнул Альбинка.
Но я боялся дотронуться до него. Не знаю, чего уж я тогда боялся, но дотронуться до него я бы ни за какие деньги не согласился.
— Держи, падла… — взвизгнул еще раз Альбинас, но таксист, вдруг судорожно дернувшись, вырвался из его рук и вывалился на мостовую.
Все, это был конец. Таксист поднялся с асфальта и побежал по улице в сторону Андроньевской. Мы его могли легко догнать, но нам это даже в голову не пришло. Как бы это объяснить — когда мы были в машине, мы были вроде бы одни, а когда он выбежал на улицу, он как будто снова вернулся к людям, и они уже стали заодно против нас.
Таксист бежал медленно, тяжело, заплетающимся шагом, и, если бы не этот ужасающий вопль, его можно было бы принять за пьяного. Он выписывал ногами какие-то нелепые кренделя, то нагибался зачем-то, то снова выпрямлялся, и бежал он по мостовой ломаными зигзагами, как бегут по открытому простреливаемому пространству. Может быть, он служил в армии, или в нем сработал инстинкт, но ведь по нему никто не стрелял. Да и не из чего нам было стрелять…
Около перекрестка он упал и лежал неподвижно, наверное, целую минуту. Очень долгой была минута, потому что мы так же неподвижно замерли в машине, глядя в заднее стекло. Он лежал лицом вниз и разводил руками по мостовой, как будто собирался куда-то плыть.
— Ты его ранил… — разлепил я наконец губы.
— Нет, — покачал Альбинка головой. — Я его убил.
И от этих слов я как проснулся.
— Бежим! — открыл дверь, чтобы припустить изо всех сил. Но Альбинка по-прежнему сидел в такси, разыскивая что-то на полу.
— Ну, что ты ковыряешься, гад!
— Нож, нож потерял, — потом он тоже выскочил из машины, и мы одновременно оглянулись назад, в сторону перекрестка. Таксиста на мостовой не было. Но почти сразу же из-за угла снова разнесся этот страшный хриплый крик. Нет, он не убил его.
Мы побежали мимо нашего подъезда вниз по улице, в сторону новых домов. Крик постепенно затухал где-то там, далеко сзади, и тишина ленивыми волнами вновь смыкалась над сонной улицей. Только топот Альбинкиных башмаков и его шумное дыхание гудели на пустом тротуаре.
— Тише… — на бегу бросил я через плечо.
— Не могу — дыхалки не хватает. Я оглянулся и увидел, что он бежит с ножом в левой руке.
— С ума сошел! Нож спрячь!
Мы разом перепрыгнули через невысокий забор вокруг строящегося дома и, тяжело дыша, присели на бетонную плиту. Надо было немедленно решать, что делать дальше…
Альбинас Юронис
В таком тупом оцепенении мы сидели несколько минут. Было совсем тихо. Ветер только шуршал в верхушках деревьев, и где-то совсем далеко завизжал колесами трамвай на повороте.
— Ну что? — спросил Володька. И в этом коротком вопросе мне почудилось, что он хочет дать понять, будто мы уже сами по себе. Он со своими делами сам по себе, а я — сам по себе. Но я сделал вид, что ничего не заметил и вообще, мол, это меня не касается, безразлично мне, мол, это.
— Уходить отсюда надо. Пока еще тихо, — сказал я.
— А если там уже ментов полно?
— Да ты что? Откуда?
— От верблюда! От его крика небось весь район проснулся…
— Вещи все равно надо забрать. Идем, пока не поздно, — и, не дожидаясь его ответа, пошел вдоль забора к выходу со стройплощадки.
Трудное было мгновенье. Я боялся, что Володька не пойдет за мной и я останусь один, совсем один. Сначала было тихо, только камни сыпались у меня из-под ног. Когда я дошел до ворот, я был почти уверен, что Володька остается. Но вот сзади раздались шаги, и сразу на душе стало легче.
Володька сказал:
— Слушай, Альбинка, выбросим здесь ножи?
Я покачал головой:
— Ты что? Они еще нам могут понадобиться.
Володька испуганно взглянул на меня. Я положил ему руку на плечо:
— Не бойся. В крайнем случае выкинем их где-нибудь подальше…
Но я не собирался их выкидывать. Ведь нам надо было как-то жить дальше.
Мы вышли на улицу. Такую же тихую, сонную, спокойную, как и пять минут назад. Будто ничего здесь не произошло, да и произойти ничего не могло. Я подумал, что если бы таксист не закричал, то его бы вообще до утра не хватились. А может быть, и сейчас не хватятся. Глухая улица, здесь с курами спать ложатся.
Такси с зажженными подфарниками стояло по-прежнему против нашего подъезда. Одинокая брошенная машина, совсем ничья. И меня даже удивило, что на улице по-прежнему никого нет. Что нас никто не видел.
Мы вбежали в парадное и поднялись к дверям Баулина. Володька долго шарил в карманах ключ. Наконец нашел и стал отпирать квартиру. Но замок противно скрипел, трясся и не открывался.
— Дай я попробую, — сказал я Володьке.
Он зло ощерился:
— Ты что, ловчее меня, что ли? Не видишь, замок сломался?
Он продолжал трясти и дергать замок, но ключ все равно не проворачивался. Табак дело, придется звонить. Я дважды сильно нажал кнопку звонка. По коридору кто-то зашаркал ногами. Мне показалось, будто я слышу стук Володькиного сердца. На лестнице пахло кошками и какой-то гнилью. Я подумал, что очень уж паскудно будет, если все закончится сейчас на этой грязной вонючей лестнице. Я дернул Володьку за руку, чтобы рвануть вниз, но дверь отворилась, и в освещенном проеме появился студент, тоже квартирант. Затюканный он какой-то, целые ночи напролет сидит и зубрит. Он уже не молодой, ему, по-моему, за тридцать. Работает где-то на периферии и приезжает сюда сдавать экзамены в заочном институте. У него и сейчас в руке была какая-то толстая тетрадь.
— А, это вы, гуляки, — сказал он добродушно и прищурился на нас поверх своих окуляров. Когда люди в очках смотрят вот так, у них сразу становится хитровато-глупый вид. — Вы не видели, кто это дрался около дома?
— Дрался? — спросил я. И с ужасом заметил, что голос мой дрожит.
— Ну да! — кивнул студент. — Кто-то жутко кричал под окном.
— Н-не знаем, — растерянно сказал Володька, и, взглянув на него, я понял, что мы пропали. Если нас милиция возьмет просто по подозрению, он расколется сразу. Он прямо дрожал весь. Но в коридоре было довольно темно. Да и студенту, видимо, было совсем не до нас, так он врос в свои несчастные формулы. Он что-то пробормотал и пошел к себе. Мы отворили дверь, вошли в баулинскую комнату и зажгли свет. И хотя здесь ничего не могло измениться — мы ведь ушли последними часа два назад, — я осматривался, будто попал сюда впервые. Светлые обои с нелепыми цветами в грязных, жирных пятнах. Стол, замусоренный объедками, уставленный грязными стаканами и чашками, пачка «Ароматных», пустая водочная бутылка. Старенький, подслеповато глядящий на нас своим серым экраном телевизор КВН. Везде пыль, грязь, запустение. Быстрее отсюда, прочь, скорее.
Мы схватили свои чемоданчики, выскочили в коридор и тихо притворили дверь. Володька на цыпочках пошел к выходу.
— Постой, надо нож вымыть, — шепнул я ему.
Володька открыл замок и так и стоял в дверях, наверное не решаясь снова вернуться в квартиру. Я вошел в кухню и пустил воду из крана. Потом достал из-за пояса нож и подставил его под булькающую ржавую струйку. Здесь наверняка уже все трубы соржавели, и мне всегда было противно пить воду, мутноватую, с неприятным металлическим привкусом. А кровь на ноже уже засохла и почернела. Слабый напор воды не смывал ее с лезвия. Потом я провел пальцами по ножу, и это было неприятно, будто я снова дотронулся до таксиста. Потому что кровь вроде бы ожила и, растворяясь в воде, стала стекать с клинка. Она падала в раковину розовыми блеклыми каплями, светлая, нестрашная, как слабый раствор марганцовки…
Я вытер чистый нож о полу пиджака и вышел на лестницу.
Володька уже спустился вниз и выглядывал из подъезда.
— Никого нет, — сказал он даже с каким-то удивлением.
Я подошел и тоже выглянул на пустынную улицу. Казалось, что время умерло и только мы одни действуем в этой ненормальной дохлой тишине, где нет людей, и нет времени, и нет звуков. Не то чтобы я сильно тосковал тогда по людям — лишние свидетели мне были не нужны. Но это безмолвное такси с горящими подфарниками на оглохшей и онемевшей улице, и ни одного прохожего, и цепочка почерневших пятен крови на мостовой — все это было похоже на какой-то скверный сон. Хотелось заорать во все горло от тоски и страха.
— На машине поедем, — сказал я Володьке.
— Куда?
— Поехали, поехали. Там посмотрим. Только отсюда надо быстрее…
Мы перебежали через дорогу. Дверь такси так и была открыта. Я сел за руль, Володька влез с другой стороны, на то же место, где он сидел раньше. Ключ торчал в замке зажигания. Я глубоко вздохнул, чтобы хоть немного остановить бешеный бой сердца. И тут я услышал стук счетчика — он все это время был включен. Пять девяносто пять. Тики-тики-тики-так. Тики-тики-тики-так. Он все еще считал, и тикал, и считал. Он все это время тикал и считал. Я схватился за ручку и несколько раз повернул ее по часовой стрелке. Цок — и в окошечке выскочили нули. Все нули. Открываем новый счет. Загоревшийся фонарик показывал нам зеленый свет. Володька достал нож и перерезал проводки, зеленый огонек погас.
— Давай, — сказал он.
Я выжал сцепление, повернул в замке ключ. Мотор глухо рокотнул, набирая постепенно обороты. Включил первую скорость, но резко бросил сцепление, машина прыгнула вперед, и мотор заглох. Снова крутанул стартер, мотор заурчал. Плавно отпустил педаль, поехали. Включил вторую скорость, разогнался — третью. Дал большой свет. Зашелестели, запели баллоны. Красный язычок спидометра уперся в 100. Заметались опять, запрыгали деревья по сторонам. Теперь посмотрим еще. Теперь — одни нули. Новый счет открыт. Вдруг Володька негромко ахнул:
— Альбинка, рюкзак у Баулина забыли!
— Теперь возвращаться поздно. Плевать…
Впереди засветили огни какой-то большой площади. А людей по-прежнему было не видать…
Телефонограмма
В 33-е отделение милиции гор. Москвы
21 июня в 0 часов 48 минут в Центральный пункт «Скорой помощи» поступило по телефону сообщение, что у подъезда № 1 дома № 23 по Большой Андроньевской улице обнаружен труп мужчины в возрасте около тридцати лет. Машина «Скорой помощи» выслана.
Дежурный врач Центрального пункта «Скорой помощи» Попова Патрульный милиционер Александр Леготкин
— Быстренько, ребята, к дому двадцать три по Андроньевке, — сказал дежурный. — От, шпана проклятая! Давайте аллюром, опергруппа сейчас подъедет…
Мы вышли из прокуренной, задымленной дежурки, и Василенко сказал, ни к кому не обращаясь:
— Теплынь, тишь какая, а людям все спокоя нету.
Я рванул ногой подножку кик-стартера, и мотоцикл клокотнул, как рассерженный индюк, застучали, забились поршни, пыхнул дымок над выхлопами, и ровное тарахтенье разломало сонную тишину.
Движения на улицах уже почти не наблюдалось. В начале Андроньевки обогнали пустой и от этого особенно ярко освещенный трамвай. Он плыл в ночи важно, не спеша, как ледокол.
— Одерживай, одерживай, — сказал Василенко. — Это здесь должно быть…
Я еще издали увидел убитого. Он лежал на тротуаре, вытянувшись во весь рост, на спине, в нескольких шагах от освещенного подъезда. Я тогда подумал почему-то, что он из этого дома и, наверное, хотел дойти до своего парадного, но не хватило сил. Около убитого никого еще не было. Я перегнал мотоцикл на другую сторону улицы и сказал Василенко:
— Я пойду огляжусь, а ты постой тут. Может, вернутся.
Парень был одет в черный пиджак, темные брюки и шерстяную рубашку, не то серую, не то коричневую — в темноте не разглядел. Глаза у него были открыты, и он все смотрел на меня, будто спрашивал: «Ну, чего теперь будешь делать?» А что я мог делать? Принимать меры к задержанию преступников «по горячим следам»? Пожалуй, найдешь сейчас этих преступников! Хоть бы опергруппа из МУРа скорей приехала.
От ног убитого на мостовую убегала дорожка черных пятен. Я включил фонарик и сошел на дорогу. Мятый желтый круг света плясал на асфальте, высвечивая кровавые пятна и затеки, которые выходили на самую середину проезжей части, на рельсы, потом снова приближались к тротуару, собирались на перекрестке в подсохшую лужицу и резко сворачивали на Трудовую, уходили вниз по улице. Я шел по следу, пока не столкнулся с каким-то парнем, идущим по этому же следу с другого конца.
— Ну-ка, постой! Ты кто такой?
— Я Денисов! — сказал парень так, будто я наверняка мог знать, что Денисов есть один-единственный на свете, что все о нем слышали и вот он-то как раз и есть тот самый Денисов.
— А что ты тут делаешь, Денисов?
— Вот кровь… — показал он на мостовую. Потом посмотрел на меня. — А вы чего тут ищете?
— Часы в драке потеряли, там, — махнул я рукой назад. — Ты не видел драки?
— Нет, я на крик прибежал, а здесь уже никого нет. Вот кровь только.
— Ладно, идем со мной.
Капли крови исчезли на середине мостовой. Справа — высокий деревянный забор, слева — дом № 7. Непонятно, что они, посреди улицы дрались, что ли?