Дочь Роксоланы Хелваджи Эмине
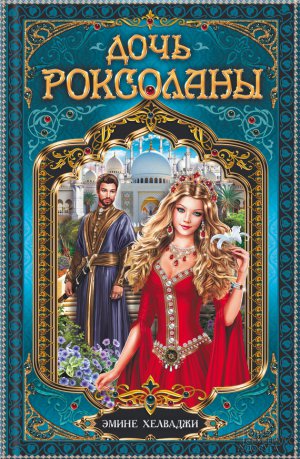
– Ну, вы сегодня с огнем играли, девоньки… – обессиленно произнесла няня.
– Мы? Это братики наши по огню гуляли! – бойко и совсем без следа недавних слез (да взаправду ли они были?) возразила одна из девочек, та, на которую кормилица с няней успели набросить головную повязку с легкой чадрой. Эту чадру она как раз сейчас и сняла, открывая лицо.
Такое же лицо, как и у второй девочки.
Не отличить. Особенно сейчас, когда у обеих волосы, свободно распущенные, струятся вдоль щек.
– Да уж как сказать…
– Так ты ведь, няня, им все и сказала сразу, – ответила вторая девочка, по-прежнему не выпускавшая из рук зеркальце. – Рано мальчишкам слоняться по гарему. А по отцовскому гарему – тем более!
– Ты, умница, уж лучше молчи! – Басак-ханум укоризненно покачала головой. – Тебе только и надеяться теперь остается, что эта овца яловая, – няня кивнула подбородком в сторону коридора, где давеча скрылась служанка, – действительно не осмелится беспокоить вашу матушку таким рассказом. Ведь ее же, овцы, просчет! Ну, я ей еще задам… Однако если все-таки расскажет, ох и прогуляешься же ты в комнату для одеяний, «госпожа Михримах»!
При этих словах порывисто вздохнула не Орыся, стоявшая с зеркальцем в руках, а настоящая Михримах, только что сбросившая чадру. В комнате для одеяний действительно хранились запасные одежды султанских дочерей (точнее, как считалось сейчас, султанской дочери и ее любимой служанки-наперсницы, которой дозволено донашивать платья госпожи), но было у нее и… другое назначение, совсем особое.
– А вот и нет, – спокойно возразила Орыся, наконец положив зеркальце на столик, – хасеки-хатун меня даже похвалит. Я ведь что сделала? Пальцем даже не шевельнув, привлекающих чей-то взгляд движений не сделав, только обидные слова сказав – руками нашего младшенького закрыла «шайтанову метку». Да так, что ни он и никто другой ничего не заметили.
Няня, подумав, склонила голову в знак признания правоты. Да, наилучшим образом поступила младшая из сестер. И действительно, мать, если узнает, хотя лучше бы ей все-таки не узнавать, сочтет ее действия достойными скорее похвалы, чем наказания.
Блистательная хасеки, Хюррем-султан, супруга султана и правительница его гарема, из нее одной состоящего, надо признать, не слишком внимательна к тому, что творится с ее детьми – девочкой (девочками!) и мальчиками. Правда, до тех пор, пока это не коснется одного – подлинной опасности. Вот тут чутье ее безошибочно, действия стремительны, а решимость подобна отваге пантеры, защищающей свое логово.
– Мальчишки вообще ничего не замечают, они такие, даже Мехмет, – подтвердила Михримах. – А вот лала…
Няня снова кивнула. Лала-паша, не будь он умен и приметлив, до своих нынешних лет вряд ли дожил бы, а уж звание наставника точно не смог получить бы. Он, конечно, в дворцовой большой игре на стороне хасеки, ведь он же наставник ее детей, но… Вот именно, что слишком уж много «но» в этой игре. Иные из них, сейчас маловажные, почти не заметные, через годы могут стать решающими. И неизвестно, как все повернется.
Поэтому лучше не давать лишнего знания никому, даже явному союзнику.
– Как он своих питомцев резво увел, да и сам прочь заспешил! – усмехнулась стоявшая у двери кормилица, которая, конечно, слушала их разговор. – Право слово, девоньки, ему будто вживую увиделось, как за вашими плечами Узкоглазый Ага стоит!
Сестры недоуменно переглянулись друг с другом.
– Так и было, – выразила общую мысль Михримах. – Конечно же, Доку-ага всегда стоит за нашими плечами.
– Даже когда он далеко, – завершила Орыся.
3. Сандаловый разговор
Кофе был выпит. Потом малолетний «цветок» (это был не их «цветок», поэтому к нему даже не присматривались: велика ли разница, Гиацинт или Лютик), повинуясь подзывающему жесту, снова принес две чашки – и по щелчку пальцев удалился. Чуть-чуть, едва заметно промедлил, перед тем как удалиться, и Доку пришлось раздраженно щелкнуть пальцами еще раз.
Совсем глупый по малолетству «цветок», а с такими привычками рискует и не вырасти. Начнем с того, что во дворце подслушивать разговоры старших – очень нездоровое занятие. Тут запросто можно лишиться всего, что еще не отрезано. Особенно сейчас, когда завершается одна из партий большой игры и на кону самые большие головы. Да, начнем с этого. А продолжим тем, что старшие, сев что-либо обсуждать за кофе, во время первой чашки точно слова не скажут, да и потом не сразу к делу перейдут. Таковы правила поведения. Истанбул – не деревня и не воинский лагерь, тут поспешность малую цену имеет; а дворец – стократ Истанбул, столица столиц.
Вторую порцию тоже пили в молчании, маленькими глотками. Время от времени подносили к губам рукав наргиле, затягивались ароматной смесью.
Этот обычай был нов, но у него уже нашлись знатоки и ценители, хорошо различавшие (или притворявшиеся, что различают) разные сорта смесей: листья конопли, зерна конопли, ее же пыльца, какие-то благовонные добавки… Все разновидности курительного зелья пока были персидскими, но, по словам знатоков, кто-то уже опробовал для этих целей листья «тобакко», привезенные кастильскими франками. Результат якобы превзошел все ожидания, но в чем именно это проявлялось, знатоки пока ясного ответа не давали.
Двух евнухов, сидевших сейчас друг напротив друга, трудно было назвать ценителями курительного обяда. Но раз уж он считался приличным времяпровождением, то да будет так. Иначе их, уединившихся для беседы, чего доброго, винопийцами сочтут. А дымное зелье, в отличие от вина, для правоверных не заповедано.
Правда, уединились они не абсолютно: тут как раз даже не в пьянстве могут заподозрить, а в по-настоящему тайных умыслах. Это лишнее. Просто сидят двое старших евнухов в углу «Двора гвизармьеров[8]», ведут неспешную беседу, точнее, будут вести после второй чашки; со стороны их трудно рассмотреть из-за ствола растущей тут чинары, но ведь они для того и сели под ней, чтобы находиться в прохладной тени. А еще их частично закрывает мраморный конус фонтана, и легкое журчание воды помешает ненароком услышать, о чем они говорят. Да ведь они пока и не говорят вовсе. Пьют кофе, временами подзывают юных «цветков», евнухов для услужения, чтоб те новую порцию подали… курительной смесью дымят…
Вообще же, если действительно посмотреть со стороны, странное зрелище они представляют. Доку-ага свою судьбу, которая повернула его путь, встретил девятнадцати лет от роду, когда путь взросления был уже завершен. То есть сейчас он не выше и не ниже, чем большинство его соплеменников. А у них – в той далекой стране, которая и для Востока Восток, – разрез глаз еще уже, чем у племен из стана текинцев, иомудов или тюркмен, да и рост чуть ниже.
Что до лала-Мустафы, то о нем уже говорилось. Три локтя с четвертью. Сидя напротив Доку, возвышался он над ним, как башня. А вот – все равно словно бы одного роста.
Шириной плеч они почти вровень были. А запястья у Доку даже большего обхвата. Кто по-настоящему в воинском искусстве сведущ, знает: у мастера прежде всего на запястья и предплечья смотреть надо. Плечи, верткость и скорость, длина шага и глубина подшага, мудрость глазомера – все это тоже очень важно, однако такое не вдруг оценишь. Но основную воинскую нагрузку рука принимает на протяженности от кисти до локтя, потому опытный человек прежде всего на запястья смотрит, их не скроешь, а затем уже принимает то или иное решение.
Мустафа был человеком чрезвычайно опытным, и не только в воинском деле как таковом. Потому со своим нынешним собеседником он держался очень уважительно. Хотя по дворцовой иерархии между ними разница была как между кинжалом и гвизармой.
Медленно, не торопясь, сделал предпоследний глоток и поставил на низенький столик чашку, в которой кофе еще оставался, но совсем немного, на самом дне. И Доку, тоже один глоток не допив, отставил свою чашку.
Церемониал соблюден. Теперь можно и говорить.
– Что думаешь об Адаше? – спросил лала без предисловий и без обиняков.
Адаш – не имя, а «носящий то же имя», то есть тезка. А имя «Мустафа» в Блистательной Порте одно из самых распространенных. Даже среди тех трех десятков учеников янычарской школы, которых Доку прямо сегодня с утра наставлял премудростям схватки «короткое против длинного», этим именем зовут пятерых. И, вообще-то, он мог бы начать сейчас рассказывать о любом из них, тем более что лала-Мустафа за этой тренировкой наблюдал и, следовательно, мог интересоваться, какими бойцами обещают стать эти подростки. Но – кофе выпит и разговор прям.
– Он хорош, – коротко ответил Узкоглазый Ага.
– Хорош… – Наставник шахзаде пожевал губами. – Не спорю, как воитель – да. Знаю, ты скажешь: «Кто многого стоит как воин, тому и в прочем высока цена». Но мы с тобой знаем очень многих отменных рубак, Доку-ага, и знаем, что далеко не всякому из них есть резон подниматься выше командира полусотни. Поэтому прошу тебя, друг мой, взвесь свой ответ еще раз.
– Он хорош с коротким, от малого кинжала начиная, и с длинным, до гвизармы и пехотного копья, – пояснил Доку. – С всадническим копьем, говорят, тоже, но тут я ему не учитель. Хорош с кривым и прямым, особенно когда о полноразмерном клинке речь идет, будь то сабля килич с сильным изгибом, пала с малым или прямой кончар. Даже с клинком обратного изгиба обращается умело, не считая, что с тем марает свою честь.
Лала-Мустафа неохотно кивнул. И старший, и младший из его подопечных как раз так считали: мол, ятаган – янычарская забота, серп для мясной жатвы, для резни то есть, а не для высокого боя, как благородная сабля. Это, разумеется, ошибка.
– И оружием дробящего удара тоже владеет правильно: буздыганом напролом, – Доку изобразил удар палицей, – а басалыком внахлест, хотя столь многие соблазняются пагубной легкостью вращения. – Рука Доку очертила в воздухе правильный, а затем, наоборот, «пагубный» взмах кистеня.
Узкоглазый Ага замолк. Его собеседник ждал.
– Очень разные тут качества требуются, – словно бы извиняясь, произнес Доку-ага, опустив взгляд. – Смелость во всей широте своей, пылкость и сдержанность в нужных дозах. Гибкость ума еще, как без нее. Способность мгновенно принимать решения, а такому не учатся, она от рождения быть должна…
Взглянул на собеседника в упор. И бесстрастным голосом подвел итог:
– Так что во всем Адашу высока цена. Да.
Наставник шахзаде вновь кивнул, вынужденно признавая правоту этого суждения. И, иначе и быть не могло, – подумал о своих воспитанниках.
Баязету самый легкий из киличей уже по руке – и машет он сабелькой лихо, хотя рубака будет, пожалуй, скорее отважный, чем искусный. А Мехмету по руке и мужской килич, и даже пала (разве только не кончар, который требует взрослого роста и полной силы), но оружием он владеет как старательный, послушный выученник: локоть сюда, взмах оттуда, подшаг вот такой… Нельзя так биться в настоящем бою. И править державой тоже не слишком можно.
Средний же шахзаде, Селим, с оружием не подружится вовсе, даже если ближе к расцвету сил очень того захочет. Опытному взгляду такое видно сразу.
Плохи твои питомцы, наставник, даже если в том их, а не твоя вина. Все вместе они не составят одного старшего брата.
– И в оружии дальнего боя он мастер. – Об этом можно было уже не говорить, но Доку лишних слов не произносил вообще, так что лала-Мустафа, потянувшийся было к чашке, убрал руку. – Мне, конечно, тут до совершенства суждений далеко…
Лала усмехнулся. Совсем хорошим стрелком Узкоглазый Ага действительно не стал, ему оказалось трудно приноровиться к турецкому луку, очень уж иных, по сравнению с привычными, навыков требующему. Зато он умел уклоняться от стрел и отбивать их на лету. Все ученики янычарской школы глазели на это, челюсть отвесив. С первого же года искуснейшие из юных воителей за Доку собачонками ходили, ловя каждое его движение. Всех попросившихся взял он в личные ученики, честно пытался свое мастерство передать, но так ни у кого и не получилось. Долго в это поверить не могли, поток желающих иссяк лишь на пятый год.
– Да, далеко мне в этом до совершенства суждений… Но у шахзаде Мустафы, как у лучника, вероятно, отцовская рука?
– О да, – произнес лала-Мустафа совершенно искренне, – султан, да будет он вечно здрав, в искусстве лучной стрельбы – мастер, каких мало. Он…
Наставник собирался было рассказать о том, на какую дистанцию мечет Сулейман Кануни стрелы при стрельбе с гушангиром[9] и без него, как попадает в движущуюся цель на охоте и – трижды такое бывало в сражениях – сколькими выстрелами из десятка поражает мишень на ста шагах, сколькими на трехстах… Всегда приятно рассказать о своем повелителе то, что является правдой без капли лести.
Собираться-то он собирался, но вдруг заметил чуть отстраненный, безразлично застывший взгляд Доку – и ничего не стал говорить.
– А есть ли основания считать, что эта рука ослабела? Или что она вскоре слабеть начнет? – спросил Узкоглазый Ага голосом, столь же безразличным, как и его взгляд.
– Нет, – тяжело уронил лала-Мустафа после минуты напряженного молчания.
Султану всего сорок лет. Человеческой жизни, как известно, срок отмерен Аллахом, но можно полагать, что Сулейман Законодатель, да будет благословенно имя его, отбыл примерно две трети этого земного срока. Может, даже меньше: он действительно здоров и крепок, неподвержен вредоносным привычкам, окружен лучшим во Вселенной сонмом врачей.
Евнухи снова немного помолчали.
– Есть ли у тебя основания полагать, что твой тезка – плохой сын и плохой брат? – спросил Доку уже не отстраненно, но с живым сочувствием.
– Нет, – мрачно повторил наставник. – Хорош он как сын. И как брат лучше многих. Когда три месяца назад прибыл из своего санджака в Истанбул, очень дружески с моими мальчишками общался. Они замкнулись было, но он их расшевелил. Маленького Джихангира на руках носил и в воздух подбрасывал. Смеялись оба.
– Тогда о чем мы вообще говорим, почтенный лала? – Доку положил руку на столик рядом с кофейной чашкой. Но чашку все же не взял, это означало бы конец разговора. Посмотрел на Мустафу выжидательно.
Как раз в этот момент со стороны прохода в малый дворик, где обычно и готовили кофе, вновь появился юный «цветок» с подносом в руках. Он был слишком далеко, чтобы хоть что-нибудь подслушать, и мялся там, явно опасаясь подойти ближе. Доку-ага вдруг повернулся всем корпусом и бросил на мальчишку такой взгляд, словно стрелу пустил. Тот, бедняга, вместе с подносом едва не провалился сквозь плиты двора и, точно уяснив, что в услугах его сейчас не нуждаются, начал пятиться к дальней стене.
– Я скажу тебе, о чем мы говорим, почтенный ага. – Лала-Мустафа был по-прежнему мрачен. – Братские чувства, когда они есть, – это очень хорошо. Но нам ли с тобой не знать, сколь непрочен этот аркан, если речь идет о престоле. О престоле и о вражде. Женской вражде.
Тут Узкоглазому Аге возразить было нечего. От разных жен у султана дети. Мустафа – сын Махидевран-черкешенки, все остальные – из чресел Хюррем-роксоланки. Враждуют они. Издавна и смертно. Давно уже восторжествовала Хюррем, но все ее многолетнее торжество – тлен и прах по сравнению с неотменимым: старший шахзаде, Мустафа, рожден черкешенкой. Старший – и лучший.
Да хоть бы и в дружбе пребывали матери. Безжалостен закон, введенный еще полвека тому назад Мехметом Завоевателем: «Смертной казни подлежит тот, существование которого угрожает жизням многих других». Звучит он так, что может быть применен к кому угодно, но придуман исключительно для тех шахзаде, которые не сделались султанами. Существование любого из них угрожает Блистательной Порте мятежом, а значит, ставит под угрозу жизни многих.
Конечно, каждый новый султан cам себе закон и канун. Может быть, султан Мустафа, который столь хорош как сын, брат, сабельный боец и лучник, с младшими сыновьями своего отца поступит милосердно, тем более что одного из них он, смеясь, на руках носил. В таком случае он станет первым султаном, кто так поступил.
Даже нынешний султан поступил… так, да не так. Впрочем, ему никак поступать не довелось: к моменту вступления на престол был он у своего отца единственным сыном, то есть последним из выживших, одолевших этап детских хворей и юношеских опасностей. Великое счастье, но и великая опасность. Разумеется, мужскому потомству султана надлежит быть многочисленным, иначе, чего доброго, прервется род…
Но на престол сядет лишь один.
Доку-ага кивнул, признавая право лала-Мустафы задуматься о таких вещах загодя, пускай даже султану еще жить и жить.
Это не заговор, не измена. Просто сидят два евнуха – один в должности небольшой, второй в немалой – и ведут разговор о делах государственного масштаба: на годы вперед, на целое поколение. Ну так ведь глупец тот, кто думает, будто все решается только на уровне пашей и беев.
Цену кивка Узкоглазого Аги лала-Мустафа хорошо знал. И потому, переведя дыхание, решился продолжить:
– Только за счет моих шахзаде, сам понимаешь… Ты все правильно описал, ага. Не победить. Баязид еще когда вырастет, да и то… А пока во всей нашей семье только двое мужчин. Твоя хозяйка и твоя девочка.
Ага не переспросил и не возразил. Он не страж гарема, но мастер боя, преподаватель воинской изощренности, на нынешнюю должность его самолично султан поставил. В этом смысле нелепо говорить, что у такого человека может быть «хозяйка». Но во Дворец Пушечных Врат он, Доку, пришел из Изразцового павильона. Где был человеком Хюррем. И – да, блистательная русоволосая хасеки твердостью духа и разумом больше мужчина, чем все ее сыновья.
А его девочка… Она действительно его. Плод его бесплодных чресел, жемчужная сердцевина души, сладость и горечь несказанная. Все трое ее братьев, о которых хоть что-то сейчас можно сказать, – девчонки по сравнению с ней. Духом в мать пошла.
Или в отца…
– Союза с хасеки-хатун искать вовсе излишне, – проговорил Доку бесстрастно. – Она и без того сделает все, чтобы престол достался одному из ее сыновей.
«И чтобы резали друг друга уже они сами, родные братья, а не их единокровный полубрат, твой тезка. По душе тебе такой исход, лала-Мустафа?» – этого Доку, разумеется, вслух не произнес.
Его собеседник угадал несказанное. И тяжко вздохнул: «Ну, может быть, не придется им… по крайней мере не всем… Еще отведен кому-то из троих, а тем паче четвертому, срок на детские болезни, опасности юношеского возраста, взрослый риск поля боя, интриг и мятежа. Но лучше так, чем…»
И снова кивнул Доку-ага. Для наставника даже так – лучше. Если уж иначе совсем никак.
Несказанное осталось несказанным, но есть вещи, которые нужно произнести вслух. И лала-Мустафа сделал это.
– Это так. Но в той семье тоже есть мать, и она в не меньшей степени мужчина духом. Двойной перевес.
– Не так и много.
– Брось, мастер боя. Немного – это когда ты против учеников, пусть и старшего года. Тут-то хоть против восьмерых. Или даже против янычар полной выучки да с боевым опытом: их, полагаю, тоже и двоих не хватит, и троих.
– Не хватит, – подтвердил Доку.
– Вот. Но это на тебя. И в прямой схватке. Вообще же двоих на одного, как правило, достаточно, особенно когда бьются… на дворцовый манер. А мы не в таком мире живем, в котором четырнадцатилетние девочки за бойцов считаются.
– Девочки? – Узкоглазый Ага лишь слегка поднял бровь, голос его тоже звучал обычно. – Какие девочки?
В воздухе повисла странная пауза, короткая, но словно бы звенящая сталью.
У лала-Мустафы вдруг ни с того ни с сего возникло нелепое ощущение, что он перерублен пополам. Или вот-вот будет. Ерунда, конечно, но…
– Да просто девочки вообще, – растерянно пробормотал он, – даже если дух у них равен мужскому. Как у твоей Михримах.
– А.
Ощущение перерубленности исчезло. Мустафа чуть заметно поежился, провел ладонью по телу – от левого плеча к правому бедру, вдоль незримой линии, по которой его несколько мгновений назад обожгло ледяной вспышкой. Задумался.
– А вообще ты верно заметил. Именно девочки. Две, а не одна. Верная служанка – это очень хорошо, особенно когда есть возможность на нее влиять. И во сто крат лучше, если это не просто служанка, а наперсница с самых нежных лет, молочная сестра.
Сказав это, лала-Мустафа снова на миг ощутил, будто его тело рассекли незримым клинком, на сей раз не от плеча к бедру, а поперечно, через гортань и шею. Но, уже зная, что это ерунда, глупое наваждение какое-то, продолжил:
– Большая удача, что ты можешь влиять на дочь султана не только напрямую, но и через ее молочную сестру. Они ведь обе выросли под твоей рукой…
– Под моей. – Доку-ага странно усмехнулся. – Больше, чем под рукой Хюррем-хатун. Ей за дворцовыми делами часто недосуг.
– Вот и отлично.
Между ними снова повисла пауза. Тяжелая, но на этот раз не насыщенная призраком рубящего взмаха.
Лала-Мустафа вновь украдкой передернул плечами. Да что за безумие: может, по исходу сегодняшнего разговора Узкоглазый и не сделается его полным союзником, но в этот момент они уж точно не враги. Одной крови служат, крови потомков султана и роксоланки.
Ну и вообще, Доку известен как раз не яростным пылом, а ледяной сдержанностью, даже когда он и вправду с оружием в руках. А сейчас к тому же его руки свободны, а их оружие вон там, в стойке у дальней стены, где они немного поупражнялись на гвизармах, прежде чем приступить к кофейной церемонии. И ни на поясе Узкоглазого, ни рядом на подушке никакого оружия нет. Как и у самого Мустафы, конечно. Не в обычае это за кофе.
– Отлично что? – поинтересовался Доку в своей обычной манере, то есть совсем без выражения.
– Нам нужен в семье еще один мужчина, Доку-ага. Если уж блистательной хасеки не очень повезло с сыновьями, то пусть на ее стороне играет зять.
Лала с легким беспокойством прислушался к своим чувствам, но ощущение разрубленности более не возникло. Это, разумеется, какой-то странный морок был. Хвала Аллаху, он миновал бесследно.
– А сама хасеки знает об этих твоих планах, многопочтенный лала?
– Нет, почтенный ага. Потому я и обратился к тебе.
Узкоглазый снова кивнул. Третий кивок за сегодня. Поистине чудо: вообще-то, у него и за месяц такое редко случается.
Но у кивков, как и у жестов, свой особый язык, евнухи понимают его лучше всех прочих. И вот этот кивок по-прежнему не был знаком согласия: он лишь признавал законность вопроса.
Все понятно. Блистательная Хюррем – пантера в полном цвете сил, и она надеется без посторонней помощи одолеть состарившуюся тигрицу. Обе они защищают свое потомство, и их силы, возможно, действительно равны. Но лала-Мустафа видит – и вряд ли ошибается, – что рядом с тигрицей стоит уже не тигренок, но молодой тигр. И чтобы одолеть его, даже такого, каков он сейчас, нужен матерый барс. Пускай сама пантера еще не признала этого. Поскольку признать такое – значит призвать на помощь и поделиться властью.
И еще есть юная пантера, бесстрашная и непокорная. Которая сама по себе все же не сила – только вместе с грядущим барсом, в таком уж мире мы живем.
Юная пантера, на которую нужно влиять. В том числе через ее молочную сестру.
Наставник шахзаде сам не понимает, в чем он прав, а в чем ошибается. К сожалению, это даже и не очень важно. Потому что в этом аркане все волокна, включая ложные, затягиваются в истинную петлю.
Тут Доку вдруг улыбнулся, потому что мысли о юной пантере напомнили ему о совершенно реальном существе из рода кошачьих, не просто юном, а совсем маленьком, шатком на лапках, но уже исполненном непокорной отваги. Иберийский котенок. Короткохвостый, кистеухий, пантерно-пестрый котенок для его девочки.
– По твоему мнению, не рано?
– В самый раз, – произнес Мустафа, безошибочно определив суть вопроса. – Твоей девочке нет полных четырнадцати, но ведь и ее матери, когда ту доставили в гарем, лишь на месяцы больше было. Знаю, что скажешь: с настолько узкими бедрами рожать опасно, а значит, и замуж рано. Заранее согласен. Султанская дочь – не султанская наложница. Ну так речь ведь и не идет о том, чтобы сейчас. В этом деле нам кофе еще года два-три пить, вряд ли меньший срок все займет. Для любой девушки, чья бы дочь она ни была, еще немного протянуть – вот уже и перестарок. А за это время как раз не только она расцветет, но и он по службе поднимется. Есть куда тянуться: сейчас даже не санджак-бей, а так, наместничек. А вот если помочь ему дорасти хотя бы до третьего визиря, то дальше он уже сам…
Лала-Мустафа умолк. Он сказал достаточно, даже сверх того. Если сейчас его собеседник промолчит – значит, они враги. И в дальнейшем им предстоит губить планы друг друга, не окажется у них иного выбора.
– И кто же?
– Ликийский наместник, Рустем-паша. – Наставник незаметно перевел дух. – Предваряя твой вопрос, скажу сразу: он пока тоже ничего не знает.
Ощущения разрубленности не возникло и сейчас, но взгляд Доку был таков, что лала всем телом откинулся назад, едва не упав с подушек.
– Прокаженный?
– Что ты, что ты! – произнес Мустафа с неуместной торопливостью. – Угревая сыпь. Да она почти и сошла уже, это была прошлогодняя история. Я специально к нему двух врачей засылал, и те при осмотре заметили на его рубахе вошь.
На сей раз Узкоглазый поднял обе брови сразу.
– На тех, кто по-настоящему болен проказой, вши не живут, – объяснил лала, мысленно учтя, что его собеседник впервые попал в Истанбул уже взрослым человеком и потому не знает вещей, известных тут даже последнему из уличных нищих.
Брови Доку не опустились.
– Даже не думай о таком, – теперь лала говорил без всякой торопливости, даже надменно, – не только во вшах дело. Проверено. Он здоров. Разве только мыться ему при его сальной коже надо бы почаще, ну ничего, научим. Кем бы я ни был, но дураком не являюсь точно. И рассчитываю на длительное содействие, а не на неукротимую ненависть и страшную смерть.
– Да. – Доку кивнул в четвертый раз, и снова по-прежнему: признавая правду собеседника, но не включая ее в свой выбор.
Теперь этикет беседы позволял ему молчать долго. Но Узкоглазый Ага, не воспользовавшись этим, заговорил почти сразу, неожиданно длинно:
– Когда гяур из кастильского посольства передавал для моей девочки подарок, детеныша рыси, у меня был случай немного пообщаться с одним из малых чинов при том посольстве. Тем, что как бы секретарь, но на самом деле, конечно, телохранитель…
Лала-мустафа ничуть не удивился и не спросил, на каком языке они общались. Впрочем, секретарь этот, конечно, мог знать турецкий, а еще оба могли использовать наречие мавров, которым многие кастильцы владеют. Но им, наверное, и отсутствие общего языка не помешало бы: с любым мастером оружия Доку-ага как-то ухитрялся свободно объясняться. А среди кастильцев мастера есть. Даже слишком много. Ладно, пусть об этом Диван думает, у него голова многобородая.
– Так вот, этот телохранитель рассказал мне такую историю. Когда-то давно свергли одного кастильского султана, он, правда, сумел бежать, собрал войско и какое-то время боролся против своего брата, севшего на его престол. Военачальник он был столь же скверный, как и правитель, так что ничего у него не вышло. Таяло войско, переходило к новому султану. В конце концов он уже не воевал, а бегал и прятался. Лишь один старый паша, у них это «граф» называется, как с самого начала засел в малой крепостце, так и держался там, отбивая все штурмы, продолжал стоять за свергнутого. Это уже изменой стало, а не верностью, ведь вся страна под новым султаном, причем и вправду лучшим. Но изменой это никто в Кастилии не считал. Все знали: у того графа особая причина имелась. Четверть века назад сопровождал он супругу старого султана, бывшую на сносях… Уж и не знаю, куда и откуда сопровождал, но пришлось идти морем. Шторм начался – и преждевременные схватки начались с ним. И роженица, и вся женская свита ее совершенно беспомощны оказались. Тогда этот граф, в ту пору еще не старый, привязал к своему телу новорожденного шахзаде – того, который потом стал султаном и был свергнут, – и несколько дней, пока корабль шел по бурному морю, не расставался с ним. Лишь по прибытии в шахский дворец он передал младенца мамкам и нянькам. Вот потому никто не мог назвать его изменником: та верность, которая с первых дней жизни к телу привязана, – она особого закала.
– И к чему ты это рассказал, почтенный?
– К тому, многопочтенный, что и моя верность такова. Ты, конечно, знаешь, что я был рядом с хасеки, когда ей выпал срок разродиться во второй раз, тоже чуть ранее срока. Но вот чего ты не знаешь, так это то, что роды были тяжелыми, повитуха опоздала, а Бахат и Эмине сами не справились бы… И потребовались мои руки, чтобы помочь роженице и принять дитя. К себе младенца я не привязывал, незачем было. Но в руках держал – первым. И эту связь не разрубить. Разве только вместе с жизнью.
– И ты считаешь, что я предлагаю тебе это?
– Не знаю. Возможно, и не предлагаешь. Но выходить ли замуж за… такого, как Рустем, пускай он и не прокаженный, решит моя девочка, а не ее мать. Сама. И не жди от меня подмоги в том, чтобы на это решение повлиять.
Некоторое время они сидели молча. Ветер сорвал с платана несколько листьев, уронил их на кофейный столик. Доку разложил их вокруг своей чашки, как фишки на игральной доске, а потом вдруг неуловимым движением перемешал, рассеял всю композицию.
– Так чем же закончилась история с тем верным графом-пашой? – спросил Мустафа, как будто это имело теперь особое значение.
– Скитаясь, захворал и умер свергнутый беглец. Его брат-султан велел набальзамировать тело, привезти его в столицу и похоронить торжественно, в семейном мавзолее. Но перед тем послал к старому паше гонца и словом своим гарантировал ему свободный выезд из осажденной крепости, а потом возвращение назад, чтобы тот мог своими глазами увидеть: мертв султан, причем не от меча. Старик выехал, убедился и, вернувшись в крепость, приказал своим воинам сложить оружие. Не знаю, было ли им обещано полное прощение, тем паче было ли оно соблюдено. Вполне могло быть и так. Рассказал мне тот кастилец, что самому старику султан предложил служить ему столь же верно, как прежде тот служил изгнаннику. Но старый граф ответил, что подобную верность султан для себя получить не сможет, поздно ему: ведь он не только что родился. Причем подобная верность вообще так просто не дается и слишком дорого обходится.
Теперь можно было делать последний глоток и завершать разговор. Но вместо этого лала-Мустафа вдруг, не вставая с подушек, наклонился вплотную к собеседнику, за счет своего огромного роста словно бы перечеркнув расстояние между ними.
– А теперь выслушай меня, почтенный ага. – Лицо его налилось темной кровью, голос пресекался. – Ты о своей верности особой закалки рассказал – так вот, и у меня она такая же. К Иблису благо престола и Порты, небось не рухнут. Трое мальчишек на мне, ага! Пускай даже ни один из них не идеален как будущий султан и никого из них я не принимал на руки прямо из материнского лона, но под моей рукой они растут с самого детства. Легко тебе говорить о неразрывности уз с твоей девочкой! Михримах ведь в любом случае ничего не грозит: безопасна смена власти для дочерей султанов и сестер их. Разве что замуж чуть хуже выйдет – да, ага, хуже, чем если мы это вместе размыслим, ведь Рустем блестящая партия для нее, подумай об этом. Но хоть бы и так. А вот моим мальчикам что посоветуешь? Положиться на милость Адаша и его матери, столько лет алчущей мести? Ну, может, младшего, Джихангирчика, он и пощадит, раз уж на руках его носил и со смехом в воздух подбрасывал. Только ведь Джихангир как раз не из моих мальчишек, я ему не наставник и вряд ли буду, хватит с меня и за этих троих ответственности!
Он, будучи вне себя, шипел и брызгал слюной. Доку чуть отстранился, но слушал внимательно, не как врага, даже не как отвергнутого союзника.
– Так что сам подумай, друг мой… – Мустафа вдруг обмяк, устало махнул рукой. – Беспокойные братцы твоей девочке достались, да уж какие есть. Они всегда ей опорой и защитой будут. Та же кровь, та же утроба. Лучше ли ей станет, если отдать их на съедение? Да и самой Михримах все равно вскоре замуж, как иначе-то, не век же ей со своей служанкой по дворцовым коридорам взапуски бегать… Так чем этот хуже, чем тот, любой, нам неведомый? Велико ли дело – чуть шелудивый, умеренно смелый и возраст такой, что в отцы годится… Иначе часто ли бывает? Зато, похоже, в своем пути наверх не оступится, сам шею не сломит и супругу, низвергаясь, в ссылку не увлечет. Подумай хотя бы об этом, почтенный…
– Ты убедил меня, многопочтенный, – серьезно ответил Доку. – Я непременно обдумаю твои слова еще раз, и очень внимательно. О своем решении сообщу.
Они одновременно потянулись к своим чашкам и сделали последний глоток: кофе, уже остывший, не стоил того, но ритуал должен быть соблюден.
Через весь двор уже спешил к ним подросток-«цветок» с подносом и новыми чашками на нем. Потому что полный ритуал кофепития требует трех чашек, причем во время первой и последней разговоры не ведутся.
Мальва, вот что это за «цветок». Желтая Мальва, никакой не Лютик и не Гиацинт.
На этот раз чашки опустели быстро, но Желтая Мальва какое-то время боролся между двумя желаниями. Первое заключалось в том, чтобы тут же подбежать и, доказывая свою расторопность и полезность, унести кофейный поднос. А второе настоятельно требовало помедлить еще хоть чуточку, давая Верблюду и Косому возможность не просто удалиться, а вообще исчезнуть с глаз долой.
Даже странно, с какой легкостью победило второе из желаний. Ведь Мальве на самом-то деле ничего не грозило. Разве что подзатыльник можно было получить, но это как раз скорее за нерасторопность. К не вышедшим из подросткового возраста «цветкам» относятся ласково, берегут, балуют, дарят украшения и лакомства. И службой не изнуряют. А уж чтобы заставить упражняться на всяческой стальной гадости, острой или тяжелой, это уж вовсе нелепая мысль. Для такого существуют мальчишки из Сокольничей палаты.
Правда, недавно Желтая Мальва заподозрил, что лично его, во всяком случае, ценят скорее как некую диковинку. Вроде говорящей птицы или белой разноглазой кошки с особо длинной шерстью. Он пока не разобрался, приятно это или наоборот.
В страшилки о том, будто старшие евнухи перед новолунием устраивают пиршества, на которых подается блюдо из мозгов трех самых юных «цветков» (и будто бы у тех, кто отведал этого кушанья, на неделю вновь естество отрастает), Мальва перестал верить на второй год после того, как попал в гарем. Ему тогда как раз десять исполнилось, нельзя быть таким доверчивым, пора самому эту историю пересказывать другим, тем, кто на год-два моложе. Пусть теперь они боятся.
Но вот недавно совсем взрослые ребята с большой оглядкой шептались, что, дескать, Носорог, второй глава «черных» евнухов, захворал суставами и кто-то подсказал ему, будто в таком случае полезно прикладывать к больному месту обезьяньи сердца. Наверняка не врач, а один из их же знахарей, африканцы им верят куда больше, чем дворцовым медикам. Носорог с тех пор как прихрамывал, так и продолжает, но если количество кошек, попугаев, мангустов и камышовых крыс среди зверюшек-любимчиков осталось вроде бы прежним, то число обезьянок, кажется, действительно поуменьшилось. А несколько младших евнухов ходили как в воду опущенные.
Да ему-то, Мальве, что, у него любимец не живой, а из лучшего шелка сшитый, с настоящими волосами от семи девушек (даже сама госпожа Михримах свою прядь пожертвовала!) и с тремя рубиновыми пуговками, вот! А завтра ему подарят еще и ожерелье. Тогда он сразу обгонит всех, ни у кого больше не будет такой куклы: у Фиалки тоже кукленыш на зависть красивый, но настоящее золотое ожерелье ему не достать.
Жаль, что нельзя стать совсем палатным «цветком», без того, чтобы время от времени прислуживать во дворе евнухов. Все-таки жестокая это штука – правила дворцового церемониала…
Как на него Узкоглазый зыркнул! Будто и вправду готов сердце Мальвы к своей болячке приложить.
«Цветок» подхватил с низенького столика поднос. Держа его ровно, чтобы ни в коем случае не уронить драгоценные фарфоровые чашки (Верблюд и Косой как раз старшие евнухи, таким только из фарфора пить!), помчался к судомойне. Не поворачивая головы, быстро окинул взглядом двор.
Тюрбан Верблюда мелькал над рядом аккуратно подстриженных кустов возле дальней ограды, оттуда же доносился его сиплый рев: кажется, он распекал садовника. Если и Косой там, то его, конечно, видеть нельзя: над кустами он может появиться, только высоко подпрыгнув. Ростом он немногим выше Мальвы.
Кстати, прыгать-то Косой умеет, прямо как саранча. Вот пусть и скачет для тех дурачков, перед которыми учительствует с этими своими саблями и прочим железом. При чем тут палатные евнухи?
Желтая Мальва свернул за угол. И сразу же наткнулся на Косого. То есть не наткнулся: стальная рука схватила его за плечо, подтащила к стене, развернула – и вот уже юный «цветок» стоит лицом к лицу с Узкоглазым Агой.
Другой рукой ага перехватил поднос с чашками, не дал ему упасть, осторожно опустил на мощенный каменными плитами пол. «Чтобы не звякнуло», – догадался Мальва и предсмертно замер, уже видя свое сердце приложенным к больному суставу, а мозг съеденным. Здесь была площадка, не видимая ни со «Двора гвизармьеров», ни со стороны судомойни, так что и в самом деле только звук мог выдать.
Мысли крикнуть, позвать на помощь даже не возникло.
– Говори, – вполголоса приказал Косой.
– Я не виноват, Доку-ага, – залепетал «цветок», мгновенно поняв, что отвечать тоже надо вполголоса, – меня заставили! Она меня заставила. Что я мог сделать…
Узкоглазый Ага, по-прежнему не расцепляя хватки, присел на корточки. Подростку оставалось только сделать то же самое.
«Это чтобы к земле поближе. Чтобы мое тело тоже упало совсем беззвучно…»
– Итак… – по-прежнему негромко произнес Доку.
– Я только первую чашку отнес, когда она подходит со служанкой, госпожа Михримах. Спрашивает: мол, что тут делаешь? А я что, мне ведь здесь и нужно находиться, это скорее ей не положено, двор же за гаремным пределом… Говорит – молчи. Судомойня, мол, и для гаремных кварталов, и для стражнических. А этот коридор – он, по-твоему, к судомойне относится или к запретному двору? Я с ответом затруднился. Говорю, ну ладно, ты, госпожа, прости, они вот-вот допьют и по второму разу мне знак сделают, так что мне поневоле нужно будет выйти на запретное для тебя пространство. И тут она спрашивает: о чем они говорят – подслушал? Это вы с Ве… ой, прости, господин, с лала-Мустафой то есть. Нет, отвечаю. Я себе не враг, чтобы даже пытаться. А мне, говорит она, нужно знать, о чем будет их разговор. Я на нее смотрю как на утреннюю звезду в вечерний час и говорю: ну как же это? Но, госпожа, я никому не скажу, что ты меня о таком просила, ты не бойся…
Тут Мальва сообразил, что уж слишком частит, торопится, а ведь сколько говорить будешь, столько и проживешь. И начал говорить медленнее:
– Она мне говорит: сам, мол, не бояться будешь. Ну-ка, раздевайся. Что, посмеешь ослушаться? Я и не посмел. Кто я, а кто она. Она тоже одежду сняла, мою взяла, переоделась, посмотрела на меня и говорит: в шальвары мои не влезешь, рубаху тоже не трожь, а вот энтари, верхнее платье, можешь через плечо перебросить. А впрочем, лучше не надо: здесь закуток потаенный, никто тебя не увидит. Так и стой голый.
– А ты, значит, так и стоял… – совсем тихо произнес Доку-ага, глядя в землю.
– Ну да. Тут ведь, господин, ничего такого нет: нас с госпожой Михримах на уроках любовных услад наставницы часто сводили вместе раздетыми – и в постели, и в бассейне, и…
Узкоглазый Ага вдруг отвернулся, но «цветок» успел заметить, как его лицо исказилось в страшной гримасе, и обреченно подумал: это, должно быть, последнее, что он, Мальва, вообще видит. Но пролетело мгновение, другое – и Мальва понял, что все еще жив, хотя со влагой в штанах, а страшный собеседник смотрит на него каким-то совсем застывшим, как у рыбы, взглядом, и лицо у него тоже словно бы рыбье. Мальве вдруг подумалось, будто тот сам умер, вот так, прямо на корточках, не упав. Осторожно пошевелился было, чтобы освободиться, но пальцы с когтящей силой впились в плечо. Пришлось продолжать рассказ.
– …Служанка госпожи Михримах, Разия, наверно, помогла ей одежду подвернуть, подвязать, тюрбан мой обмотала – и получилось я как я. Если, конечно, в лицо не смотреть. Но когда кофе подносишь, тебе старшие в лицо никогда не смотрят… А ты, господин, значит, посмотрел, правильно?
Мальва внезапно сообразил, что задал Узкоглазому Аге вопрос, чего точно делать не следовало. И заторопился, хотя понимал, что этим сокращает свою жизнь:
– А потом госпожа Михримах передала служанке вторую корзинку, взяла поднос и ушла. Вскоре вернулась очень сердитая. Надела свою одежду, а мне мою бросила. И ушла совсем, вместе с Разией и корзинками.
Сказав это, «цветок» зажмурился. Больше он никаких вопросов от Доку-аги не ждал. И поэтому, когда вопрос все-таки прозвучал, чуть не умер от счастья, что еще жив. И от этого же счастья сам вопрос как-то забыл, пришлось переспрашивать.
– Что в корзинках было? – терпеливо повторил Доку.
– Так зверята же, господин! Госпожа Михримах с ними не расстается – и в палатах, и на прогулке. Щенок этот куцемордый и пардовый котенок. Одну корзинку госпожа сама несла, другую служанка.
Все. Вот теперь точно вопросы закончились. Даже этот до странности лишним был…
– Она мне еще золотое ожерелье за помощь обещала… – умирающе всхлипнул Мальва и обмяк в руках Доку-аги, сползая на плиты рядом с кофейным подносом.
В этот миг он мог думать только об одном: кому кукла достанется? Хорошо бы, чтоб не Фиалке. А если и ему, то пусть госпожа Михримах хотя бы не выполнит свое обещание. Думать о том, что Фиалка получит кукленыша уже с ожерельем, добытым ценой жизни, оказалось сверх сил.
Узкоглазый Ага склонился над лежащим «цветком». Приблизил губы вплотную к его уху.
– Ты никому и никогда об этом не расскажешь, – шепнул он.
Это, разумеется, не было вопросом.
Желтая Мальва слабо кивнул. Ну конечно, кому он и сможет-то рассказать хоть что-нибудь в последние мгновения своей жизни.
А затем аги не стало рядом с ним.
Мальве потребовалось очень много мгновений, чтобы понять про себя: он все-таки жив.
Итак. Конечно, безудержная, безрассудная дерзость. Но и об осторожности не забывают, что радует. «Разия, наверно…» Значит, не узнал. Потому что, когда его девочки вдвоем, одна из них под чадрой.
Раз не узнал – живи.
Ну а мысли о том, чему их учат на уроках любовных услад, Доку сразу отсек, выбросил из головы. Что тут поделаешь: этого он представить не мог. В мире есть немало таких вещей.
Пусть будет так, что эти занятия – тренировки… И есть на них предметы, предназначенные исключительно для упражнений. Макивара. Бамбуковый меч. Вот что он есть, этот Мальва.
Собственно, его тело на самом деле и есть такой предмет, служебный и учебный (о своем теле Доку подумал мельком, это давно отболело; да ведь он даже не о себе думал, а о мертвой плоти юного Нугами, которого вот уже сколько лет нет на свете). Что до души…
Но чем является душа «цветка», он тем паче представить себе не мог. Эти палатные евнухи, сандала с раннего детства, были для него совсем уж загадочными существами. Вроде даже не говорящих птиц, но говорящих насекомых. Куда таинственнее, чем зверята в двух корзинках.
И пусть себе такими остаются. Была охота эти тайны разгадывать.
О том, какая зверюшка была в корзине той из девочек, которую Мальва назвал «госпожа Михримах», Доку не спрашивал. И так знал: бойцовый котенок, а не подушечный щенок.
Потому что глупости они одинаковые могут творить, это им по возрасту еще простительно. А вот проявить в ходе этого такую отвагу и изобретательность…
На это из них двоих способна только его девочка.
II. Время прокаженного
1. Под знаком луны
Была вечерняя молитва, было вечернее омовение, потом умащивание тела благовонными маслами. Теперь девушки лежали в своей комнате на тюфяках: прекрасных, мягких, застеленных тончайшими простынями, но положенных прямо на пол. Так подобает. Первой настоящей кроватью будет супружеское ложе, а пока надо повиноваться тому, что гласят дворцовые правила об обстановке девичьих спален. Нарушением считалось даже то, что тюфяки были двухслойными: нижний слой – из конского волоса, верхний – из нежнейшего пуха. Служанке, пусть и молочной сестре, по этим правилам полагалось довольствоваться только нижним, волосяным тюфяком.
Поутру эти перины приходилось взбивать Басак, и она время от времени ворчала: мол, для такой работы младшие служанки существуют. Но поди допусти к такому младших, не включенных в доверенный круг. Понять, может, ничего не поймут, однако языками чесать будут, разнесут по всему дворцу – а там их болтовня, чего доброго, и до понимающих доберется.
Михримах и Орыся лежали в одних спальных рубахах, длинных, до пят: покрывала сбросили – ночь была жаркой, душной.
Пустовато в комнате. Умывальные столики по углам, большие зеркала на одной из стен, два сундука возле другой. У изголовья Михримах – плетеная корзинка, в ней на бархатной подушке, свернувшись клубочком, посапывает Хаппа; когда ночи попрохладнее, Михримах ее в постель к себе берет. На ковре, прямо посреди спальни, вальяжно развалившись, возлегает Пардино-Бей. У него есть свое ложе из нескольких подушек, но он не считает себя обязанным проводить ночь именно там: вся спальня его, и весь дворец тоже, но Пардино столь великодушен, что соглашается терпеть в своем мире всех. Находящуюся под его покровительством Орысю – прежде всего, но и остальных тоже.
Только Хаппа сейчас и спит. С рысью этого никогда точно не скажешь, она, как и все кошки, всегда пребывает на грани яви и бодрствования. А девушкам не спится.
Тускло горит ночной светильник, но в нем нет нужды: сейчас полнолуние и свет щедро льется извне, даже сквозь застекленные мелким переплетом, а вдобавок еще и зарешеченные окна.
– Тебе какой больше нравится? – спросила младшая.






