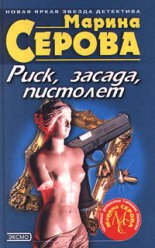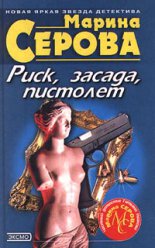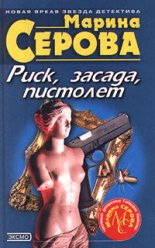Период полураспада Котова Елена
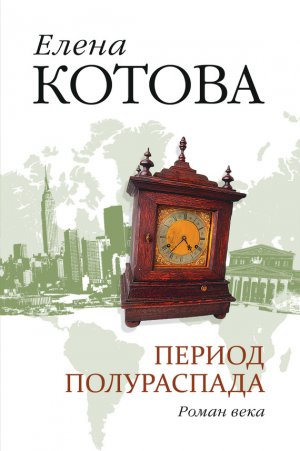
– Он влюблен в тебя?
– Катя, что за вопрос? – засмеялся Костя, а Маруся подумала, как права была Оля, говорившая, что у Кушенских это в крови… Непременно все обсуждать, иметь обо всем свое твердое мнение.
– Костя, я же должна знать, кто Милку по вечерам провожает!
– Моисей – интеллигентный и порядочный молодой человек.
– Как Соломон?
– Катя, какие странные у тебя ассоциации! При чем тут Соломон?
– По твоему рассказу, они похожи. – Катя вновь мечтательно задумалась. Милку провожает Моисей, контрабасист, ей хотелось представить его. – Определенно, они должны быть похожи с Соломоном, два молодых интеллигентных человека из еврейских семей.
– Что такое, по-твоему, интеллигент? Родители Соломона в Смоленске гостиницу держали. А его мать? Малообразованная, вздорная женщина.
– Костя, как ты можешь так судить! Дарья Соломоновна, конечно, с характером, ну и что? А Соломон безусловно интеллигентный. Ты же, наверное, его встречаешь в институте? По-моему, он очень к тебе тянется, и это прекрасно, правда, Милуша?
– Катя, а ты сама, часом, в Соломона не влюблена? – спросила Милка. – Он еще почти ребенок. Семнадцать лет только.
– Семнадцать, да. Ничего я не влюблена. Просто он очень хороший.
– А Моисей мне совсем не нравится, если тебе уж так необходимо это знать… Он вообще чудной! Все нормальные люди контрабасы в оркестре оставляют, а он свой домой таскает каждый вечер. Боится, что его из оркестровой ямы ночью украдут, что ли? Теперь, правда, стал оставлять, теперь он мою виолончель таскает. Идет за мной с виолончелью и все время что-то рассказывает, рассказывает. И никакой он не интеллигент. Как и Соломон, из какого-то местечка.
– Соломон не из местечка! Смоленск – большой и красивый город. Мне Соломон показывал фотографии в альбоме. Там дома не хуже, чем в Тамбове. И вообще, Смоленск даже больше Саратова…
– Катя?! Какие познания! Это тебе все Соломон рассказывал? – Милка бросила взгляд на Марусю, ища у сестры поддержки, но та, по своему обыкновению, помалкивала. – Ну, бог с ним, со Смоленском… А Моисей определенно из какого-то маленького местечка. И мне с ним совсем неинтересно. Провожает, ну и пусть себе провожает, если ему охота каждый вечер контрабас таскать за мной. И мою виолончель…
Моисей любил исторические романы, с удовольствием говорил о походах Суворова. Катя считала, что он хорош собой: среднего роста, худощавый молодой человек, с челкой гладких смоляных волос. Моисей всегда носил рубашки апаш и с трудом говорил по-русски: происходил он из огромной еврейской семьи, жившей действительно в безымянном местечке, то ли под Бердянском, то ли под Бердичевым. Его многочисленные дядья, братья – двоюродные и троюродные – после революции подались за границу, а Моисей – в Москву.
Милка же твердила, что терпеть его не может, и пеняла Кате за то, что та «приваживает его к дому». Когда вечером раздавались три звонка, она бежала прятаться. Лучше всего – в покоях у Елены Николаевны, там она была недосягаема, но к ней неудобно бегать каждый вечер, и Милка пряталась, где попало. В ванной, в Катиной с Марусей комнате, в собственной комнате под столом, крича сестрам: «Меня нет дома! Скажите ему…»
Моисей не мог не слышать Милкины крики, вероятно, они даже расстраивали его, но он не подавал виду и не смущался…. Вопреки всему, приходил каждый вечер, когда в консерватории не было концерта. Кате было неудобно перед Моисеем, она бежала ставить чайник. Моисей молча улыбался, неловко вытаскивая из кармана брюк кулечек либо с карамелью, либо с печеньем, которое он, как правило, тут же и просыпал на пол. Катя приносила чайник, доставала чашки, сидела с Моисеем, который развлекал ее разговорами, поджидая, когда Милке надоест прятаться и она выйдет к ним. Моисей мог сидеть весь вечер, улыбаясь и продолжая пить пустой чай, не притрагиваясь к принесенным сладостям. Когда Маруся выпроваживала его из их с Катей комнаты, он перемещался к Хесиным, вел разговоры с Соломоном, если тот был дома, а если его не было, то с его отцом, Анатолием Марковичем. Он высиживал Милку, как наседка высиживает яйцо.
Моисей и Милка поженились через год, и Моисей перебрался на Ржевский с книгами и контрабасом, который, несмотря на насмешки жены, все норовил прихватить с собой после концертов, так спокойнее. Сестры не задумались, хорошо ли, что их сестра, тамбовская дворянка, вышла замуж за еврея, и что она, также не задумываясь ни на минуту, прописала мужа в своей комнате. Ведь главное, что Моисей любил Милку, любил их всех, а Милка нашла в своем сердце способность наконец полюбить его. «А как его не полюбить? – повторяла Катя. – Такой славный, такое доброе сердце, тебя обожает. И Костю полюбил, и Соломона, играет с ними в шахматы. И они его любят, правда, Милуша?»
По утрам, отправляясь в училище, Катя встречалась взглядом с зеркалами вестибюля, отражавшими бесконечное количество раз ее худенькую фигурку, скрипку, ее новый мир. В нем столько нового, необычайного. Моисей, Соломон, Елена Николаевна… В нем столько доброты, столько красоты, счастья…
Костя стал чаще бывать вечерами на Ржевском, болтая с Моисеем и Хесиными о политике. Сестры подтрунивали над ним, что тот ходит из-за Ривы, не дай бог, Муся узнает, будет гроза. Костя сердился, от чего сестры веселились еще больше, пеняя брату, что тот и на Шурку Старикову заглядывается… К Марусе по вечерам часто приходили ученики, Милка все свободное время проводила на кухне, перенимая у Дарьи Соломоновны кулинарные премудрости. Для Кати же не было большей радости, чем проводить время с Еленой Николаевной Моравовой. Та часто зазывала к себе в гости, в свой закуток за двойной резной дверью, именно Катю, считая Милку слишком простушкой, а Марусю– слишком себе на уме… А вот Катя… Катя – это просто ангел.
В отгороженном от остальной квартиры мире Катя перебирала содержимое огромной шкатулки с украшениями Елены Николаевны. Она знала его уже на память, но от этого рассматривать сокровища не становилось менее интересно. В хозяйке сокровищ Кате нравилось все: тонкие, слегка тронутые сединой волосы, собранные в пышный мягкий пучок с выбивающимися прядями, темные платья с кружевными воротниками, подколотыми у горла брошью. Елена Николаевна рассказывала о жизни Моравовых в Италии, в Париже, дарила Кате безделушки. Портрет мамы Елены Николаевны, польской графини, привел Катю в восторг: на фарфоровом овале, обтянутом пурпурным бархатом, темноволосая женщина с точеными чертами лица в розовом платье с декольте позировала, держа на руке голубя.
Дарья Соломоновна, которой Катя прибежала показать миниатюру на кухню, только хмыкнула: «Барские подачки? Зачем это вам, Катя, за это же никаких денег никогда не дадут?»
– Дарья Соломоновна, это прекрасная работа, прошлого века!
– Ну-ну, – сказала Дарья Соломоновна и пошла прочь из кухни, унося шипящую сковородку с тушеным фаршированным карпом.
– Маруся, смотри, это мама Елены Николаевны. Необычайно тонкая работа. Даже Дарье Соломоновне понравилось.
В прихожей прозвучало три звонка. Катя бросилась открывать дверь. В квартиру вбежала Милка.
– Катя, пойдем скорей ко мне. Маруся дома? Маруся, иди скорее!
Сестры вбежали в Милкину комнату. Тут Маруся спохватилась:
– Милка, а где твоя шуба?
– Шуба? Она уже такая старая. Посмотрите! – Милка разжала ладонь. – Смотрите, какие огромные бриллианты. И такой чистой воды.
– Откуда они у тебя? – в ужасе спросила Маруся.
– Вхожу в вестибюль, там стоит интеллигентный человек и говорит: «У моей жены украли шубу. Купить не могу, а она кашляет, ей без шубы никак нельзя. Хожу по квартирам, хочу ее бриллианты на шубу обменять. Хоть старую, как ваша. Убыток, конечно, а что сделаешь?»
– Ты поменяла свою шубу на эти стекляшки? – закричала Маруся.
– Почему стекляшки… – Милка не успела договорить, а Маруся, накинув платок, бросилась к выходу, вниз по лестнице.
– Что с ней? – спросила Милка. – Она, что, думает, что это не бриллианты? Катя, почему ты молчишь?
– Ох, Милуша… – только и могла вымолвить Катя.
Катя и Милка плакали, Маруся, вернувшись и сообщив, что мужика из вестибюля, конечно, и след простыл, ходила из угла в угол, выговаривая Милке. Пришел Моисей, втащив в квартиру свой контрабас. Он только вздохнул, услышав рассказ о шубе. «Ничего, Милуша, – приговаривал он, гладя по волосам рыдающую жену. – Ничего. Шуба – не самое главное в жизни. Главное, чтобы у тебя не пропала вера в людей. Хороших людей гораздо больше, чем плохих. На дворе уже почти весна, к зиме подкопим денег, сошьем тебе пальто. Не плачь».
Прошел двадцать третий год, пробежал двадцать четвертый. Костю перевели из Москвы обратно на Украину. Теперь он работал на Горловском коксохимзаводе в Донецкой области. Сестры не расстроились от разлуки с братом, они радовались, что того отправляют на все более ответственные участки. Значит, ценят его на работе! Даже Муся, хотя и ворчала, как ей не хочется уезжать из Москвы, не считала Донецкую область провинцией. Сестры – тем более. Разве их Тамбов был провинцией? Там были театры, одна из лучших в стране музыкальных школ. А Саратов, где учился Чурбаков? Огромный город, где собирались поволжские промышленники, купечество, университет там отменный. И в Тамбове, и в Саратове бурлила культурная, духовная жизнь. Конечно, в революцию многое поменялось. Но революция давно прошла, разруха – тоже, скоро, совсем скоро, во всей стране все станет опять хорошо, уже все расцветает. Хоть Кирсанов взять. Город небольшой, но и в нем интересная жизнь! Прекрасное общество, кстати, немало художников, как пишет Таня, не говоря уже о сообществе талантливых врачей. А брат Николаша замечательно живет в Чите, недавно приезжал в Москву, уже с женой.
При мысли о Николаше Катя всегда грустила. Брат отдалился от них, жену его они и видели-то пару раз. Вспоминая о нем, Катя тут же вспоминала и об Оле, которая тоже жила своей жизнью, переписываясь лишь с Марусей. Катя не думала о том, что революция, их бегство от голода из Тамбова в Москву раскололи жизнь семейства Кушенских на «до» и «после», она не думала о том, что у дерева много ветвей, какие-то отсыхают, опадают, и их рано или поздно забывают. Ее мир, огороженный зеркальным вестибюлем, провожавшим ее в училище, был прекрасен, полон любимых персонажей, привычных и родных, как сестры, новых, но тоже уже дорогих, как Моисей, Соломон, Елена Николаевна. И Костя вернется рано или поздно из Донецка, а там он непременно найдет прекрасное общество, это же такой интересный город! Какая жалость, что он забросил скрипку…
Катя очнулась от мыслей, услышав два звонка. Шагов Дарьи Соломоновны в коридоре не было слышно, она побежала к двери: Соломон пришел из института, усталый, голодный, а дверь никто не отопрет. Соломон за годы жизни сестер в Москве, – на их глазах, надо же! – превратился из подростка в интересного юношу. Этим мартом справляли его двадцатилетие. Среднего роста, с носом горбинкой, темно-голубыми глазами слегка навыкате, с короткой курчавой шевелюрой… Кате он казался особенным, главное, необычайно умным, у него были такие точные суждения. И, кстати, неплохо играет на рояле. Жаль, что тоже забросил инструмент. Но один этюд Шопена у него получается просто отлично.
– Соломон, я знала, что это ты. Всегда узнаю твои звонки. Ты как-то по особенному звонишь.
– А что, мамы дома нет?
– Как у тебя в институте дела? Ты устал, наверное? Есть хочешь? Действительно, а где Дарья Соломоновна? – Катя шла за Соломоном по коридору. Тот, дойдя до своей комнаты, оглянулся: «Катя? Вы сегодня будете играть? К вам кто-нибудь собирается?»
– Разве что Шурка придет.
– Шурка? Позовите меня, когда будете чай пить.
«Ему Шурка нравится», – подумала Катя, входя в свою комнату. – Прекрасная была бы пара. Но она на восемь лет его старше. Хотя разве это имеет значение?». В дверь постучали: «Катя?»
– Удивительное дело, Катя, но мамы нет дома. Посмотри на кухне, она поесть мне что-то приготовила? Наверняка приготовила. Но я не знаю, где искать и как разогреть…
– Конечно, Соломончик, – Катя побежала на кухню. – Соломончик!
– Что?
– На вашей конфорке стоит что-то из моркови…
– «Что-то из моркови»! Это цимес.
– Да-да. А на столе, под полотенцем, сырники и еще… Еще курочка. Что тебе разогреть?
– Курочку и цимес.
– Я быстро. Тебе в комнату принести?
– Буду признателен. – Соломон удалился в свою комнату.
Катя возилась на кухне, когда внезапно появилась Дарья Соломоновна.
– Катя! Почему вы трогаете нашу еду? В чем дело?
– Дарья Соломонна, я Соломону ужин разогреваю… Он пришел голодный из института, а вас дома нет…
– Это не ваше дело! Не трогайте ничего на нашем столе. Что я, по-вашему, своего собственного сына не способна накормить? Уйдите, я вам сказала. Бессовестная какая! Мать только за порог, а она уже тут как тут, крутится… Совсем стыд потеряли… И все гордятся, мы, мол, дворянки тамбовские… Постыдились бы. И Шурка, подружка ваша, ни стыда, ни совести. Старая жидовка, а все моему сыну глазки строит, и в коридоре его – своими глазами видела! – так и норовит бедром задеть. И кто нам послал вас на нашу голову. Жили как люди, пока вы сюда не въехали…
Дарья Соломоновна возмущалась, не замечая, что Кати уже нет на кухне. «Бедная Дарья Соломоновна, – думала Катя, сев с книжкой на диван в ожидании, когда придут Маруся с Милкой, – трудно ей понять, что ее Соломон уже не мальчик. Цепляется за сына из последних сил…»
Маруся в тот вечер рассказывала, что в училище сестер Гнесиных появился новый, невероятно талантливый исполнитель из Армении. Арам Хачатурян. Шурка вторила Марусе, говоря, что надо непременно пригласить его в гости. Соломон пришел как раз когда Милка накрывала чай. После чая Шурка уселась за рояль.
Катя не сводила с Соломона глаз, а тот смотрел на Шуркины пальцы, такие тонкие, порхающие по клавишам… Катя думала о том, с кем Соломон проводит вечера, он редко приходил домой так рано, как в тот день. Обычно ближе к одиннадцати, а то и за полночь. А Катя всегда прислушивалась, когда тренькнут два звонка: Соломончик пришел. Только после этого она засыпала.
К концу года Соломон заметил Катину любовь, такую самозабвенную и одновременно непритязательную. «Катя, – сказал он ей однажды по дороге из кинематографа, куда он пригласил ее, и это стало для Кати счастьем, – мне кажется, мы должны пожениться».
До глубокой ночи Катя сидела с Милкой и Марусей в своей комнате. Она и Милка то плакали, то смеялись. Маруся пила чай: «Очень трудная семья у Соломона, Катя, ты подумала об этом? Ты старше его на пять лет, это тоже играет определенную роль …»
– Маруся, Катюша любит Соломона! Ты же согласишься, что именно это самое главное!
– Соломончик такой… деликатный. И добрый… Но с характером. Это ценно, когда у мужчины есть характер!
– Вот именно, с характером. Вся семья с характером.
– Непременно хочу венчаться…
– Как венчаться, он же еврей?
– Маруся, это так красиво: венчание, свечи, запах ладана… Стать мужем и женой перед алтарем, кольцами обменяться… Такой красивый обряд!
– Катя, это обряд перед Богом.
– Ах, Маруся… Сейчас, в революцию, все так поменялось… Соломон же не ходит в синагогу, верно? Я даже думаю, что если мы обвенчаемся, он прочнее войдет в нашу семью. Я и Милку все спрашивала, отчего они с Моисеем не обвенчались. Пока церкви совсем не закрыли, надо обязательно венчаться, это совсем другой коленкор. Не знаю, как тебя убедить, но многое будет по-другому. Наша церковь, на Поварской, мне тоже нравится, но, конечно, она ни в какое сравнение не идет с церковью на Никитском, ты согласна со мной? Венчаться в церкви, где венчался Пушкин… Милка, ты как думаешь?
– Если уж венчаться, то лучше на Никитском, чем на Воровского…
– Да, верно, все время по-прежнему называю улицу Воровского «Поварской». Ты права, лучше на Никитском.
Нетрудно представить, как отнеслась Дарья Соломоновна к намерению сына. «Соломончик, это же ни на что не похоже! Что тебе, еврейских девушек мало?» И Рива, бывшая, конечно, на стороне матери, и отец семейства, тишайший Анатолий Маркович, были втянуты в семейный совет, длившийся не день и не два.
– Тебе вообще рано жениться: только двадцать, институт надо закончить. Зачем хомут на шею раньше времени? – неуверенно поддерживал жену Анатолий Маркович.
– Она старше тебя на пять лет! Старуха!
– Рива, тебе самой двадцать шесть, ты же не старуха.
– Я на двадцатилетних мальчиков не заглядываюсь.
– А как вы собираетесь жить? У нее ничего нет. Стипендия одна. У тебя тоже, – Анатолий Маркович старался увести разговор от опасной темы возраста.
– Папа, я через год закончу институт. Буду инженером. Ты же не хочешь сказать, что инженер не в состоянии прокормить свою жену?
– Ты ее нам на шею посадить собрался? – восклицала Дарья Соломоновна.
Венчались Катя и Соломон в церкви, где венчался Пушкин. Неизвестно, как Соломон объяснил это родителям, но Катя доказывала сестрам, что это еще одно подтверждение его характера и его чувства к ней.
Катя заканчивала Гнесинский институт, иногда подрабатывала в оркестре вместе с Милкой и Моисеем. Муж оказался решительным противником того, чтобы его жена работала и вообще отвлекалась на что-либо помимо семьи. Катя без колебания бросила институт, хотя Маруся пришла в отчаяние от этого поступка, даже Моисей убеждал Соломона, что как бы дальше ни сложилась жизнь, диплом скрипачки Катюше всегда пригодится. Но Соломон был непреклонен, пенял жене на то, что ее сестры, видимо, не верят в его способность достойно обеспечить семью. Катя умоляла сестер и Соломончика, которого она тут же стала звать ласково «Слоник», не ссориться. «В семье должен быть мир, – убеждала она всех. – Это же самое главное!»
Шурке Стариковой пришлось съехать из квартиры на Большом Ржевском, а Маруся перебралась в темноватую и сыроватую угловую комнату, куда едва-едва поместился ее рояль. В их с Катей прежней, угловой комнате с балконом поселились молодожены. Соломон прописался в ней, оформив в качестве «ответственного съемщика», естественно, себя как главу семьи. Это несколько примирило Дарью Соломоновну с браком сына, и она позволила отобрать у семьи Хесиных огромный буфет красного дерева. В нем не было изящества и легкости, присущих тамбовским вещицам, но он был импозантен, сделан добротно и со вкусом: Дарья Соломоновна понимала толк в вещах. Нижнюю часть буфета покрывала резьба, верхняя, застекленная, – покоилась на витых точеных столбиках. Соломон перевез в их с Катей комнату и письменный стол с двумя резными тумбами на витых ножках и бронзовыми ручками выдвижных ящиков. «Всю мебель красного дерева отдала за Соломоном», – повторяла на кухне Дарья Соломоновна.
В просторной комнате осталась и полуторная кровать – приданое Кати, и серый вздыбленный холмиком жесткий диван, на котором она спала, пока делила комнату с Марусей. Теперь они с Соломоном спали на бывшей Марусиной кровати, а диван стоял просто так. Это была необыкновенная роскошь.
Разросшаяся семья
Моравовы радовались, что семья Хесиных облагородилась родством с Кушенскими, а квартира из коммунальной превратилась в почти семейную. Когда у Милки с Моисеем не было концертов, молодежь вечером музицировала – в комнату Маруси набивалось человек по двенадцать. На эти посиделки иногда заглядывали даже сестры Гнесины. Шурка время от времени приходила с Арамом Хачатуряном. Тот был еще совсем молод – на два года моложе Кати, – он еще был лишь талантливым студентом Гнесинки, берущим классы фортепьяно, виолончели и композиции одновременно. Арам и Шурка боготворили Рахманинова, с упоением играли Равеля, рассуждая о странной, завораживающей гармонии, его, казалось бы, лишенных мелодичности «Зеркалах». Рассуждали они и о джазе, которому Хачатурян предрекал великое будущее. Импровизировали в четыре руки на рояле, а Моисей, как мог, пытался украшать их импровизации басовыми нотами своего контрабаса. «Видишь, Милуша, как хорошо, что контрабас я все же оркестре не оставляю», – любил повторять он.
Каждый приход Хачатуряна превращался в праздник. Милка непременно пекла пирог с капустой, который она научилась под руководством Дарьи Соломоновны делать мастерски. Милка была беременна, но с удовольствием возилась у плиты, несмотря на сетования Моисея:
– Милуша, ну что ты все время возишься у плиты? Зачем такой большой пирог, тебе вредно уставать. Лучше напеки побольше маленьких пирожков!
Никто не задумывался над сибаритством Моисея, который тарелки за собой ни разу не вымыл. Никто не углублялся в размышления о смешении кровей. Никто уже не пенял Кате, что та бросила институт, ведь она так счастлива со Слоником. Когда не было гостей, семья все равно собиралась за вечерний стол вместе. Разговоры велись все больше о литературе. Катя выше всех почитала Тургенева, Маруся приносила книги современных авторов: Алексея Толстого, Горького. Роман «Мать» по очереди прочли все, но сошлись на том, что ранние рассказы, особенно «Старуха Изергиль», несравненно сильнее. Милка заявляла, что ей понравилась «Как закалялась сталь» – надо непременно спросить в письме Костю, похожа ли жизнь шахтеров на то, что описано в книге.
Но книги откладывались в сторону, как только появлялись Шурка и Хачатурян. Играли все подряд – джазовые импровизации, куски симфонических партитур, благо инструментов в семье было много. Если бы только не Трищенко, который отравлял все удовольствие!
Трищенко всегда с трудом терпел Марусиных учеников по вечерам. Бранился он и по поводу Милкиной виолончели, и контрабаса Моисея, хотя те репетировали по утрам, когда Трищенко проводил время в своей конторе. Но мода на концерты, которые эта семейка взяла за правило устраивать теперь по вечерам, переходила все границы. Едва раздавались в прихожей три звонка, Трищенко бросал свой обед с неизменной рюмкой водки и выскакивал в коридор в майке и подтяжках, двумя дугами обрамлявшими его внушительный живот. «Опять хулиганить явились?» – такими словами встречал он Шурку с Хачатуряном. «Мы не надолго, немножко посидим, мы тихо…» – отвечала ему волоокая Шурка, таща Хачатуряна за руку в комнату Маруси.
– Знаю я ваше «тихо», – вслед захлопнувшейся за ними дверью кричал Трищенко. – Не дают трудовому человеку отдохнуть после работы. Ну и что же, что нет одиннадцати! Имею право требовать покоя! Домоуправа завтра приведу. Ей-богу, приведу! Притон устроили из квартиры. Хоть бы приличную музыку играли, нет, только по клавишам барабанят.
Пару раз Трищенко приводил-таки в квартиру участкового, но того быстро поставила на место Маруся. Отчаявшийся Трищенко приноровился брать огромный жестяной таз и ходить с ним по коридору, колотя в него палкой. Сестрам было стыдно перед Хачатуряном, а тот только смеялся, не сводя глаз с Шурки и повторяя, что бывают соседи и хуже.
Квартиру наполняли аккорды фортепиано, синкопированные звуки контрабаса. Дарья Соломоновна, которой Слоник раз и навсегда запретил вмешиваться, лишь прикрывала голову подушкой у себя в комнате, пытаясь читать… А по коридору, стуча палкой в таз, все ходил Трищенко в майке, подтяжках, с красной лоснящейся лысиной и громко выкрикивал:
– Понаехали тут… Что за семейка! Пока были одни Хесины, еще куда ни шло. Хоть и евреи, а приличные люди. А эти? Нищета, ничего за душой, а сборища – каждую ночь! И армяшку этого приваживают! Ничего, найду я на вас управу, какая стала нехорошая квартира!
Но молодежь продолжала веселиться. Это было ее время. Так было каждый вечер, пока в квартире не появилась Лялечка, дочь Милки и Моисея, а значит, и всей семьи. Первый ребенок нового поколения. Никто не забывал, конечно, что у Татьяны, старшей сестры Кушенских, есть Тамарка. Но это было где-то далеко, за пределами зеркального вестибюля, да и Тамарка стала незаметно взрослой. А Лялечка – это дитя их новой жизни. С ее рождением музыкальные безумства прекратились в нехорошей квартире сами собой.
…Роды у Милки были трудные, она лежала в родильном доме Грауэрмана с общим заражением крови. Чуть ли не ежедневно ей делали переливания крови, через две недели, когда родильная горячка стала стихать и Милка сделалась транспортабельной, ее с дочерью перевели в Первую Градскую за Калужской площадью: воспаление перекинулось на суставы таза. Антибиотиков еще не было, шел двадцать шестой год.
Милка вернулась на Большой Ржевский, когда Ляльке было уже почти два месяца. Теперь она передвигалась при помощи костылей, но врачи говорили, что со временем ноги и таз могут и разработаться, главное, не перетруждаться, не носить тяжести. Моисей возвращался домой, теперь уже неся вместо контрабаса сумки с продуктами. Коляску с Лялькой спускала в лифте вниз Дуня, когда-то жившая у теток Оголиных в прислугах. Она вручала Милке костыли, и та отправлялась гулять с ребенком на Собачью площадку, что отделяла Малую Молчановку от Большой.
Пожалуй, тут и проявился истинный Милкин характер. Легкость нрава, казавшаяся легкомысленностью, обернулась стоицизмом. Болезнь не убавила в ней ни грана жизнелюбия, не сузила ее мир. Точнее, сузила, конечно, но Милка находила его по-прежнему прекрасным. Она суетилась на кухне, умело управляясь с костылями, переваливаясь тазом, шустро ковыляла в ванную стирать Лялькины пеленки. Когда Лялька начала ходить, она и Моисей, державший на руках дочь, выходили по воскресеньям на улицу Воровского, поджидали у Гнесинского института автобус, чтобы проехать одну остановку до Красной Пресни, затем пересаживались на троллейбус «Б» и ехали гулять в Нескучный сад.
Милка сидела на скамье, Моисей бегал по дорожкам с Лялькой на плечах, и они были счастливы. Они, да и остальная разросшаяся семья не размышляли над испытаниями, выпавшим им волей судьбы и страны, коловшим их мир на «до» и «после». Это «после» затем снова раскалывалось, и не раз, осколки множились в отражениях зеркал вестибюля, убегавших в прошлое, а жизнь, настоящая и особенно будущая, виделась прекрасной бесконечностью.
Катя помогала сестре чем могла: стирала, таскала на плиту ведра воды, кипятила постиранное. Милка сопротивлялась, отнимала у Катюши высохшее белье и часами, стоя у гладильной доски, гладила простыни, полотенца, скатерки, сорочки Соломона, Катины блузки чугунным утюгом, наполненным угольками, разогревала утюг на конфорке, когда угольки остывали. Через полтора года уже сама Катя родила дочку. Снова трудные роды, но все обошлось, и Катя радостно включилась в прежний ритм жизни, ни на что не жалуясь. Изредка они с Милкой вспоминали, что и их собственная мать, Катенька-старшая, умерла вскоре после родов, но не стоит думать, что это особая участь женской части семьи Кушенских. Надо радоваться жизни, их квартире, наполнившейся новыми жизнями, новым запахами – детскими, постирочными, кухонными, новыми звуками детского плача.
Жизнь семьи выплеснулась в общий коридор: Ляльке было уже два, она бегала, топоча крепкими ножками, по коридору, лезла на руки ко всем, цепляла женщин за юбки, путалась под ногами Дуни. С годами советской власти Дуня, вывезенная Костей в Москву вместе с сестрами, все больше обретала собственный голос, все больше проявлялся ее скверный нрав. С одинаковым упоением она набрасывалась на Трищенко, когда тот обижал ее семью, крича, что выцарапает ему глаза, огреет его шипящим утюгом, и злобно перемывала на кухне с его женой и Дарьей Соломоновной кости Милке и Кате, которые ее, Дуню, совсем заездили. Она носила тазы с кипятком в ванную с криком «Расступись!», а Милка или Катя выскакивали в коридор в страхе, что Лялька может ошпариться, на что Дуня отвечала бранью:
– В доме женщин полно, за ребенком присмотреть некому. Все барынями себя считают.
На это Катя, ничего не отвечая, тут же начинала собираться и отправлялась гулять с коляской, прихватывая на прогулку и Ляльку, чтобы Милка немножко отдохнула.
В коляске лежала Наташа, маленькое сокровище. Над Наталочкой, как с первого дня стал звать дочь Соломон, тряслись не только родители, но и все Хесины, не исключая и Дарью Соломоновну. Скоро из «Наталочки» девочка превратилась просто в «Алочку», а затем семья и вовсе забыла ее истинное имя, и «Алочка» стала Алкой. Соломон придавал особое значение тому, что Алочкин день рождения ровно на неделю позже дня рождения Катюши: у матери седьмого декабря, у дочери – четырнадцатого. Говорил, что первую годовщину дочери непременно будет справлять вместе с Катенькиной и соберет на этот главный праздник 1928 года всех родных – и Хесиных, и Костю с Мусей, а может, и Таня с Чурбаковым приедут… Лишь Олю звать в гости никому не приходило в голову: она совсем отдалилась, с головой ушла в работу, в загадочный расклад своего семейного пасьянса.
Маруся, единственная незамужняя из сестер, пару раз в году ездила в Тамбов навещать Олю, по возвращении рассказывала, что Ермолин с каждым годом все больше проигрывается, пьет, становится нехорош, а Оля и Владимир Иванович все более сближаются. Все трое ненавидят советскую власть, у них странные друзья, по вечерам обсуждают Троцкого, Бухарина, противоречивые, по их мнению, процессы в партии.
– Ничего в этом не понимают, но постоянно говорят, – досадовала Маруся. – Ругают индустриализацию, винят Сталина за колхозы. Как они могут об этом судить? Жизнь-то становится лучше. Не исключаю, что некоторые крестьяне не хотят в колхозы, но как можно из этого делать антисоветские выводы?
– В колхозы не идут только кулаки, которые разбогатели при помощи батрацкого труда. А в колхозах труд делится поровну, – утверждал Моисей.
– Я допускаю, да, что это, возможно, более справедливо и эффективно. Но, главное, мы же ничего в этом не понимаем, – продолжала досадовать Маруся. – Но мы и суждений не высказываем! А Оля и Владимир Иванович заряжены нигилизмом, это просто неприятно!
Нехорошие квартиры
Соломон пришел с работы – он работал старшим инженером по обработке и монтажу пленки на киностудии «Мосфильм» – в крайней озабоченности и, лишь поцеловав Катюшу и Алочку, прошел в комнату к Марусе. Несмотря на Марусино сдержанное отношение к семейству Хесиных, в серьезных вопросах Соломон считался лишь с ней. Даже в большей степени, чем с собственной семьей.
– Костю арестовали. В чем дело, Муся толком по телефону объяснить не смогла. Но это и в газете написано… На рудниках и шахтах вредительство, идут аресты инженеров и руководящих работников отрасли. Муся плачет, Костя, конечно тут ни при чем, это ошибка, несомненно… Он же работает на химзаводе, к рудникам отношения не имеет. Муся обивает пороги городского и областного НКВД.
– Наш Костя в тюрьме?
– Да… Маруся, как об этом сказать Кате?
– Нам надо что-то делать, – убеждала сестер Катя. – Слоник, надо написать письмо. Чтобы отсюда, из Москвы, дали правильную установку. Может, написать Орджоникидзе? Костя же с ним хорошо знаком… Милка, ты как думаешь?
– Никаких писем, – отрезал Соломон. – Сталину не дойдет. Писать другим бессмысленно, да и опасно.
– Почему опасно? Орджоникидзе, судя по рассказам Кости, порядочный человек.
– Катя, но мы же не знаем, а вдруг Орджоникидзе завтра сам проштрафится и наше письмо пойдет Косте во вред? – возражала Милка.
– Никому ничего не надо писать, – поддержала Маруся Соломона. – А вот съездить к Мусе, понять, в чем дело, это совсем другой коленкор.
– Ох, Маруся, – тут же меняла свою точку зрения Катя. – Не хочу, чтобы ты ехала в Донбасс. Одна, путь не близкий… А вдруг там и тебе находиться небезопасно? С кондачка такие вопросы не решают.
Сестры долго судили, рядили, похоже, Маруся и сама не так уж рвалась на баррикады, да и учеников бросить было нельзя. Приближался Новый год, сестры склонялись, что если Марусе и ехать в Горловку, то лучше к весне… Но к весне Костю, слава богу, выпустили. Следствие против него прекратили за полным отсутствием вины, даже «тонкой», о чем с напором рассказывала Муся. Что такое «тонкая» вина, сестры так и не поняли, да мало кто вообще это понимал: какое-то новое юридическое изобретение руководителя Верховного суда Вышинского, как путано объяснял сестрам Моисей.
Каким образом Косте удалось выпутаться из ситуации, вошедшей в историю как «шахтинское дело», сестрам понять было не дано. Вернувшись наконец в Москву, брат рассказывал, что в тюрьме его били, не давали спать, кормили селедкой, а потом не давали воды…
– Если бы не Муся, я бы пропал, – повторял он, утирая слезы. – Только она меня спасла. Куда только ни ходила, какие только пороги ни обивала. Какой это был ужас…
– Муся, как тебе это удалось? – такие вопросы могли задавать, конечно, только Катя с Милкой.
– Нашла людей, которые захотели помочь, – скупо отвечала Муся.
– Справедливых, которые разобрались во всем?
– Можно и так сказать… – перед глазами у Муси вставали картины тех страшных четырех месяцев: она сует в ресторане деньги энкаведешнику, стучит кулаком по столу в каком-то высоком кабинете… Один из двух следователей, мучивших Костю, пьет в ее доме чай, глядя на крутобедрую, со свежим перманентом Мусю, надевшую для гостя тонкие фильдеперсовые чулки и небрежно закидывающую ногу на ногу.
– Вот я и говорю, – размышляла Милка, – значит, все-таки сумели разобраться. Ведь в Донбассе вредительство выявляли, правильно? А какой же Костя вредитель? Но разобрались же!
По углам сквера у начала бульвара, охраняя памятник Гоголю, сидели львы с умильными, вовсе не хищными, мордами. Катя с пятилетней Лялькой и трехлетней Алочкой больше всего любила гулять по Гоголевскому бульвару. Они выходили из дома, проходили Собачью площадку, пересекали улицу у ресторана «Прага»… Катя неизменно напоминала девочкам, что обе они появились на свет в роддоме Грауэрмана напротив… Выходили к скверу и шли по бульвару в сторону Пречистенских ворот, теперь Кропоткинской площади, непременно посмотреть на храм Христа Спасителя.
Сестры считали, что приобщать девочек к искусству, литературе, музыке, истории никогда не рано; пусть не все запомнится и будет понято, главное – с рождения научить их чувствовать красоту и отличать истинные ценности.
– Ляля, Алочка, – говорила Катя малышкам, – семья, любовь к близким – самое главное в жизни. Любите нашу семью. Вы думаете, это только ваши папы и мамы, тетя Маруся, бабушка Дарья Соломоновна?
– Еще дедушка и тетя Рива! – кричала Алка.
– Правильно, а еще кто?
– Дядя Костя с тетей Мусей. А еще тетя Таня из Кирсанова!
– Правильно, Лялечка, только не тетя Таня, а Татьяна Степановна.
– А почему «тетя Муся» и «дядя Костя» можно, а «тетя Таня» нельзя?
– Лялечка, не перебивай. Лучше подумай, что у твоих бабушек и дедушек были свои папы и мамы. У нас с Милой и Марусей были тетушки, их звали Елизавета Павловна, Дарья Павловна и Мария Павловна. Жили они в имении под Тамбовом, и происходили из старинного дворянского рода. У них тоже были свои папы и мамы.
– У них были тоже тети и дяди?
– У них был дядя, его звали Василий Оголин. Давно, больше ста лет назад, на Россию напали французы. Ими командовал император Наполеон. А русскими войсками командовал маршал Кутузов. Тот собрал в свое войско лучших офицеров России и оборонял Москву от французов. Василий Оголин служил у него гренадером.
– Гренадером?
– Да. Он воевал на лошади, у него была сабля, большая шапка, и он был очень храбрым. Русская армия долго сражалась с войсками Наполеона и победила их. Французов, которые почти сожгли Москву, погнали далеко-далеко, через всю Европу, чтобы они больше никогда не думали нападать на Россию.
– Французы плохие?
– Они были плохие, когда решили пойти войной на нас, но это было очень давно.
– Они исправились с тех пор?
– Они поняли, что война – это горе, лучше жить в мире. Так вот, после того, как русская армия разбила Наполеона, русский царь велел построить этот храм.
– Царь – это как Ленин тогда?
– Ляля, не болтай глупости. Посмотрите, девочки, лучше на храм. Такую красоту соорудили именно в память о победе в той войне. В память о русских героях. Вон там, под куполом – это называется фронтон – написаны слова. Это имена самых храбрых офицеров и генералов, которые воевали с Наполеоном. Когда вы научитесь читать, вы прочтете, что там есть и имя Василия Оголина, вашего прадедушки.
– Прадедушки?
– Алочка, Василий Оголин приходился дядей Степану Ефимовичу, моему и Милкиному папе. Значит, Степан Ефимович был ваш дедушка, а Василий Оголин – прадедушка. Вы это запомните, и когда будете гулять, вы сможете всегда прочесть это имя на фронтоне храма и будете гордиться своим прадедушкой. Будете гордиться, что его имя видит вся Москва, вся Россия, потому что он защищал Москву от врагов. Защищал наши семьи.
Девочкам не довелось самим прочесть имя прадеда на фронтоне храма Христа Спасителя. В декабре того же, тридцать первого года, как раз накануне дня рождения Алочки-Наталочки, по решению власти храм взорвали. Кануло в лету имя Василия Оголина.
– Почему надо было уничтожить именно этот храм? – горевали Катя с Милкой. – Понятно, что власть борется с религией, просвещает народ. Но столько церквей стоит по всей Москве. Службы в них, конечно нет, но они же такие красивые… А уничтожить самую красивую из них, зачем?
– Как главный символ религии, так я думаю, – вздыхала Маруся. – Страшно жаль, конечно. Говорят, на этом месте будут строить какой-то огромный Дворец Советов, символ новой власти.
Катя и Милка шли на кухню, возиться у плиты. Марусе давно пора бы выйти замуж, а у нее в голове одна музыка и работа. И Шурке Стариковой нельзя так увлекаться только карьерой. Да, она невероятно талантлива, выступает с сольными концертами, нарабатывает известность, влюбляется постоянно, но ей нужна семья. Важнее семьи же нет ничего! Сейчас она страшно влюблена в безумно талантливого поэта. Надо, чтобы Маруся убедила Шурку привести его в гости на Ржевский. Говорят, он обещает стать знаменитостью! Взглянуть бы хоть одним глазом…
Тем временем Костя с Мусей получили взамен двух комнат на Покровке отдельную квартиру в районе Таганки. Это было признание Костиного вклада в развитие химической промышленности, его незаменимости, считали сестры, и радовались за него. Костя так и не изжил в себе влюбчивости, от чего Муся страдала, нередко бросаясь на мужа со всем своим хохляцким напором, но с годами привыкла, махнула рукой на сердечные драмы собственного мужа, повторяя сестрам, что никуда муж от нее, Муси, не денется. Если что, она сумеет за себя постоять. Милка с Катей не могли представить, в чем именно состояли Костины драмы, ведь сердцу не прикажешь! Они лишь жалели брата и сочувствовали Мусе. Соломон и Моисей над Костей подсмеивались, одна Маруся серьезно беспокоилась за психику брата. Костя, и так крайне чувствительный, после месяцев, проведенных в тюрьме, превратился в оголенный нерв, сбивчиво сетуя и на свою работу, и на семью, и на Мусину бездетность. Время от времени рассказывал – опять-таки Марусе – о своей очередной любви, связать жизнь с которой ему не суждено – по самым разным, всегда одинаково безысходным причинам. Он лелеял мысль о том, как покончит с собой, таскал с работы смертельные химические составы, пряча их в квартире сестер. Убираясь, сестры натыкались на бутылочки с ядами, выбрасывали их, устраивали Косте скандалы, взывали к его разуму… Потом успокаивались: что можно сделать с Костиными настроениями?
Шурка не успела привести гения-поэта познакомиться с Кушенскими. Гений бросил ее, и Шурка прибежала к Марусе в рыданиях. Горе ее было так безутешно, что Маруся не могла отпустить ее домой. Она отпоила Шурку чаем, уложила спать в своей комнате на диване, сама устроившись на полу. Утром, когда ей надо было уходить в Гнесинку, Шурка спала, разметав копну волос по подушке, без всхлипов и стонов. Ее лицо выглядело просветлевшим, и Маруся, решив, что теперь главное – дать Шурке хорошенько выспаться, – отправилась на работу. Шурка встала поздно, долго завтракала с Катей и Милкой, играла с девочками, затем отправилась к себе домой… На следующее утро Марусю разбудил звонок Шуркиной соседки: беда, Шурка отравилась! Выпила уксусной эссенции, стоявшей на полке у Дарьи Соломоновны.
У Шурки были сожжены гортань и пищевод, она корчилась в муках, проклиная себя и умоляя ее спасти. Сиплым шепотом и жестами объясняла Марусе, прибежавшей к ней в больницу, что после ухода той на работу она искала по всей квартире Кушенских какой-нибудь яд, из припрятанных Костей. Не найдя, схватила бутылку уксуса на кухне и, убежав к себе домой, выпила. Промучившись еще два дня, Шурка умерла.
– Что за люди, – повторял Трищенко, выходя вечером на кухню. – Что за люди, какого рожна им надо? Не работают, а государство деньги им платит неизвестно за что. За то, что они на балалайках бренчат. Так нет, все им не по душе. Уксусом травятся! Нехорошая квартира…
Лялька и Алочка пошли в школу. Лялька была жизнерадостной, не избалованной и не подверженной капризам упитанной девочкой с прямой стрижкой и неизменно ясным, приветливым взглядом. Алочка – маленькая, хрупкая, темноволосая и черноглазая, постоянно капризничала, плохо ела и была естественной мишенью для издевок мальчишек в классе, за которыми стояло желание привлечь к себе внимание самой красивой девочки класса. Их любимой забавой было подстеречь Наташу Хесину после школу, взять ее «в плен», сложив каре из переплетенных лыжных палок, и в нем вести Наташку до дома. Это было очень унизительно, Алочка страдала.
Темно-серый четырехэтажный особняк дореволюционной постройки, стоявший наискосок от дома восемь на другой стороне Большого Ржевского переулка, называли «маршальским домом». Из маршалов там, пожалуй, никто и не жил, но жили другие, известные военачальники: командармы первого ранга Якир и Уборевич, армейский комиссар первого ранга, начальник политуправления РККА Гамарник, командующий Московским военным округом генерал Шиловский. Именно из этого дома в конце тридцать пятого начали исчезать люди. Как правило, по ночам. Шум подъезжавших к «военному дому» черных машин, блики фар, звук захлопнувшегося за людьми с околышами подъезда, еще какие-то страшные шорохи… Возможно, лишь кажущиеся крики и рыдания, доносившиеся на шестой этаж противоположной стороны улицы, и вновь рокот мотора, раскалывавшего ночную темень, будили обитателей «нехорошей квартиры». При свете дня Катя, Маруся и Милка избегали обсуждать ночные звуки.
Девочки, Лялька и Алочка, обожали спать вместе, а Соломон, баловавший Алочку сверх всякой меры, то и дело уступал им полуторную кровать, устроившись сам вместе с Катюшей на раскладном сером диване.
В середине тридцать шестого года начались ночные визиты и в дом на Ржевском. Лежа ночью без сна в постели, Лялька и Алочка обнимали друг друга и шептались, чтобы не разбудить родителей: «Слышишь, Алка, лифт опять поднимается. Второй этаж, третий… Только бы не к нам… Четвертый….»
– Лифт захлопнулся, слышала? Кажется, звонят. Точно четвертый…
– Нет, пятый. Но все равно не к нам….
– А вдруг они потом к нам?
– Не придут. Они только в одну квартиру в ночь приходят.
– А вдруг придут?
– Слышишь, дверь опять хлопнула, лифт вниз поехал. Уже сегодня не придут, спи, давай.
Наутро ночные страхи отступали, начинался новый день, Катя приносила из кухни манную кашу – единственное, что могла есть Алка по утрам, и то давясь и капризничая. Милка делала девочкам бутерброды в школу, Катя заплетала дочери косу, вкалывала Ляльке в волосы белый бант, помогала девочкам натянуть на плечи ранцы и провожала до двери.