Черная обезьяна Прилепин Захар
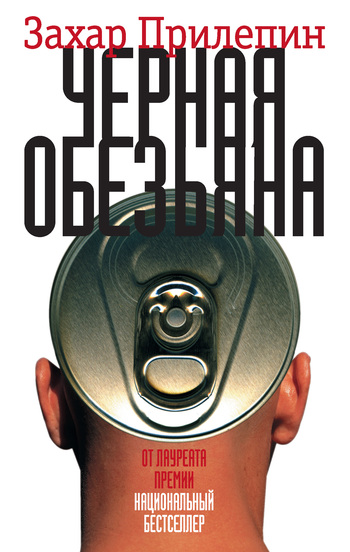
Зверья в доме ещё не водилось, я шёл босиком к туалету, вот ещё один орган появился, доброе утро тебе.
Потом бегом в кровать – холодно, мурашки по детским лопаткам, большие, быстрые и рассыпчатые, как крупа.
По дороге несколько игрушек из деревянного ящика с собой в кровать – почему-то больше всего я любил белого пластмассового зайца с чёрными глазами, только его и помню до сих пор. Он был полый, в одном месте продырявленный, уши сросшиеся, стояли, будто султан на драгунском кивере, ещё усы такие – можно пальцем трогать, неровные, как старая болячка.
Заяц играл с другими игрушками – видимо, солдаты ещё были, большие, прямые, бестолковые. Почему-то мне было всё равно, что огромные зайцы воюют с солдатами, – никаких моих представлений о мире это не нарушало.
Наигравшись, вставал опять, включал телевизор, там было два канала, первый и второй.
Переключать программы надо было пассатижами, они лежали на столе возле.
Бывший переключатель тоже тут находился, расколотый на две части, отец никак не находил времени склеить, а может, и нельзя уже было склеить, но мать жалела выкидывать деталь.
В телевизоре показывали сельское хозяйство, краны, дирижёров, иногда врачей.
Сжимал пассатижи и щёлкал, пока не надоедало: дирижёр и трактор, скрипач и рожь, виолончель и комбайн…
После тракторов и скрипок хотелось есть.
На столе стояло молоко, в чёрной, прожжённой, как царь-пушка, сковороде лежали нежнейшие сырники – мама.
Стук в окно – знал, кто стучит, но всегда пугался в первые мгновения.
Стучал сосед, на год старше меня, звали Серый – а как его ещё могли звать? Также был Гарик, прибегал с другой улицы, весь в веснушках, на три года старше нас, лукавый, матершинник.
Гарик пел загадочно: “Чики-брики-таранте, чики-брики-таранте!”
Я тоже подхватил, привязчивая мелодия. Гарик сидел с веточкой в зубах.
– При взрослых не пой, – сказал тихо, когда вышла из подъезда соседка.
– А что означает “чики-брики-таранте”? – спросил я.
– Ебаться, – коротко ответил он.
Я ничего не понял. Посмотрел внимательно на соседку, примеривая к ней новое слово, и замолк.
Потом тихо глянул на глупое лицо Гарика и подумал, что он и сам не знает, о чём мне сказал.
Но это не Гарик стучал, он вообще ко мне никогда не заходил – он только к Серому, у родителей Серого был магнитофон, пацанва слушала по утрам всякие песни, когда Гарик прогуливал школу. Меня к магнитофону не подпускали: Серый страшно боялся его сломать.
Стучал, говорю, он.
– Пойдём голубей бить! – предложил Серый сразу. – Там уже Гарик сидит, на чердаке.
Спорить я тогда не умел, соглашался на любую замуту, брёл за старшими без всякой мысли в голове.
Пока я искал носки, но нашёл колготки, которые, пугаясь, что меня заметит Серый, скорей спрятал обратно в шкаф, дружок мой доел сырники и с чмоком вскрыл холодильник, так что внутри всё затряслось и задрожало, достал молоко. Выпил и молоко, потом я уже не видел, что происходило, а когда вернулся одетый, Серый снова жевал, сидя перед открытым холодильником на корточках.
Закрыли дверь в дом, ключ всегда лежал под половичком у входа – никого не боялись.
– Найди себе палку, – велел Серый, и я взял первую попавшуюся палку с земли. У Серого уже был припасён железный штырь.
Мы обошли дом – к ржавой лестнице, что вела на чердак второго этажа.
Дверь чердака неожиданно открылась, и оттуда вылез Гарик с голубем в руке; держа за ноги, он размахивал птицей, уже очумевшей настолько, что она еле шевелила крыльями.
Гарик, зацепившись одной рукой за лестницу, трижды, насколько мог сильно, ударил голубя об стену. Во все стороны, как из драной подушки, сыпанули перья. Голубь неожиданно ожил, стал бить крыльями, отчего перьев полетело ещё больше. Голова его дрожала и дёргалась, как поплавок. Голубь понял, что его голубиную жизнь нацепили на крючок – и сейчас извлекут наружу, как рыбу из воды.
Приблизив птицу к лицу, Гарик посмотрел на дело рук своих и с размаху подбросил голубя вверх – тот перекувыркнулся над нашими головами и с тупым звуком пал в траву. Попытался взлететь, трепыхнулся, шевельнул крылом, но ничего у него уже не получалось, он издыхал, раскрыв клюв, еле кивая головой.
– Давайте сюда, – позвал Гарик весело. – Их тут полно, нельзя выпускать.
Серый двинулся первым, я потащил себя следом, часто взглядывая на грязные подошвы дружка. Иногда с них сыпалось мне в глаза.
Гарик дождался нас. Запустив меня и Серого, воровато оглядел двор и соседние дома, затем прикрутил дверь верёвкой.
Чердак был пронизан белёсыми лучами из слуховых окон и просохшей насквозь в нескольких местах крыши. В лучах, от ужаса пугаясь взлететь, шевелились голуби. Некоторые были настолько пушистые и пышные, что напоминали ежей.
– Эх, бля-а-а! – заорал Гарик и, блея от радости – он так смеялся, – пустился чуть ли не в пляс по чердаку, разметая десятки ошарашенных птиц, ловя их за крылья, выворачивая им суставы и головы, топча и пиная.
Серый с серьёзным лицом работал прутом, и если попадал в летящую птицу – голубь замертво падал, неестественно вывернув крылья и топорща коготки.
Я изредка взмахивал руками, изображая, что занят тем же самым. Так, глупо трепыхаясь, я добрёл до другого края чердака, где присел возле одного затаившегося голубя. Он вжимал голову в туловище, казалось, ожидая удара и всё понимая.
Тут я вспомнил, что в руке у меня палка, несколько раз несильно тронул голубя палкой по спине. Он открыл и закрыл глаза, нахохлился, снова открыл и закрыл глаза, но не сдвинулся с места. Голубь готов был умереть сейчас же и тихо ждал этого.
С улицы закричали.
– Эх, бля-а-а, – повторил уже другим тоном Гарик. – Запасли. Серый, твоя мать орёт, овца глупая! Она ж на работе была.
Серый приник к двери, весь побелевший – даже в полутьме чердака было заметно.
Мать надрывалась внизу так, будто хотела докричаться до седьмого неба.
Серый не выдержал, судорожно размотал верёвку, толкнул дверь.
– Чего, мам? – спросил обиженно.
– Я тебе говорила на чердак не лазить, дрянь?
– Чего, мам? – повторил Серый безо всякого смысла.
– Ну-ка, слезай вниз! – кричала мать. – Ты один там?
– Скажи, что вдвоём были, – прошипел Гарик. – Вот с ним, – и толкнул меня к дверям.
– Вдвоём, – сказал Серый плаксиво.
– Слезайте! – велела мать и, увидев меня, добавила радостно: – И этому тихоне мать тоже всыплет!
Чумазые и в пуху, мы спустились вниз. Серого мамаша увела за ухо домой, на меня не посмотрела даже.
Я присел на скамеечку и долго смотрел на свои руки. Они дрожали. Мне хотелось их укусить.
В Альке хотелось остаться, она была мокрой – не от пота. Казалось, что всё её небольшое крепкое тело покрывается какой-то особой скользкой жидкостью, по ней скользили руки, и всё тело скользило по ней и соскальзывало в неё.
В момент, когда всё моё тело вытягивалось в последнем движении, она старалась смотреть мне прямо в глаза – взгляд был такой, будто она одновременно и боится за меня, и безумно рада за меня. Будто я бежал по навесному мосту над рекой и вот-вот должен был сорваться, но добежал, в последнем рывке достиг своего края – и теперь она держит меня за плечи, вживаясь в меня.
А о том, что у меня на другом берегу кто-то остался, она не спрашивает никогда, хотя знает, конечно.
– У тебя тут не болит? – полежав минуту на спине, спросила она и потрогала ссадину на моём лице.
– Нет.
– А тут? – пальчиком едва-едва задела ухо; оно взвыло.
– Н-н-нет.
Алька сморщилась, словно ей было больнее, чем мне.
– Нигде не болит, – повторил я голосом, противным мне самому, словно я чьи-то волосы пожевал.
Рывком встал с дивана, натянул свои набедренные тряпки и включил её белый, как аэроплан, ноут.
– Принеси мне какое-нибудь полотенчико, – попросила Алька, аккуратно поднимаясь и держа ладонь в паху.
Ничего не ответил, не шевельнулся, с нетерпением ждал, когда вспыхнет экран.
– Слышишь, ты? – весело прикрикнула она, извлекла из-под себя ладонь, посмотрела в неё, вытерла о щёку и опять запустила меж крепких ляжек.
– Так иди, – ответил я, быстро набрал латиницей поисковик и в пустой графе сделал запрос “дети-убийцы”.
Алька подошла сзади, так и придерживая себя ладонью, и другой рукой, мизинчиком, коснулась моей макушки, там, где было темечко, да заросло.
– Больно, Аль.
– А-а-а… А говоришь, ничего не болит… Какое ухо смешное. А вдруг оно у тебя таким и останется? Давай тебе другое растреплем, оттянем и сделаем похожим? Что ты там смотришь? Ужас какой, – и посеменила в ванную.
Включилась вода, заработала колонка.
По запросу нашлось тринадцать миллионов страниц. Нихерово. Есть шанс прекрасно провести время.
Страдая и морщась от брезгливости, некоторое время я мучил себя кровавыми мальчиками, потом веером снёс вниз все страницы, что наоткрывал, и остался один на один с пустым поисковиком.
Внизу мелким синим шрифтом была набраны новости, там я и вычитал о странном убийстве в городе Велемире. Неизвестные за ночь вырезали целый подъезд трёхэтажного дома. Единственный оставшийся в живых свидетель, выбираясь из комы на полусвет, заплетаясь, бредит по поводу нескольких недоростков, которым на вид не было и десяти лет.
Аля вышла из ванной через полчаса.
– Что делаешь?.. Господи, да зачем это тебе? Прекрати это читать, – попросила Аля, натирая голову так, что вот-вот должны были полететь искры.
– Хватит, да, не надо больше, – согласился я.
Крутанулся на стуле и воззрился на Альку.
– Тебе никогда никого не хотелось убить? – спросил.
Она отложила наконец полотенце и чуть напуганно ответила:
– Нет.
После нашего с ней знакомства, как я догадываюсь, она набрала в поисковике моё имя, чтобы узнать, кто я, блядь, такой. Всё узнала, там даже фотографии детей есть, обоих.
Стоят, розовые как ангелы, посреди двора, у него кукла, у неё трактор, они всё время отнимают друг у друга игрушки.
В тот день я написал ей эсэмэску: ну, что, мол, ты приглашала в гости.
Она не отвечала минут семь.
“Раздумала?” – не унялся я.
“Господи, какой ты нетерпеливый, – написала она. – Приходи, я очень жду”.
Решилась.
Когда открыла дверь, лицо у неё было очень серьёзное, даже злое, но как будто вовнутрь злое, к себе. Я отдал ей цветок, она его безо всякой эмоции уронила куда-то в ботинки и, сжав пальцами мой затылок, сильно поцеловала в рот. Не просто поцеловала, говорю, а именно поцеловала в рот – именно так. И язык был твёрдый и упрямый.
Потом рывками содрала с себя джинсы, на ногах остались красные полосы – как будто упала об асфальт с велосипеда, – и, повернувшись спиной, опустилась на пол. Я погладил правую пятку правой рукой, а левую пятку левой. Между пятками расстояние было сантиметров сорок.
Как будто ей хотелось не просто это сделать, а как можно хуже, диче, чтоб потом обратно не возвращаться.
Вокруг стояли ботинки вроде как её недавно съехавших с квартиры родителей, потные отцовские тапки, пахло гуталином, висела ложка для обуви.
В зеркале справа отражался я, одна башка, профиль. Сначала на себя было отвратительно смотреть, а через несколько минут привык.
– …А я всё время думаю, что убил кого-то, Аль. Вглядываюсь в людей. “Тебя убил, нет?” – думаю.
“Не тебя? Так кого же?”…Ты точно никого не убивала?
– Нет, – твёрдо выдохнула она.
– Ну, нет так нет, Аль. И я нет. Все мы нет.
Пронёс мимо жены ощущение полного физического опустошения, заперся в своей комнате. Тут же зазвенел домашний телефон, пришлось вернуться.
Это главный, кому ж я ещё нужен.
– Ну что там? – спросил он, захохотав.
Захотелось потрясти трубкой, чтоб высыпать оттуда всё это разнообразное клокотание. Вместо этого я вкратце пересказал про седой чуб, живого Салавата и белый халат.
– Это твой родственник затеял там, – до слёз заливался главный.
Я поглядывал на себя в зеркало, иногда поднимая брови, иногда опуская. Ухо саднило, ссадина лоснилась, как намасленная. Надул щёки, выпятил губы, сдвинул вбок, насколько мог, челюсти. Скосился вниз, увидел, как мои двое стоят в неслышно раскрытых дверях, зачарованно вглядываясь в меня.
– Он мне никакой не родственник, – странным от искривления лицевых мышц голосом начал говорить я, но главный меня не слушал.
– Ладно, сохрани себе в памяти этот сюжетец, – засмеялся он. – Может, пригодится.
На самом деле Шаров жил когда-то на соседней с нами улице.
Дружки называли Шарова – Вэл, это я помню. В те времена, когда кликухи и погонялы были просты и незамысловаты, как лопухи, имя Вэл – звучало.
Рос он, между прочим, с мачехой. Родной отец его, из горцев, давно и безвозвратно исчез; много позже ходили слухи, что отец стал полевым командиром, проявлялся в первую ичхерийскую войну; но это всё враньем было – отец смирно себе жил в ряжской деревне с новой женой, разводил овец – вот, собственно, и всё, что в нём было горского.
Когда я пошёл в школу, Шаров уже оттуда выбыл, хотя я отчего-то помню, как на моей линейке первого сентября он вдруг объявился в толпе родителей, любовавшихся на своих деток, – подошёл, постоял, посмотрел на всех и пропал. Такое в жизни случается иногда – произойдёт вроде бы совершенно никчёмное и бессмысленное событие, автобус какой-нибудь самый заржавелый проедет или под ногами разбегутся голуби, и один взлетит, – короче, полная чепуха, но отчего-то западёт в память и лежит там, ненужная.
Шарова я тоже так запомнил: вот он зашёл в толпу и вот он ушёл. И больше не вернулся на соседнюю улицу. А чего, там мачеха, зачем ему. Она, по-моему, ещё раз замуж вышла, хотя не уверен.
Потом я увидел его в новостном выпуске, он располагался за самым длинным государственным столом, и почти во главе его.
Можно вложить смысл в нашу встречу на линейке – но его там нет.
Неудачно покосив от армии в психушке, а после ещё и отслужив, я вернулся домой.
Немного поучился в разных местах, влюбился, женился, родил двоих детей, однажды ночью сел за стол и аккуратными буковками набрал страницу текста.
Утром перечитал и не огорчился.
За три года я написал три политических романа: “Листопад”, “Спад”, “Сад”, – ожидался четвёртый, и я спускался в него, как в скважину. Первые три Шарову понравились, мне передавали, даже Слатитцев как-то об этом обмолвился, пытаясь нарисовать хотя бы одной стороной лица улыбку, но получилась почти уже судорога.
У Шарова-политика была одна странность, на которую мало кто обращал внимание: он не только не имел друзей, но никогда не пытался создать свою, как это называют, команду. В какие высокие коридоры он ни попадал бы, за ним не тянулись знакомые со времён обучения и службы.
Кажется, ему нравилась эта его самодостаточность, эта, в некотором смысле, о да, завершённость.
Шаров был уверен: достаточно и того, что его собственными поступками движет близкая к идеальной целесообразность.
Целесообразность заключалась в том, что он стремился добиться наилучшего результата с имеющимися средствами и с наличным человеческим материалом. То, что это был далеко не самый лучший, а, напротив, просто чудовищный человеческий материал – и власть составляли люди пошлые и неумные, – ничего не меняло.
Шаров относился к себе с уважением, это было заметно; а если нет и не может быть людей, достойных уважения в той же степени, какая, в конце концов, разница, с кем работать?
В верхах давно уже никого и ничего не могло удивить. Шаров мог знать о том, что министр образования нездоров психически, министр внутренних дел причастен к торговле человеческими органами, а министр финансов на личном автотранспорте задавил насмерть женщину, – и не сделать ни малейшего движения во имя наказания этих людей.
Это было нецелесообразным и, более того, не имело хоть сколько-нибудь серьёзного значения.
…Обо всём этом я привычно и без малейшего раздражения подумал, сдувая щёку, прибирая язык и возвращая глаза на место. Едва лицо стало нормальным, думать о Шарове сразу расхотелось.
Объяснение собственно природой человека любых, в том числе несколько выдающихся за пределы допустимого, поступков нашей неплеменной аристократии давно так или иначе устраивало всех – или почти всех.
Я, наконец, снял свои оранжевые носки.
Алька всё время смеялась над цветом моих носков.
Ничего смешного.
Запинал их поглубже под стол. Если не запинать – завтра будут висеть сырые на батарее. Все мои радужные носки постоянно висят сырые на батарее. Носить их некогда, они постоянно сохнут.
Включил комп, снова залез в ссылки по велемирской истории. Ищут пожарные, ищет милиция… Всё то же самое, ничего нового. А, нет. Недоростки, оказывается, успели ещё на выходе из подъезда порешить двух милиционеров.
“…старшина Филипченко и стажёр… были обнаружены на ступенях…”
“…Филипченко… Филипченко…” – пошвырялся я в своей памяти, как в мусорном баке.
“…более тридцати ранений и семь переломов у старшины… стажёр… перелом основания черепа… перерезано горло…”
Неожиданно услышал дыхание за спиной.
– Ты где была? – я встал, заслонив спиной экран.
– Спала, – ответила жена.
Я философски цыкнул зубом.
В комнате было темно, она не видела моей изуродованной морды.
– Чего ты там смотришь?
– Работаю.
“Если она попробует заглянуть мне за плечо – оттолкну её”, – подумал я, покусывая губы и елозя глазами туда-сюда.
– Я тебе мешаю? – спросила она тихо.
О, этот умирающий голос. Дайте мне какой-нибудь предмет, я разъебашу всю эту квартиру в щепки.
Не глядя, нашарил рукой кнопку и выключил компьютер.
Страшно болела голова.
Как всё-таки мало места в квартире, сейчас бы свернуть в проулок, миновать тупичок, выйти через чёрный ход к дивану в другой комнате, подбежать на цыпочках к дверям, быстро запереться изнутри на засов, подложить под щель в двери половичок, чтоб не было видно, что включён свет и я читаю, а не удавился, например, в темноте.
Но жена прошла как раз в ту комнату, где я хотел спрятаться. Тогда я пойду в другую, там как раз дети, я их так люблю. Здравствуйте, дети. Что вы строите? Домик? Где живут мама и папа? Давайте я вам помогу. У меня как раз есть некоторые соображения по этому поводу. Вот так вот. И вот так вот! И вот ещё так!
– Ну, заче-е-ем? – протянула дочь.
– Зачем, пап? – спросил сын сурово, но предслёзно.
А вот так вот, ни за чем.
Старшина Филипченко ходил очень быстро.
Его новый стажёр не поспевал за ним.
Стажёр работал вторую неделю и честно думал, что они, пэпсы, сотрудники патрульно-постовой службы, будут ловить преступников, и он, салага, тоже. Но пока они собирали по детским площадкам нетрезвых работяг и безработных и составляли на них протоколы. Работяги через одного были похожи на отца стажёра. Безработные – на того же отца, каким он должен был стать через год-другой-третий.
Нетрезвых мужиков загоняли в железную будку – пикет. В пикете всегда пахло перегаром и сигаретным дымом. Пэпсы там курили, но если начинали за компанию курить задержанные – на них орали матом и били по рукам. Сигарета выпадала, на неё наступали ботинком. Потом сгоняли длинные, раздавленные бычки ближе к выходу. Пол всегда был истоптанным, грязным и в слипшемся табаке.
После этого задержанному цепляли наручники и затягивали железные кольца потуже.
Втайне стажёру всё это почему-то нравилось. Иногда он терялся, когда хмурый и насмешливый работяга вдруг, вглядевшись в стажёра, спрашивал:
– Только из армии пришёл, сынок? Папку своего тоже в участок потащишь? Браслеты на него наденешь? Сопля ты зелёная.
Филипченко при этом нисколько не тушевался. Спокойно клал авторучку – обычно он сам заполнял протокол, – брал со стола дубинку и бил ею задержанного, чаще всего по ногам.
– Как разговариваем с дядей полицейским? – спрашивал он спокойно и незлобно, хотя бил больно и оставить следы побоев совсем не боялся.
Филипченко почти всегда слушались и боялись, а стажёра не очень.
Однажды стажёр понял, что Филипченко боятся и слушаются не потому, что он такой страшный, а потому, что он именно такой, от кого привычно принять унижение.
Стажёру он напоминал того деда на срочке, который издевался над молодыми особенно жестоко, неся при этом на лице выражение равнодушия и усталости. Стажёр часто представлял, как изуродует его, когда встретит на гражданке, а потом, спустя год, неожиданно столкнулся с ним на Ярском вокзале в столице, где был проездом. Они обнялись и пошли пить пиво, очень довольные встречей.
Такой может угомонить пьяного отца ударом в грудь – и отец простит ему, протрезвев. Может годами терзать младшего брата – и тот тоже простит, когда подрастёт.
Потому что человеческое отношение, когда его выказывает… ну, тот же Филипченко, оно как-то выше ценится, чем если бы его выказывал любой другой, скажем стажёр.
Приложившись несколько раз дубинкой к задержанному и честно забыв об этом, спустя полчаса Филипченко с некоторой даже заботливостью снимал наручники с него и просил негромко, пододвигая протокол:
– Вот тут черкни, отец… Ага. Ну, будь здоров, больше не попадайся.
И Филипченко отвечали:
– Спасибо!
И уходили довольные, со стажёром не прощаясь.
Филипченко выкуривал сигарету, вглядываясь в стекло и думая о своём. Если в этот момент стажёр его спрашивал о чём-то, он никогда не отвечал: вроде как не мог выйти из задумчивости.
Спустя минуту переспрашивал:
– Чего говоришь?
Как раз ровно столько выдерживал, чтоб стажёр почувствовал себя в достаточной степени опущенным этим молчанием.
Пока стажёр хрипло пытался повторить свой никчёмный вопрос, Филипченко резко вставал, поправлял одежду – выглядел он всегда отлично, и даже обувь умудрялся не забрызгать, не заляпать, – и, кивнув стажёру – за мной, салага! – выходил на улицу, сразу глубоко забирая в тёмные дворы.
Он шёл быстро, стажёр постоянно то набегал на лужу, то поскальзывался на грязи, то почти влетал в столб, а Филипченко двигался не чертыхаясь и не суетясь, останавливался только если где-то раздавался пьяный говорок или юношеский гам.
Постояв несколько секунд и утвердившись в своих предчувствиях, он срывался с места, но не бегом, а шагом, шагом, лишь спина качалась перед запыхавшимся стажёром, – и вот уже, никем не замеченные, двое полицейских появлялись в месте распития спиртных напитков. И пока стажёр порхал глазами с одного на третьего мужика, Филипченко уже определял самого главного, приказывал подняться, собрать бутылки и – ать-два за нами, верней, впереди нас.
– Протокольчик составим для профилактики и отпустим, – примирительно говорил Филипченко, но, если кто-то чего-то не понимал, разом повышал голос, тянул медлящих за шиворот, мог надеть браслеты, но этим не злоупотреблял: задерживали порой человек по шесть, всех не окольцуешь.
Филипченко разом и командовал, и просил, и давил, и мимоходом лукаво льстил, не теряя своего полицейского достоинства и меняя интонации ежесекундно. И пока стажёр сжимал и разжимал рукоять резиновой дубинки, в треморном предчувствии драки, все уже вставали, собирали водку в пакеты и послушно брели за Филипченко, верней, ну да, впереди него.
В пикете начиналось обычное представление – собственно, никакого другого весомого смысла непрестанные круглосуточные задержания нетрезвого элемента и не имели. Для отчётности хватило б и по паре хануриков на постового. Но при чём тут отчётность?
Работяги, понукаемые то грубым, то ласковым Филипченко, извлекали всё из карманов, выкладывали на стол: сигареты, носовые платки, которыми можно было только протирать ботинки, зажигалки, иногда перочинный нож, иногда отвертку, ну и мелочь, мятую, сырую, пахнущую мужиком, его ладонями, потом, рваной подкладкой.
– Сколько денег при себе имели? – спрашивал Филипченко.
– Ну, сосчитай сам, старшина, – отвечал ему усаженный в угол на лавку работяга. – Я ж не помню.
Наученный стажёр вставал, будто бы с необходимостью разглядеть, скажем, перочинный нож, рядом с Филипченко, прикрывая его от задержанных.
Филипченко быстро пересчитывал деньги, успевая спрятать в журнал записи задержанных несколько купюр. Особо не жадовали. Почти всё вычищали только у борзых и очень пьяных – объясняли это просто: не наглел бы – оставили б минимум половину. А так – вот тебе на трамвай, бродяга, и проваливай, не было у тебя никаких денег, пёс пропойный.
Они выпроводили очередных кормильцев своих из пикета, Филипченко посчитал деньги и не глядя передал стажёру.
Их вызвали по рации.
– Внимательно, – сказал Филипченко, хотя положено было говорить “На приёме!” или “Пятнадцатый слушает!”.
Девушка с приятным голосом назвала адрес и пояснила:
– Женщина из соседнего подъезда позвонила, говорят, что там вроде бы драка сразу в нескольких квартирах. Сходи посмотри. Участковый подойдёт, если будет нужен. Звонившая была пьяна.
Поспешая, стажёр, конечно, отметил про себя, что дежурная обращается к Филипченко в единственном числе, словно никакого стажёра с ним рядом и не было в природе.
Дом выполз к ним серым боком. Филипченко резко встал, стажёр ткнулся ему в плечо, потом шагнул вбок и стал пристально глядеть на окна. Одно из них погасло.
Филипченко даже, кажется, принюхивался.
– Пойдём? – стажёр как будто хотел сказать: а чего ждать-то, дом как дом.
Филипченко не ответил, ещё раз шумно, как конь, втянул в себя воздух и нехотя пошёл. Пихнул входную дверь, она издала пронзительный скрип.
– Заорал кто-то, – Филипченко попридержал дверь; стажёр опять ткнулся ему в спину, съездив носком по пятке старшинского ботинка.
– Что ты всё время висишь на мне, – Филипченко резко, неразмашисто, но больно ударил стажёра локтем в дыхалку.
Стажёр обиженно шагнул назад, и Филипченко вдруг упал ему на грудь, на руки, удивительно тяжёлый и пахнущий потным затылком и чем-то смешно хлюпнувший, а потом засипевший с присвистом.
Стажёр пытался было Филипченко удержать, но соскользнул со ступеньки и упал на спину, ударившись затылком, – и ещё в падении он видел, что в горло, под челюсть, Филипченко воткнут какой-то предмет вроде копья… откуда тут копьё?.. кочерга, что ли, какая-то.
Из подъезда выскочило несколько недоростков с какими-то вещами в руках… игрушки, что ли?
p>“…куда ж они играть вечером?.. – спешно подумал стажёр. – Вот босота… Спать пора…”





