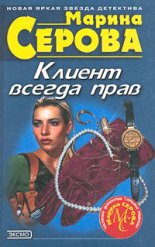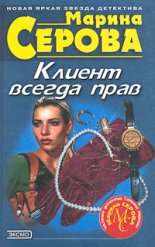О Сталине с любовью Орлова Любовь

Фотография на обложке: Архив РИА Новости
Во внутреннем оформлении использованы фотографии: Анатолий Гаранин, В. Малышев, Е. Стопалов / РИА Новости
© ООО «Яуза-пресс», 2015
От редакции
Товарищ Сталин и Любовь Орлова. Оба они были символами эпохи великих свершений. Ходили даже слухи об их романе…
Слухи подтвердились!
Подтвердила их сама Любовь Орлова!
В 1962 году, сразу же после выноса тела Сталина из Мавзолея, Орлова решила написать о своих отношениях с Вождем, которого его бывшие приспешники всячески пытались очернить. Ей хотелось восстановить справедливость.
Орлова понимала, что в тот период ее мемуары не могли быть опубликованы. Она писала не для современников, а для потомков, для грядущих поколений. Писала с надеждой на торжество справедливости и верой в то, что История в конечном итоге воздаст всем по заслугам.
Кто может узнать Вождя лучше, чем любящая женщина?
Кто может рассказать о Вожде правдивее, чем любящая женщина?
Кому же еще рассказывать о Вожде, как не любимой женщине?
Воспоминаниям Любови Петровны Орловой была уготована непростая судьба. Хорошо понимая, что в тогдашнем СССР они не могли быть напечатаны, Любовь Петровна решилась на смелый и нестандартный шаг. Летом 1974 года, узнав о своей неизлечимой болезни, великая актриса передала свои записки одному из сотрудников посольства Китайской Народной Республики для публикации в КНР.
«Мы были знакомы с Любовью Орловой, – писал в предисловии к изданию дипломат по фамилии Чжан[1]. – Встречались во время праздничных демонстраций, на приемах, дважды я присутствовал на ее выступлениях. Когда она сказала, что у нее есть ко мне личная просьба, я сначала подумал, что ей нужно что-то из китайских ценностей[2], которые нельзя было купить в Москве. Но оказалось, что просьба совершенно иного характера. «Я знаю, как в Китае относятся к памяти великих вождей, – сказала Орлова, – и поэтому доверяю вам самое ценное, что есть у меня». Я посоветовался с моим начальством, был сделан запрос в Пекин, и после одобрения одним из заместителей товарища Цзи[3] я принял у Орловой четыре тетради, исписанные ее красивым почерком. При желании эта талантливая женщина могла бы развить в себе каллиграфический талант. Тетради я отправил в Пекин дипломатической почтой. Мы договорились с товарищем Орловой, что я сообщу ей, как только будет принято окончательное решение о публикации. К моему глубокому сожалению, это решение было принято только в марте нынешнего года[4], уже после смерти Орловой».
Воспоминания Любови Петровны под названием «Светлый путь» были выпущены в 1975 году издательством Пекинского университета. Книга предназначалась для научных работников (историков, советологов) и имела гриф секретности, исключавший свободный доступ к ней. Тираж по китайским меркам был не просто крошечным, а микроскопическим – тысяча двести экземпляров. В то время набирали обороты очередные политические кампании – критика романа «Речные заводи» и борьба с эмпиризмом, поэтому все полиграфические ресурсы и мощности были отданы под выпуск пропагандистской литературы. Кроме того, ограниченность доступа не предполагала больших тиражей изначально.
Оригинальная рукопись, ценнейший документ, была утрачена безвозвратно. В то время в КНР бережно хранились автографы одного человека – Председателя Мао. Все прочие рукописи, после того как надобность в них утрачивалась, отправлялись на переработку. Стране была нужна бумага, много бумаги.
То, что один из экземпляров «Светлого пути» сохранился до нашего времени, можно объяснить только чудом. Но тем не менее чудеса иногда случаются. Один из профессоров, имя которого его внук, передавший нам книгу, просил не называть, скоропостижно скончался, не успев вернуть в университетскую библиотеку взятые им книги. Он умер в один день с Мао Цзэдуном 9 сентября 1976-го (родственники не исключают, что именно весть о кончине Председателя Мао могла послужить причиной смерти профессора). В суматохе тех дней родственники забыли вернуть книги, а университетские библиотекари не напомнили об этом. Кабинет профессора стал чем-то вроде домашней святыни. Полностью сохранилась не только обстановка, но и книги. В конфуцианском Китае, где почитанию родителей и предков вообще придается огромное значение, подобное отношение не редкость. Лишь в 2013 году, во время переезда, вызванного необходимостью реконструкции старого здания, родственники обратили внимание на пожелтевшую от времени книжечку в простом бумажном переплете. Ознакомившись с ней, они нашли в Интернете информацию о Любови Орловой и поняли всю важность своей находки, а также то, что эти воспоминания заслуживают того, чтобы быть опубликованными.
Как хорошо, что чудеса иногда случаются!
2 ноября 1961 года
Сегодня я поняла, что должна написать о том, что было. Не для публикации, для себя. Все равно больше я ничего не могу. Все равно никто моих записок никогда не опубликует. Разве что за границей, но там нельзя. Не столько потому, что все извратят и опошлят, а просто нельзя. Фарс! В детстве жизнь кажется сказкой, потом она превращается в комедию, которая становится трагичнее год от года. А потом ты понимаешь, что все это фарс. Только не смешной, а очень грустный.
Или справедливость восторжествует, и отношение к Сталину с клеветнического изменится на правильное, на то, которого заслуживает Сталин? Хотелось бы в это верить. Хотелось бы на это надеяться. Я надеюсь, иначе бы и не начинала вспоминать. То есть не начала бы записывать свои воспоминания. Вспоминать я люблю, но вспоминаю я для себя, а записывать собралась для других. Для кого именно? Честно говоря, не знаю. Но любой труд, любая работа делается в расчете на востребованность, в расчете на то, что это кому-то нужно.
Пишу с тяжелым сердцем. «Слезы – на глазах, камень – на душе», – говорила в таких случаях мама. Слез действительно много, надо взять себя в руки, иначе дела не сделаю, только проплачу зря. Слезы всегда напрасны, потому что горю ими не помочь. Облегчения они тоже не приносят. С детства знаю, что во всех тяжелых ситуациях есть только один правильный выход. Надо стиснуть зубы и действовать, делать дело. Работа помогает побороть беду. Хотя бы тем, что отвлекает от тяжелых дум и внушает уверенность. Пока я жива, пока я могу что-то делать, моя жизнь продолжается. Стиснуть зубы и действовать. Так – и только так. Делать то, что можешь.
Что я могу? Я бы поставила Ему памятник, только кто же мне даст это сделать? Подлые, подлые люди! Тысячу раз написать это слово, все равно будет мало для выражения их подлости. Всех ругательств мира недостаточно для того, чтобы выразить мое мнение о них, негодяях, предавших своего Вождя! Кем бы они были без Него. Когда Сталин был жив, не знали, как подольститься, пресмыкались перед ним, раболепствовали. А сейчас – торжествуют! Пытаются одолеть покойника после смерти. Подло и мерзко! Начали с осуждения, которому ханжески придали вид «секретного». Закрытый доклад! Это же смешно! Или нарочно так сделано, ведь все секреты распространяются у нас молниеносно. Опорочили, убрали памятники, постарались стереть имя отовсюду, где только возможно. Но этого им оказалось мало. Они боятся Его даже мертвого, иначе бы не вынесли из Мавзолея. Тайком! Яко тать в нощи. А.К.[5] любил повторять, что любое гнусное дело можно сделать двояко – по-людски и нет. Они сделали свое дело совсем не по-людски.
Я чувствую, что должна что-то сделать. Пусть мои воспоминания станут моим личным памятником Ему. Моим личным памятником Человеку, которому я обязана столь многим. Моим личным памятником преданному вождю.
Справедливость торжествует всегда. К сожалению, мы не всегда успеваем дождаться ее торжества. Но поздно не означает никогда. Я по многу раз на дню переношусь в прошлое. Можно сказать, что чем старше становлюсь, тем больше живу воспоминаниями. Наверное, это все так. Теперь стану записывать то, что вспоминаю. Не все подряд, а «избранные места». По месяцам. Память у меня хорошая. Ролей никогда не приходилось заучивать подолгу. Прочту один раз, и достаточно. Но помнить все события тридцатилетней давности по датам, это даже моей памяти не под силу. «Не ленись! – говорила мне в детстве мама. – Что не сделаешь в свое время, все равно придется делать потом». В свое время я не вела дневника. Никогда не было потребности доверять что-то бумаге. События моей жизни не казались мне заслуживающими увековечения, другое дело – роли. Но роли мои и без дневника «стали частью вечного», как шутит Г.В.[6] Никогда не вела дневника, так теперь вот придется писать мемуары, чтобы отдать долг памяти человека, которого сейчас всячески стараются забыть. Наивные люди! Это их забудут на второй день после отставки или смерти, как забыли Молотова, Маленкова, Кагановича, Булганина и прочих. А Сталина помнят и будут помнить всегда.
И может быть, кто-то когда-то смахнет пыль с моей ветхой тетради и вспомнит слова моего любимого поэта Тютчева:
Как этого посмертного альбома
Мне дороги заветные листы,
Как все на них так родственно-знакомо,
Как полно все душевной теплоты!
Как этих строк сочувственная сила
Всего меня обвеяла былым!
Храм опустел, потух огонь кадила,
Но жертвенный еще курится дым.
Январь 1935-го
Почти ко дню рождения (лучше раньше, чем позже, и лучше позже, чем никогда) я получила подарок – превратилась из обычной артистки в заслуженную. Положим, «обычной» и тем более «рядовой» я никогда не была. Для актрисы нет худшего оскорбления, чем «обычная», «рядовая», «простая», ведь все эти слова грани одного и того же слова – «посредственная». В.П.[7] предпочитает использовать выражения «актриса с маленькой буквы» и «актриса с большой буквы». Так, наверное, лучше.
В честь наших наград неделю шли застолья. Ограничиться одним было невозможно. Каждый день звонили новые люди, поздравляли, намекали на то, что «надо бы отметить». Хотелось бы верить, что хотя бы кто-то из поздравителей был искренен и на деле разделял нашу радость. Увы, наверное, только мы с Г.В. были искренни, поздравляя друг друга.
Г.В. не любит, когда его отвлекают от чего-то, будь то съемки или беседа с гостями, поэтому к телефону подходила я. Очередной звонок. Хотелось бы написать, что он прозвучал как-то необычно, особенно звонко, или что сердце мое вдруг начало биться чаще, но ничего такого не было. Самый обычный звонок. Звонили нам в то время раз по пятьдесят в день.
– Здравствуйте, – послышался в трубке приятный мужской голос. – Это квартира заслуженной артистки Орловой?
– Да, это квартира заслуженной артистки Орловой, – подтвердила я, с особенным удовольствием произнося вкусное слово «заслуженной», и, спохватившись, поздоровалась.
Голос был мне незнаком, но я никогда не спрашиваю, кто звонит. Это еще более бестактно, чем вести разговор, не представившись.
– С вами будет говорить товарищ Сталин, – сказал мой собеседник. – Не отходите от телефона и не кладите трубку.
Предупреждение показалось мне излишним. Как я могу отойти от телефона или положить трубку, если знаю, что со мной будут разговаривать?
Товарищ Сталин?! В квартире было шумно, и я подумала, что ослышалась. Может, Свердлин[8]? Он тогда играл у Мейерхольда, почти не снимался, но мы были знакомы, и Г.В. хотел снять его в одной из будущих картин. В результате снял в «Цирке» в эпизодической роли зрителя из Средней Азии и тем самым вывел, как принято говорить, «на большую киношную дорогу».
Но разве Свердлин стал бы звонить так, с помощью другого человека? Секретарей актерам не положено. Розыгрыш? Чей? Розыгрыши среди актеров не редкость, но все знают мою нелюбовь к ним, и никто меня не разыгрывает. Да еще таким беспардонным образом!
– Здравствуйте, Любовь Петровна! – по телефону Его голос звучал совсем иначе, но тогда мне еще не с чем было сравнивать. – Мы с товарищами поздравляем вас и желаем дальнейших успехов. И Григорию Васильевичу передайте наши поздравления. Ждем от вас новых достижений.
Возможно, Он сказал это другими словами, но смысл был таков. Слов я досконально не запомнила, настолько была ошеломлена. Слово в слово помню только последнюю фразу.
– Спасибо, товарищ Сталин, спасибо… – лепетала я.
– Плохо, что мы до сих пор не знакомы. Надо бы это исправить, – сказал Он и добавил после небольшой паузы (Он вообще любил делать паузы в речи): – До свидания, Любовь Петровна.
Это обычное и совершенно естественное «до свидания» прозвучало как «до скорого свидания». Не знаю почему, не скажу откуда, но именно такое мнение сложилось у меня.
Я никому не сказала о звонке, кроме Г.В. Зачем объявлять гостям, что мне сейчас звонил Сталин? Это выглядело бы бахвальством, а я ненавижу бахвальство во всех его проявлениях. Г.В. я передала поздравления, когда все гости разошлись. Он, как мне показалось, немного расстроился, что ему не довелось поговорить со Сталиным лично. Г.В., как и все творческие натуры, очень чувствителен и ревнив к чужой славе. Если в наших с ним отношениях где и присутствует ревность, то это место – слава. Когда Г.В. начал вспоминать свою встречу со Сталиным на даче у Горького, я выразительно посмотрела на часы. У нас это называется «каменный» взгляд, когда не просто смотришь в одну точку, но и замираешь всем телом. Получается крайне выразительно, особенно в кадре. Г.В. знает, что я не люблю слушать по сто раз обо одном и том же, и знает, как я устаю от гостей. Мало кто из людей бывает приятен настолько, чтобы в общении с ним можно было избежать напряжения, не думать постоянно о том, что сказать и как отвечать. Большинство же только и норовит укусить, ужалить, подпустить шпильку. Половина гостей говорила мне: «Любочка, наконец-то вас оценили по достоинству», а другая половина: «Любочка, какая вы счастливая, что вас заметили и оценили». Никто не сказал просто и честно, что разделяет мою радость. Обязательно хотели указать на то, что мне просто повезло или что обо мне наконец-то вспомнили. Повезло? Везения у меня всегда было на грош, а вот усердия на три рубля с полтиной. Как будто все приходит само собой, падает с неба! От природы могут достаться способности, но вот что выйдет из этих способностей, зависит только от их обладателя. Легче всего завидовать, поскольку это занятие не требует никаких усилий, ни душевных, ни физических, и сваливать свои неудачи на невезение или отсутствие нужных связей. «Ах, у Орловой муж режиссер, кого ж ему снимать, как не ее?!» Очень легко и просто объяснить успех актрисы ее замужеством за режиссером. А о Г.В. те же самые злопыхатели говорят: «Орлова, как жена, снималась только у него, и оттого его фильмы так популярны». Все спишут на что-то злые языки. Всему найдут гаденькое объяснение. Тошнит от таких «друзей»! Будь моя воля, так я общалась бы только с избранным кругом, пусть в нем два-три человека, но что с того. Однако нельзя. Скажут, что я окончательно зазналась. Меня и без того считают зазнайкой, потому что я знаю себе цену и не скрываю этого. К тому же наша жизнь устроена так, что без многих полезных людей просто не обойтись. Вот и приходится «блистать в обществе», а потом расплачиваться за это приступами мигрени. Странно, но, сколько бы я ни выступала перед зрителями, от общения с ними голова моя никогда не болит. Я могу устать физически, но душевный подъем от такого общения перекрывает эту усталость. Потому что это совсем другое – одна сплошная любовь, никакой злобы, никакой зависти, никакой ненависти. Я люблю зрителей, зрители любят меня, нам хорошо вместе.
«Хорошо» может быть разным. Это понятие имеет множество оттенков. Я воспринимаю чувства и настроения в цвете. Это мой маленький секрет, из которого я, собственно, никогда секрета не делала и не делаю. Очень сильно помогает в работе над образами. Стоит только «разложить» образ по цветам, как сразу же почувствуешь его весь, объемно, детально. Взять, к примеру, Анюту и Марион. У Анюты основной цвет оранжевый. Она яркая, словно апельсин, иногда аж смотреть больно, глаза режет. Порывистая, непосредственная, может быть и застенчивой, и робкой. Там еще много цветов, но долго все описывать, да и ни к чему. Я же для наглядности. А вот Марион – голубая, сдержанная. Она может даже показаться холодной. Но в глубине этой голубой холодности пульсирует красным ее сердце. И еще там лиловое – страх. Страх за ребенка, страх перед негодяем Кнейшицем, страх жизни в новой, незнакомой стране. Г.В. всегда восхищается тем, как я сыграла Марион. Говорит, что совершенно не узнает меня, настоящую, в этой роли. Наверное, это высшая похвала, которую жена-актриса может услышать от мужа-режиссера.
С Г.В. мне хорошо, но это хорошее спокойных тонов, ближе к розовому. Мы друзья и партнеры. А вот с Ним мне тоже было хорошо, но это уже было буйство красок. Багряный с золотым, и все переливается, пульсирует, живет. Невероятное по остроте ощущений чувство – быть рядом с великим человеком. Непередаваемое, неописуемое. Дело не в том, что ты постоянно ощущаешь его величие. И не в том, что на фоне его проблем твои собственные кажутся такими крошечными, прямо ничтожными. И не в том, что вам очень редко удается побыть наедине, а в том, что, взявшись за руки, прогуляться по ночным бульварам нельзя даже и мечтать. Я очень люблю гулять по бульварам ночью, когда там нет никого, только звезды и редкие милицейские патрули. Так приятно держать Г.В. под руку, идти и смотреть на звезды. Умение любоваться звездами очень важно. Для меня это один из главных признаков вкуса и умения понимать прекрасное.
Впрочем, не в звездах дело. И не в величии. Дело только в любви.
Со всем пристрастием, на которое я только способна, я спрашиваю себя: была ли между нами любовь? Или то было что-то другое? Приязнь? Взаимный интерес? Многое может быть между мужчиной и женщиной.
Сама спрашиваю и сама же отвечаю: была любовь. Она и сейчас живет в дальнем уголке моего сердца. А еще были восхищение и уважение. Г.В. я тоже восхищаюсь и уважаю его безмерно, но то было совершенно иное чувство. Ничего подобного я больше никогда не испытывала и вряд ли уже испытаю.
Любовь – это чудо, настоящее чудо. Как верно сказал поэт: «Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце верит в чудеса»[9]. О любви столько сказано, столько написано, столько спето, что мне нечего добавить. Мама в детстве говорила мне: «Тебя назвали Любовью, и любовь будет сопутствовать тебе всю жизнь». Порой мне кажется, что лучше бы меня назвали Надеждой. Но что толку так думать? Назвали, так назвали, имя не дата рождения, его так вот просто не исправишь, уж слишком много всего с ним связано. Впрочем, мое имя всегда мне нравилось, а уж после того, как я его прославила, стало нравиться еще больше. Про Надежду это я так просто, кокетничаю сама с собой.
На следующий день Г.В. рассказал про сталинский звонок Эйзенштейну, своему бывшему другу. Их отношения окончательно охладели после выхода на экран «Веселых ребят», и виноват в том был Эйзенштейн, и только он один. Причем провинился он на свой манер, по-эйзенштейновски, иначе и не скажешь. Ради того чтобы побольнее пнуть Г.В., не пожалел даже себя. Впрочем, нет – это он кокетничал, бравировал тем, какой он прогрессивный. Но сделал все тонко, надо отдать ему должное. Унизил, уязвил, оскорбил Г.В. (в какой-то мере и меня тоже, но я тут так, сбоку припека), ухитрившись не сказать о нем ни слова.
История давняя, многими (ни я, ни Г.В. в их число не входим) уже забытая, поэтому вкратце расскажу о ней. Только для того, чтобы возможный читатель моих записок (не уверена, что не сожгу их по примеру Гоголя и прочих) понял, о чем идет речь. А то легко можно будет решить, что я к этому времени выжила из ума, и тогда не будет доверия ни к одному моему слову. Не сказал ни слова, но унизил – это как? Возможно ли такое?
Возможно. При определенных обстоятельствах возможно почти все. В 1934 году было снято несколько звуковых картин – «Чапаев», «Веселые ребята», «Гроза»… Первая звуковая картина, «Путевка в жизнь», была снята еще в 1931-м. Эйзенштейн написал для «Литературной газеты» очень бодрую статью (он вообще все делал очень бодро) под бодрым названием «Наконец!». Да, вот так, с восклицательным знаком. Статья эта была опубликована на второй странице (что само по себе показательно). Смысл ее был таков – наконец-то советский кинематограф разродился хорошим фильмом. Речь шла о «Чапаеве». Картина хороша, безусловно хороша, и никто с этим не спорит. Но нельзя же говорить, что, кроме этой картины, в советском кино больше ничего хорошего нет. Это неправильно. На «Чапаеве» белый свет клином не сошелся. Г.В. был очень оскорблен. Эйзенштейн отомстил ему за творческую самостоятельность, за умение настоять на своем. В начале создания «Веселых ребят», еще на уровне написания сценария, Эйзенштейн помогал Г.В., но помогал своеобразно, тоже по-эйзенштейновски. Не предлагал, а настаивал. Не советовал, а навязывал. Г.В. какое-то время терпел, а потом заметил, что снимать картину доверили ему, что он несет ответственность за весь процесс и станет поступать по своему усмотрению. Произошла безобразная сцена с криками, оскорблениями, демонстративным разрыванием написанного черновика в мелкие клочья и т. п. Г.В. после признался мне, что только благодаря его выдержке дело не дошло до драки (такое у них дважды случалось). Ругать «Веселых ребят» после такого скандала означало открытое сведение счетов и попахивало предвзятостью. Поэтому Эйзенштейн решил унизить Г.В., всячески превознося и возвеличивая работу «братьев»-однофамильцев Васильевых, которые, к слову будь сказано, все его «советы» принимали без возражений. Даже тогда, когда они шли во вред картине. Чего стоит сцена с денщиком, который, стоя перед полковником со связанными руками, пытается поднять с полу уроненный полковником платок. Великолепная сцена, показывающая, насколько укоренилось в денщике холуйское начало! Она могла бы стать классической, если бы Васильевы не выбросили ее по указанию Эйзенштейна. Он, видите ли, решил, что это слишком. Да, слишком! Слишком хорошо! Г.В. прав, когда говорит о том, что ни один консультант или советчик не может смириться с тем, чтобы его хоть в чем-то превзошли. Поэтому лучше обходиться без советчиков.
Но справедливость восторжествовала – в тот же день, одновременно с эйзенштейновской статьей, «Веселых ребят» похвалили в другой газете, но в какой! В самой главной газете, в «Правде»! Одно хорошее слово в главной советской газете стоит десяти статей в других. Эта статья особенно дорога мне тем, что в ней нашлось доброе слово и для меня лично. Я вырезала ее и наклеила в альбом, который украли вместе с чемоданом весной 1942 года, во время нашего переезда из Алма-Аты в Баку. О вещах, которые лежали в том чемодане не жалею, а вот альбома мне жаль. Долгое время ждала, надеялась, что, узнав, кого обворовал, вор вернет если не весь чемодан, то хотя бы альбом. Но напрасно надеялась, альбома так и не вернули. Г.В. потом хвалил меня за предусмотрительность, за то, что я не сложила все яйца в одну корзину (любимая его фразочка, привезенная из Америки). Иначе говоря, хвалил за то, что все четыре альбома с вырезками и фотографиями я разложила по разным чемоданам и в результате лишилась только одного из них. На самом деле альбомы у меня основательные, в кожаных переплетах, с «вечными» страницами из толстого картона, и чемодан с четырьмя ими был бы просто неподъемным. По мнению Г.В., именно переплет из настоящего сафьяна и мог стать причиной того, что вор не вернул альбом. Содрал кожу для своих нужд, а остальное выбросил, не возвращать же в таком виде.
Г.В. не мог не рассказать Эйзенштейну о таком важном звонке, вот и рассказал. Эйзенштейн поделился новостью с кем-то еще, и к следующему вечеру все уже знали об этом. Подающий надежды оператор Б.А. пришел к нам и с порога завел жалобные речи о своих крайне стесненных бытовых условиях. М.П.[10]высказала мне свою обиду. Сыграла, дескать, более значимую роль, а признания не получила. Я ей на это заметила, что значимость роли определяется не количеством реплик. Обменялись шпильками и разошлись. Примечательно, что, поздравляя меня с «заслуженной», М.П. шпилек не подпускала. Звонок для всех значил больше, чем награда.
Г.В. предсказал, что признание наших заслуг не угомонит, а только сильнее раззадорит завистников, и оказался совершенно прав. Он предсказывает обдуманно, опираясь на богатый жизненный опыт и великолепное знание людей, поэтому его предсказания почти всегда сбываются. Спустя месяц «Литературная газета» вновь «отличилась». Там был опубликован пасквиль, обвинявший создателей фильма ни много ни мало как в плагиате. Пасквиль вызвал целый шквал подобной же пошлой и грязной «критики». Злобствовали многие, я до сих пор помню все имена, но особенно отличился В.Я.[11], человек, постоянно менявший кожу, словно змея. Он написал огромную статью в которой разобрал «Веселых ребят» буквально по косточкам и «доказал», что все трюки взяты из западных капиталистических комедий. По некоторым признакам Г.В. угадал соавторство Эйзенштейна, имени которого под статьей не значилось. То было не простое обвинение в плагиате. Заимствования из капиталистических картин преподносились автором (или авторами) как политически незрелые и даже вредные. Досталось в статье и Б.З. [12], которого «уличили» в непрофессионализме. Руководит, мол, советским кино, совершенно не зная западного, азов, так сказать. И это В.Я.! Человек, считавшийся если не другом, то, во всяком случае, добрым нашим знакомым! Человек, которому Г.В. помог получить квартиру в доме писателей[13]! Г.В. просил за него Горького. И вот такая черная неблагодарность! Разумеется, после выхода этой статьи В.Я. перестал для нас существовать, и имя его больше никогда в нашем доме не упоминалось.
Ну а о том, что из Америки он привез десять чемоданов книг, а Г.В. – десять чемоданов костюмов, Эйзенштейн без стеснения говорил буквально на каждом углу, при любом удобном случае. Говорил, прекрасно понимая, что лжет. Но это было так образно, немного гротескно и очень язвительно. В его духе.
Была создана специальная комиссия по «Веселым ребятам». Вышла новая статья в «Правде», которая положила конец нападкам. Г.В. сказал мне, что в полемику вмешался Сталин, называвший «Веселых ребят» доброй и веселой картиной. Я решила, что при первой же возможности поблагодарю Сталина за это. Хотела даже написать письмо, но потом передумала, потому что это показалось мне бестактным, чересчур… не то чтобы фамильярным, но в какой-то мере да, фамильярным. К тому же не было уверенности, что Он прочтет мое письмо, ведь столько должно ежедневно приходить писем, что их разбирают и читают помощники, докладывая только о самом важном. Так и не написала. Но дала себе слово непременно поблагодарить Его, если мне представится такая возможность. И она представилась, правда, не сразу, не так скоро, но представилась.
Март 1935-го
В Москве прошел первый советский кинофестиваль. Международный и весьма представительный! Пусть для начала в нем приняло участие не так уж много стран, но среди них были Франция, Англия, Италия, Соединенные Штаты, Чехословакия и даже Китай. Китайское кино в ту пору только начало становиться на ноги, делало первые шаги. Но шаги эти были довольно впечатляющими. Китайский режиссер, трудное имя которого моя память не сохранила, привез на фестиваль очень хорошую картину «Песня рыбака», в которой рассказывалось о тяжелой доле бедной семьи рыбаков. Я, помнится, очень расстроилась, когда жюри предпочло дать приз не «Песне», а «Последнему миллиардеру» Рене Клера. На мой взгляд, это решение было совершенно необоснованным как с точки зрения искусства, так и с политической. Тогда я еще считала, что не слишком хорошо разбираюсь в кино, что более опытным товарищам виднее. Председателем жюри был Эйзенштейн, и в спорных вопросах его голос оказывался решающим.
Фаворитом фестиваля, разумеется, стал «Чапаев». Эта картина совершенно затмила «Юность Максима». Помню, как Г.М. и Л.З.[14] сокрушались по поводу того, что не сняли «Юность» годом раньше, тогда бы, по их мнению, картине досталось бы больше славы. Смешно было наблюдать за этими стенаниями. «Юность» тоже получила главный приз – чего же еще можно было желать? Но должна признаться, что эта картина проигрывала «Чапаеву» по всем статьям. Г.В. тоже так считает. И не только он, это общее мнение.
Стенаний вообще было много. Сказочник А.Л.[15] сильно переживал, что его «Гулливеру»[16] досталась всего лишь почетная грамота. Он сильно надеялся на приз, но приз дали Уолту Диснею (не исключаю, что это было сделано с подачи Эйзенштейна). «У меня куклы, целый полк кукол играли с живыми актерами, а там всего лишь картинки», – горько говорил А.Л.
Но, как бы то ни было, кинофестиваль всегда праздник. Особенно если это первый международный кинофестиваль. Помню, как волновались все мы, включая и тех, кто не имел отношения к организации фестиваля. Удастся ли? Не сорвется ли? Приедут ли иностранные гости? Все ли пройдет так, как надо? Не хотелось ударить в грязь лицом, ведь на карту был поставлен не только престиж советского кино, но и престиж нашей страны в целом.
Идея проведения фестиваля принадлежала Сталину. Это не оглашалось вслух, считалось, что идея коллективная, но все это знали. Вначале планировалось, что фестивали будут проводиться раз в два года. Ежегодное проведение сочли нецелесообразным, слишком частым. Велик был риск того, что будет представлено недостаточно картин для полноценного выбора. Но больше фестивалей не проводилось вплоть до недавнего времени[17]. Догадок по этому поводу существует много, но мне известна истинная причина. После фестиваля в американской прессе была развернута грязная клеветническая кампания. Создатели картин, оставшихся без приза на нашем фестивале (их было несколько таких), обвинили жюри в предвзятости, основываясь на том, что главный приз получили три советские картины. Получили совершенно заслуженно, поскольку превосходили остальные картины, но недаром говорится, что язык без костей, сказать можно что угодно. Кампания была шумной. Кто-то из сотрудников наркомата иностранных дел сделал доклад Сталину по этому поводу. Обстоятельный доклад, с цитатами из американских газет. Сталин рассердился и решил пока больше фестивалей не проводить. «Своих мы найдем, как отметить и чем наградить», – сказал он.
Вскоре после окончания кинофестиваля в Кремле состоялся прием, на который были приглашены многие работники кино. Из членов правительства присутствовали Сталин, Калинин, Молотов, Каганович и Микоян, недавно ставший членом Политбюро. Короткой речью открыл прием Сталин, затем слово перешло к Б.З., который, в отличие от Сталина, говорил долго, многословно. Не только о кино говорил, но и о политической обстановке и о разных других делах, не имевших отношения к кино, вплоть до готовившейся отмены карточек. Наконец, поняв, что изрядно утомил всех присутствующих, Б.З. свернул свое выступление буквально на полуслове. Очень коротко выступил Эйзенштейн, еще кто-то ненадолго взял слово, а потом уже от речей перешли к тостам. Г.В. шепнул мне на ушко, что речи способствуют разжиганию аппетита лучше любой прогулки. Эти слова, несмотря на то, что они были сказаны очень тихо, услышал один режиссер, сидевший слева от Г.В., и укоризненно покачал головой. Я легонько толкнула Г.В. локтем, давая понять, что шутки лучше оставить на потом. Мало ли как можно извратить или переврать самую невинную фразу. Г.В. никогда не позволял себе говорить лишнего, но ведь, как говорил Немирович-Данченко, «дело не столько в смысле, сколько в интерпретации».
Мне тоже пришлось сказать тост. К сожалению, я не могла поблагодарить в нем Сталина за защиту «Веселых ребят». Это было бы неуместно, ведь прием посвящен кинофестивалю, и вдобавок неделикатно, поскольку за длинными столами, составленными покоем (это выражение у меня от мамы, она никогда не скажет «в виде буквы «П», а только «покоем»), сидели те, кто нападал на нашу с Г.В. картину. Выглядело бы так, словно я подливаю масла в огонь и затеваю склоку. Поэтому я предложила выпить за дальнейшие успехи советского кино и за то, чтобы картин у нас снималось как можно больше.
– А Ленин говорил, что лучше меньше, да лучше, – сказал Сталин.
Тон его был серьезным, и выражение лица не позволяло заподозрить, что он шутит. Скорее можно было предположить, что Сталину захотелось осадить меня. Умерьте, мол, свой пылкий энтузиазм, Любовь Петровна, угомонитесь. Большинство так и поняло. Многие смотрели на меня с ехидцей, а в некоторых взглядах сквозило откровенное недружелюбие.
Г.В. едва заметно нахмурился, выражая недовольство моей оплошностью. Он всегда переживает, если у меня что-то получается не так. По-мелочи или по-крупному, все равно переживает.
Повисла пауза. Все молчат, даже жевать перестали, и смотрят на меня. Ждут, что будет дальше. К бокалам никто не притрагивается, потому что Сталин не спешит поднимать свой.
– «Лучше меньше, да лучше» – это лозунг начала двадцатых годов, – замирая внутренне от собственной дерзости, сказала я. – А в наше время надо и лучше, и больше!
Ничего умнее не придумала, но, несмотря на смятение, смогла ответить звонко, задорно, боевито. Не мямлила.
Тишина стала уже не просто тишиной, а какой-то давящей. Делать было нечего, тост сказан, надо выпить. Медленно, не глядя ни на кого, я поднесла свой бокал к губам. Щеки мои горели, сердце стучало в груди как кузнечный молот.
Я не успела сделать глотка, как все, как один, дружно встали, взяли бокалы и начали пить. Скосив глаза, я встретилась взглядом со Сталиным, который пил из своего бокала. Мне показалось, что он улыбается, хотя улыбки не было видно. Усы и бокал скрывали ее. Но по взгляду ведь тоже можно понять, что человек улыбается.
– Товарищ Орлова права! – сказал Сталин, ставя на стол опустевший бокал. – Времена меняются, и то, что годилось вчера, сегодня уже не подходит. Мы, советские люди, максималисты. Нам не пристало довольствоваться малым. Нам подавай как можно больше. И лучше!
Все зааплодировали. Я тоже аплодировала. Когда мы сели, Г.В. одобрительно подмигнул мне – молодец, с честью вышла из трудного положения. От волнения у меня разболелась голова. Есть я уже не могла, потому что вместе с головной болью подступила тошнота. Заставляя себя улыбаться, я просидела еще немного за столом, а потом тихонечко встала и вышла. Г.В. собрался было проводить меня, но я шепнула ему, что все хорошо и провожать меня не надо.
Впрочем, без провожатого я не осталась. Стоило мне выйти, как ко мне подошел чрезвычайно любезный человек в военной форме и проводил меня туда, куда мне было надо. Без него бы я заблудилась в незнакомом месте. Приведя себя в порядок, я вышла в коридор и немного удивилась, увидев вместо своего провожатого другого военного, пониже ростом и пошире в плечах.
– Товарищ Орлова! – громко сказал он. – С вами хотят поговорить. Я вас провожу.
– Кто? – спросила я, морщась от громкого голоса, прокатившегося гулким эхом по пустому коридору.
Не люблю шума, а уж когда голова разболится, то и подавно.
Он все понял и продолжил много тише:
– Сейчас вы все узнаете, товарищ Орлова. Пройдемте, это рядом.
Оказалось не совсем рядом. Во всяком случае, шли мы долго, дважды или трижды сворачивая. Мой спутник шагал впереди, то и дело оглядываясь, словно проверяя, иду ли я за ним. Мне почему-то подумалось, что со мной хочет поговорить наш «главком кино» (выражение Г.В.) Б.З. Сама не знаю, почему я так придумала, но вот придумала. Наверное, потому, что за столом несколько раз ловила взгляд Б.З., устремленный на меня. «Главком кино», несмотря на то что Г.В. имел о нем весьма невысокое мнение, был тогда в моих глазах большим начальником, вершителем судеб. Разумеется, я снова разволновалась, виски заломило, как будто их сдавило щипцами. Я терпела. А что еще делать? Терпеть, стиснув зубы, терпеть и не забывать улыбаться при этом. Стиснуть зубы и улыбаться.
Он привел меня в небольшую, скромно обставленную комнату. Кажется (уже не вспомню точно, да и не важно это), кроме трех кресел, стоявших вокруг небольшого круглого стола, там ничего не было. На столе стояла чугунная пепельница в виде листа. Я люблю все красивое, а пепельница эта была просто шедевром литейного мастерства. Лист выглядел, словно живой, мастер даже тончайшие прожилки на нем сделал. Я взяла пепельницу в руки и стала рассматривать.
Звук распахнувшейся двери застал меня врасплох. Я едва не выронила тяжелую пепельницу. Поспешно поставила ее на стол и хорошо, что поспешила, иначе бы непременно уронила ее. Почему непременно уронила бы? Потому что вместо ожидаемого мной Б.З. в комнату вошел Сталин.
Я вскочила и замерла, вытаращив глаза. Он шел ко мне, дверь за Его спиной закрылась сама собой. Подойдя к свободному креслу, он улыбнулся и сказал:
– Давайте присядем, Любовь Петровна. В ногах, как известно, правды нет. Правда вся в головах.
Я послушно села и попыталась взять себя в руки. Зажмурилась на мгновение и ущипнула себя за руку, проверяя, не сплю ли я. А когда открыла глаза, то увидела, как Сталин набивает трубку. Вспомнила о том, что хотела сказать Ему, поняла, что лучший случай вряд ли представится, и выпалила:
– Товарищ Сталин! Огромное вам спасибо за все, что вы для нас сделали! Без вашей помощи картина «Веселые ребята» была бы похоронена заживо!
– Зачем хоронить такую нужную, хорошую картину? – услышала я в ответ. – Не только мне одному она нравится. Всем членам нашего Политбюро нравится, народу нравится. Последнее слово всегда за народом.
Пока он раскуривал трубку, возникла пауза.
– Ваш сегодняшний тост, Любовь Петровна, я расцениваю как серьезное и очень ответственное заявление. Как можно больше хороших картин! Может быть, нам с товарищами стоит посоветоваться по поводу того, чтобы назначить вас начальником Главного управления кинопромышленности?
Все, кто имел отношение к кино, знали, что Сталин и Б.З. недолюбливают друг друга. Были у них в прошлом какие-то трения. Но Сталин никогда не позволял себе пренебрегать деловыми качествами человека. Мало ли, что были трения. Если человек может на этом посту приносить пользу стране, то пусть приносит. Подход умного, рачительного хозяина. Сталин был не только Вождем, но и Хозяином. Многие из окружения так называли Его за глаза. Он это знал и ничего не имел против.
Я смутилась. Не могла понять, серьезно ли говорит Сталин или шутит. Наконец выдавила из себя, что я не справлюсь и что мне больше хочется сниматься в кино, а не руководить им.
– Руководить тяжело, – согласился Сталин. – Но кто-то ведь должен делать это.
Помолчал, пыхнул трубкой и улыбнулся:
– Я пошутил, Любовь Петровна. Было бы непростительным расточительством запирать такую хорошую актрису в кабинете и загружать скучными начальственными делами…
Я облегченно вздохнула.
– Но задатки руководителя, настоящего руководителя, – продолжал Он, – у вас имеются. Вы верно чувствуете момент и умеете это выразить. Товарищу Шумяцкому стоило бы у вас поучиться.
Я смущенно улыбнулась. Он тоже улыбнулся и засыпал меня вопросами:
– Вам понравился фестиваль? А что понравилось больше всего? И т. д.
Вопросов было много, и чувствовалось, что Его в самом деле интересует мое мнение. В какой-то момент я поняла, что даже не столько мое мнение, сколько я сама. Это очень тонкое чувство – понимание того, что мужчина интересуется тобой как женщиной. Я говорю о понимании, которое возникает без признаний, без флирта, без каких-либо явных проявлений этой заинтересованности… Просто смотришь на человека и ощущаешь, как протянулась между ним и тобой тоненькая незримая ниточка.
Я была настолько ошеломлена происходящим, что не сразу разобралась в своих чувствах. У меня не было ни времени, ни возможности для того, чтобы в них разобраться. Вопросы сыпались один за другим, и все мое внимание было сосредоточено на них и на ответах. В глазах Сталина светился искренний интерес, и я очень боялась разочаровать Его, сказав необдуманно какую-нибудь глупость. А когда болит голова, глупость сказать совсем нетрудно.