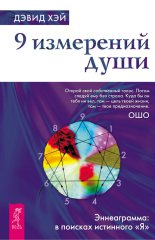Беда Шмидт Гэри
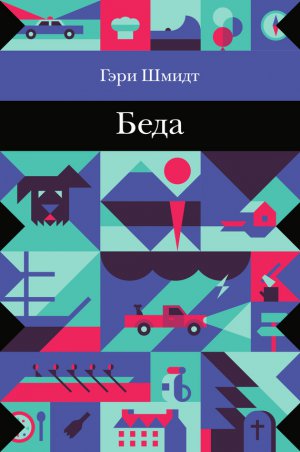
— Ты слишком суров к себе, вот что.
Джона пожал плечами.
— Этот парень хотел кого-то убить. Пытался убить тебя. Ты бы радоваться должен. Отлично справился. И довольно об этом, живи дальше.
Джона сердито поморщился. Живи дальше. Он чувствовал, что если поскрести хорошенько, то от спины отшелушится засохшая кровь, которую он не смыл с первого раза. И по части «жить дальше» Джона отнюдь не был чемпионом, особенно когда на него давили.
Но работа уголовного адвоката в том и заключается, чтобы разложить все по полочкам: какое дело удастся отстоять в суде, какое нет. Небось такой же премудростью он угощает и тех, кто совершил настоящее преступление — украл, изнасиловал, убил. Та к вы разбили ей голову кирпичом, ясно-ясно.
Белзер кинул справочник по уголовному праву в ящик и сплел пальцы. На мизинце правой руки сверкало крупное золотое кольцо.
— У тебя замечательный отец — сам-то чувствуешь?
— Да.
— Умнейший человек.
— Точно.
— А ты на маму похож.
— Спасибо-спасибо.
— Слушай, — заговорил Белзер, вертя кольцо на пальце, — выкинь все это из головы. Что было, то было. Переживания никому не идут на пользу.
Но с выходом пятничной «Пост» стало ясно: ничего из головы не выкинешь.
Эй, Супермен!
Слухи распространяются быстро.
Слышь, Супермен, открой мне банку! Да не урони смотри!
Эй, Супермен! Мистеру Киста Желудка нужен рентген. Примени свои Х-лучи.
Статья из «Пост» повсюду: на досках объявлений, в ванной, в грузовом лифте и в кафетерии; заперта в шкафчике раздевалки и скреплена с флайерами предстоящей конференции по «Новым методам пересадки почек» или по «Врожденным порокам сердца».
Куда бы Джона ни пошел, его поджидал двойник: паршивое фото, которое Кристофер Йип где-то ухитрился нарыть. Зернистое изображение, кривая улыбка, щечки-яблочки — он больше смахивал на жертву преступления. Командовавшие Джоной ординаторы заходились смехом:
Вперед, вперед и выше!
Они донимали Джону цитатами из статьи. Полстраницы чепухи, щедро сдобренной эпитетами и увенчанной заголовком сорокового кегля. В статье Джона именовался то «ординатором третьего года обучения», а то и хирургом.
Поздравляю, Супермен! Ты, оказывается, уже ординатор? Не напишешь мне рекомендацию?
Повесть о том, как Джону осматривали в травме, быстро обрастала мифологическими подробностями. Его зад и другие выдающиеся части тела обратились в фетиш. Тут уж комические варианты неисчерпаемы:
Суперчлен!
Суперхрен!
Ему казалось, вот-вот его выставят на арену.
БИТВА СУПЕРДОКОВ
ПРИДУРОК ПРОТИВ НОЖА
Но дело сделано, лучше уж подыграть, чем противиться. Его называли Кларком, он раскидывал руки — сейчас взлечу — и высвистывал ветер. Он напевал песенку из сериала и, пародируя чудеса гибкости, прикидывался, будто на нем лопается рубашка. Медсестры тыкали его в надутые бицепсы. Отпускали шуточки по поводу облегающих брючек. Хотите посмотреть поближе? — хорохорился он.
Люди, про которых Джона и думать забыл, присылали электронные письма с наилучшими пожеланиями и неуклюже пытались выразить герою свое восхищение. Девушка, с которой они вместе учились в школе, опасалась, что он ее не помнит (не вспомнил), и спрашивала, не пригласит ли он ее на чашку кофе (не пригласил).
Друг Джоны Вик, штудировавший медицину в HUM, прислал огромный букет с карточкой: «Твое счастье, что цветы не на похороны, идиот».
В среду позвонила сестра.
— О чем ты только думал?
— Я не думал.
— Он же мог тебя зарезать. — Порой ее интонации точь-в-точь напоминали материнские, до ужаса.
— Знаю, — сказал он.
— И ты спокоен? Судя по голосу, ты ничуть не взволнован.
— Какое тут спокойствие.
— Тогда почему у тебя такой спокойный голос?
— Я устал, — ответил он.
Чистая правда. Шесть дней подряд он пахал в Святой Агги, по шестнадцать часов в день. Напрямую никто не требовал отработать отгул, но и подразумеваемые ожидания давили на него, словно заповеди Священного Писания. Джона работал полный день в субботу, в воскресенье, в понедельник. Во вторник дежурил до полуночи, в среду должен был еще и посетить семинар по послеоперационному уходу. Превратился в зомби, но лучше так, чем ползти домой: Ланс уходил на ночь, в пустой квартире — тишина и бессонница. Любой пустяк запускал вновь те страшные видения. Затормозит внизу автобус — и его шипение похоже на то, с каким кровь выходила из раненного насмерть человека.
— Репортер все перепутал. Прибавил тебе лет.
— Не знаю, где он брал информацию. Не от меня.
— Пишет, что ты с Манхэттена.
— Ну как бы да.
— Не уроженец, — уточнила сестра. — А он пишет так, словно ты здесь и вырос.
— Да, верно. Все перепутал. Ужас.
— Оставь свою пассивную агрессию, Джона-бой.
Он надавил пальцами на веки.
— Извини.
— Проехали. Все равно я тебя люблю.
— Спасибо, Кэти.
— Ступай, работай. Погоди, смешное расскажу. Сегодня я попыталась объяснить Гретхен, что мамочка ждет еще одного ребенка. Говорю ей: ты же знаешь, у мамы есть брат. Показала твое фото. Угадай, что она сказала?
Джона поскреб ногтем медицинскую карту.
— Сдаюсь.
— «Дяя Джона». Правда, молодец?
Он улыбнулся:
— Еще какая!
— Конечно, вряд ли она поняла, что у нее будет брат или сестра. Предчувствую, что нас еще ждет серьезная истерика. Ну, все тебе рассказала. Иди, работай. Люблю-целую. И — слышишь, Джона? — береги себя и не лезь под нож.
От статьи в «Пост» была хоть та выгода, что из нее Джона более-менее выудил события той ночи. Судя по тому, как переврали его собственную биографию, Джона прикинул, что процентов двадцать из сюжета соответствует истине.
Итак, «безумным убийцей» оказался Рэймонд Инигес, тридцати восьми лет, бывший учитель, обитатель Бикон-хауза в «Адской кухне» — пансионата для душевнобольных. Его брат, музыкант из Бронкса, от комментариев воздержался. Жертва, Ив Джонс, тридцать один год, вела в том же Биконе курс танцетерапии. Полиция предполагала, что Инигес последовал за Джонс, когда та вышла с работы, и хотя представители власти пока отказывались комментировать намерения Рэймонда, «своевременное героическое вмешательство…» и т. д.
И пусть из-за раздутых похвал Кристофера Йипа насмешники не давали Джоне житья, зато он знал теперь, что рана Ив Джонс оказалась нетяжелой, пострадавшую осмотрели и на следующее же утро выпустили из больницы.
Похороны Инигеса намечались на субботу, 28 августа.
Фото в газете — даже мятое и зачерненное — не совпало с образом нападавшего, какой запомнился Джоне. Впрочем, знакомство их состоялось в темноте, и Джона располагал считанными мгновениями, чтобы рассмотреть Инигеса. На фотографии тот был чисто выбрит, в галстуке и кепке «Янкиз». Пухлое, довольно добродушное лицо. Джоне стало не по себе. Мысленно он пытался отретушировать этот портрет, заменить улыбку оскалом, подсушить толстые щеки, чтобы проступили кости. В итоге он вырвал клок с фотографией из своего экземпляра газеты и выкинул.
А вот Ив Джонс вышла как нельзя лучше: укутанная курткой не по росту, ножки-спички уходят далеко за нижний край фотографии, за спиной тянется желтая лента, ограждающая место преступления. Широко раскрытые глаза молят о помощи. Весь ее облик взывал к таившемуся в Джоне инстинкту защищать и спасать. Пусть ему теперь хреново, он поступил правильно: девушка осталась жива.
И еще кое-что он заметил. Не то чтобы это было принципиально важно — хотя с точки зрения мировой гармонии оно хорошо, — но нет, не важно: человек в беде — это человек в беде, независимо от расы, пола и вероисповедания; все от рождения наделены равными правами на спасение. Но Джона заметил, не мог не заметить, ведь не слепой же он, нормальный здоровый мужчина, да и факт бросался в глаза: Ив Джонс была весьма, весьма хороша собой.
5
Суббота, 28 августа 2004
Утром в день похорон Рэймонда Инигеса Джона сел на маршрут L от станции «Юнион-сквер». Вагон был пуст, переохлажден, обклеен рекламой языковой школы в Квинсе: свободное владение языком без акцента за несколько месяцев. Модели из «Китая», «Украины» и «Ганы» выставляли большие пальцы.
Сядь он не на L, а на № 6, мог бы подъехать к погребальной конторе в Бронксе как раз к началу церемонии. Джона видел объявление в газете и на один безумный момент прикинул, не пойти ли. Но что бы он там делал? Прятался бы в задних рядах, покуда плакальщики не застукают и не забьют подносами из-под закусок? И что бы сказал, узнав об этой затее, Белзер?
Куда-куда ты наведался, сынок?
И вообще, Джону ждали другие дела.
На Восьмой авеню он пересел на А и доехал до станции «Пенн», откуда в 9.22 отбывала лонг-айлендская электричка до Грейт-Нека. Проездной на десять поездок (не в часы пик), осталось еще четыре. Усевшись в безлюдном вагоне — мало кто выбирается из города так рано субботним утром, — Джона пристроил сумку на коленях и достал учебник. Минута — и он уже дремал, прислонившись головой к оконному стеклу.
Поезд прибыл по расписанию, однако на станции никто не ждал. Джона пошел пешком. Два с половиной километра, и еще не слишком жарко.
Он прошел мимо супермаркета «Вальдбаум» — каждый раз вздрагивал при виде этой махины, если давно не приезжал и успевал отвыкнуть. Отгремела ярмарка ремесел, ее вывески все еще торчали на массивных дубах, осенявших и озеленявших улицы. На ходу Джона касался почтовых ящиков, собирая кончиками пальцев еще не просохшую росу. Он выбрался из города в безветренную пригородную тишину, где разве что зяблики забавлялись да верещали домашние питомцы. Кровельные крыши и большие автомобили; открытое пространство, тень, кустарники в цвету — отрада для глаз после серости Манхэттена.
В половине одиннадцатого Джона ступил на крыльцо грязно-белого особняка в стиле ранчо в конце заросшего зеленью тупика. Двор перед домом — памятник несбывшимся добрым намерениям: по одной стороне дорожки пробились не слишком дружные цветы (лаванда, петуния, лютики), а другая сторона была огорожена лишь до середины, словно приглашая визитеров соступить с потрескавшихся плит и пересечь лужайку, местами в сорняках, местами лысую. Жители этого дома, видимо, признали свое поражение. Но лето есть лето: солнце припекало, от земли поднимался горячий и сладкий дух — в целом все это казалось потрепанно-уютным, а не безнадежным. Зимой хуже. Джона мог это подтвердить.
У него имелся ключ, но сперва Джона постучал.
В холле сумрачно, затхлый воздух. Затоптанный оранжевый ковер, три столба света проникают сквозь прорези парадной двери, слегка расплываясь по краям. Но в гостиной, отметил Джона, подушки взбиты и лакированные поверхности пахнут лимоном. Домработница приходила.
Он пошел в дальнюю комнату, на звук работавшего телевизора. Там в шезлонге громко храпел мужчина средних лет; рот распахнут, натянута кожа. Спал он в мятых трусах-«боксерах» и линялой футболке с надписью «Флорида Киз». Голову его замкнули в скобки дужки захватанных очков, пальцы придерживали пустой стакан на полу.
Это был Джордж Рихтер, и с Джоной его не связывали кровные узы. Прежде чем Джона стал регулярно наведываться в этот дом, они виделись дважды, оба раза на парадных обедах, оба раза держались лицемерно-любезно. Кое в чем Джона был теперь даже слишком близко знаком с Рихтером: видел его спящим, знал, как он плачет без слез. Но в чем-то он оставался для Джоны закрытой книгой. К примеру, Джона не знал его среднее имя или ставит ли Джордж «Битлз» выше «Стоунз». Он не знал, как и когда Джордж пристрастился к спиртному и почему именно к ржаному виски, к «Олд Оверхолт». Давно ли он столько пьет? Джона не знал и не собирался задавать этот вопрос Джорджу. Другой человек — единственный, кто мог бы знать ответ, — был не в состоянии сказать.
Джона осторожно вынул стакан из руки Джорджа, отнес на кухню, прополоскал и наполнил холодной водой из стоявшего в холодильнике кувшина. Поставил на огонь кофейник. Пока набухала пенка, он разобрал почту, скопившуюся на кухонном столе. Среди извещений по банковской карточке с обратным адресом штат Делавэр отыскалась «Нью-Йорк таймс» с полуразгаданным кроссвордом. Подобрав обкусанный огрызок карандаша, Джона заполнил пустые клеточки. Кофейник забулькал, в кухню вошла кошка, потерлась о ногу Джоны.
— Привет, Лентяйка!
Он развел в чашке «Мокка микс», добавил заменитель сахара и вернулся в дальнюю комнату. Поставил кофе и стакан с водой на столик возле заброшенного бегового тренажера. Выключил телевизор — «Зенит» в деревянном ящике с кроличьими ушами.
Джордж пошевелился.
— Джона? Который час?
— Около одиннадцати.
— Ты не предупредил, что приедешь.
— Предупредил.
— Я бы тебя встретил. — Джордж поднялся и раздвинул занавески. Задний двор отблагодарил хозяина за отсутствие заботы бурным цветением. — Я тебя на прошлой неделе ждал.
— На прошлой я не мог приехать, — сказал Джона. — Работал. Я писал тебе на электронную почту.
Кошка терлась о босую лодыжку Джорджа. Он наклонился почесать ей голову.
— Ханна спит?
Джордж взял в руки стакан, покрутил, словно пытаясь колдовством вернуть спиртное. Не добившись чуда, взялся за кофе.
— Плохая ночь. Я не спал до пяти.
— Мне очень жаль, — отозвался Джона.
Джордж только плечами пожал.
— А у тебя какие новости? Изучаешь — что ты там изучаешь?
— Хирургию.
Джордж вроде бы удивился:
— Я думал — нейрологию.
— Неврологию. В прошлом месяце. За этот год я должен пройти практику по всем специальностям.
— РРРР. Ротация.
— Точно.
Он ждал вопроса о том, что с ним случилось, но Джордж, видимо, ничего не знал. То ли не наткнулся на статью, то ли успел позабыть. С него станется: чужие неприятности тут же выпадали из памяти Джорджа.
— Ладно, чем бы ты ни занимался, ты преуспеешь, — рассудил Джордж. — Ты будешь прекрасным врачом.
Как будто это можно предсказать, подумал Джордж.
Они позавтракали. Джона показал Джорджу старый кроссворд, Джордж выкинул его и принес под мышкой из другой комнаты свежий. Наточил карандаш, налил себе на три пальца спиртного — это, по его понятиям, умеренность, оценил Джона. Они сидели в гостиной, ждали, пока Ханна проснется, Джона читал главу о свищах и подсказывал Джорджу ответы.
— Таранообразный нос корабля, пять букв, на «Р».
— Ростр.
— Р-о-с-т-р. Подходит. Благодарствую.
— Не за что.
Джона с легкостью угадывал такие вот редкие слова: авторы кроссвордов частенько повторяются, а медицинский факультет уничтожил фильтр, защищающий мозг от информационного балласта. Джона порой бессознательно запоминал какие-то факты и сам удивлялся, невесть как припомнив их потом.
В час дня он глянул на часы. Как раз в эту минуту Рэймонда Инигеса предают земле.
В два часа Джордж посоветовал:
— Может, поднимешься, глянешь, как она?
Джона захлопнул книгу.
На втором этаже он сначала зашел в ванную, погляделся в зеркало. Ханна хотела видеть его в точности таким же, как на первых курсах, и хотя полностью скрыть следы лет он не мог — вот и подбородок стал тяжелеть, как у отца, — Джона по возможности прихорошился, влажной рукой зачесал волосы с боков на пробор. Результат его вполне удовлетворил. Как бы снова не пришлось покупать фальшивое удостоверение личности.
Он постучал в дверь и услышал, как Ханна ворочается под множеством слоев покрывал. Она вечно мерзла. Нейролептическая гипотермия, по-научному говоря.
Джона окликнул ее по имени, не получил ответа и вошел.
В нос ударил густой запах одеколона. Туалетный столик, где Ханна держала всевозможные спреи, сулившие по дешевке ароматы дорогих одеколонов, был пуст. Закрытые коробки подчас пробуждали в Ханне паранойю, и если Джордж не успевал их убрать, то их содержимое настигала безвременная гибель.
В комнате ничего не менялось с тех пор, как ее обитательнице исполнилось двенадцать. Постеры с Дженет Джексон и Джонни Деппом обтрепались по углам, из-под них проступали неравномерно выцветшие обои. Антологии, дневники. Скотчем приклеены к стене фотографии друзей-одноклассников, школьной команды по софтболу — групповое фото с тренером в тот год, когда они выиграли Кубок трех штатов. Кисточка бахромы — память о выпускном вечере — прикноплена к двери. Стопки кассет, ящики забиты свитерами. Ее кубки — слишком тяжелые, с острыми краями — давно переместились в подвал. Возле кровати, рядом с телефоном в форме божьей коровки — портрет покойной матери. Единственная примета из недавних лет — вымпел Мичигана, который Джона приволок в прошлом году в октябре.
— Ханна.
Лежит, свернувшись.
— Ты не спишь?
Рука пробирается из-под слоя одеял, глаза следят за ним — концентрические круги мишени.
— Можно подойти?
Она кивнула.
Он присел на край кровати.
— Как чувствуешь себя?
Она откашлялась.
— Пить хочу.
Выползла из-под одеял. Она спала в джинсах и шерстяном свитере, сверху — коричневый махровый халат. Моль проела дыру на уровне живота, проступает желтая и ноздреватая, как сыр, плоть. Неконтролируемая прибавка веса, вызванная нейролептическими факторами.
Без разрешения Джона не смел прикоснуться к ней. Однако на лестнице Ханна положила руку ему на локоть и предупредила:
— Меня тут нет.
Как это понимать? Он не знал. На всякий случай ответил:
— Я тут.
Они устроились в кухне, откуда Джордж не мог их слышать. Свой завтрак Ханна в основном скормила кошке, и Джона спросил, не приготовить ли ей что-то еще. Она покачала головой. На голове — воронье гнездо. Он предложил вычесать ей волосы. Не встретив отказа, сходил наверх и принес расческу с редкими зубцами и флакон детского масла.
Сидел у нее за спиной, что-то тихонько приговаривая, ничего серьезного, старался ее рассмешить. Настроения Ханны менялись, словно комбинации в игровом автомате. Бывала заторможенной, как нынче, или неконтактной, дезориентированной, или вспыльчивой, подозрительной. Он научился следить за малейшими переменами.
— Все волосики запутались, — сказал он, разбирая очередной колтун. Ее волосы представлялись ему нейронами — взбесившимися, растущими наружу, бегущими прочь от вечно мятущегося мозга. Он вычесывал прядь за прядью, чтобы Ханна была красивой, аккуратной.
К третьему курсу Джона уже немало знал об устройстве мозга. Видел его в анатомическом театре, изучал в разрезе, и ему было известно, что заболевание Ханны чаще всего относят к числу нейрохимических. Впрочем, существовала и другая теория — анатомическая. А третья группа ученых (сокращавшаяся с каждым годом, по мере того как психиатрия все больше срасталась с биологией) считала этот недуг психосоциальным. И хотя все дружно признавали эту болезнь недифференцированной, хронической и прогрессирующей, единственного верного эпитета — кошмарная — не произносил никто.
— Что ты сейчас смотришь по телевизору? «Робинзонов»?
— Нет. — Она пожала плечами.
— А что?
— Эмерила.
Он рассмеялся:
— Глядишь, в следующий раз ты приготовишь мне обед.
— Фрикасе тебе сделаю, — сказала она и наконец улыбнулась.
Это в самом деле была она, Ханна. Пряталась где-то там, изредка выглядывала, махала ему рукой. Вот что разбивало ему сердце. Но он поспешил воспользоваться этим недолгим просветом.
— Тук-тук.
— Кто там?
— Настырная корова, — представился он.
— Настырная ко…
— Мууууу.
Снова она улыбнулась.
— Тук-тук, — повторил он.
— Кто там?
— Настырная корова-дислектик.
— Настырная корова-дис…
— Уууууум.
Они дружно засмеялись.
— Моя очередь, — сказала Ханна. — Тук-тук.
— Кто там?
— Настырная черепаха.
— Настырная че…
Она медленно вытягивала шею, будто выглядывая из панциря.
— Тук-тук, — сказал он.
— Погоди, моя очередь, — сказала она.
— Прости, — извинился он. — Помешал тебе на полуслове.
— Тук-тук.
— Кто там?
— Настырная черепаха-дислектик.
— Настырная черепаха-дис…
Она так же медленно заползла обратно в свой панцирь.
Они посмеялись от души. Этой шутке сама же Ханна и научила его — сколько-то лет тому назад.
— Расскажи анекдот, — попросила она.
В голову лезли только сальности, подслушанные в операционной. Вряд ли они позабавят Ханну.
— Как-то я иссяк, — повинился Джона.
Напрасно. Она вновь ушла в себя, оттолкнула недоеденный багет. Лентяйка Сьюзен потянулась было за ним, но Ханна спустила кошку на пол и шикнула на нее, выставляя за дверь.
Джона торопливо заговорил, громоздя шутку на шутку, изо всех сил стараясь развлечь Ханну, вернуть ее. Она в тупой апатии оттягивала себе пальцами нижнюю губу, потом принялась терзать кутикулу, пока кровь не выступила. Ему хотелось хорошенько встряхнуть Ханну, ему ни в коем случае не хотелось этого делать, и он, обессилев, замолчал. Какое-то время они так и сидели, ничего не делая.
Снаружи завопил сосед: привезли уголь.
— Прическа в порядке, — сказал Джона. — Может, примешь ванну?
— Уже мылась.
— Когда?
— Утром.
Лжет или путает — что именно, не поймешь. Но помыться давно пора. Так почти всегда, когда Джона приезжает: Джордж стесняется ее наготы и не моет дочь, ждет Джону или Бернадетту, приходящую три раза в неделю сиделку.
— Масло из волос вымоем, — мягко настаивал Джона.
Она погрызла большой палец:
— Ему неохота.
Джона заглянул в гостиную. Джордж снова уснул, прижимая к себе бутылку, будто маленькую, уродливую любовницу.
— О’кей, — сказал Джона. — Мы с тобой вдвоем справимся.
Ее спина была такой белой, что отливала в прозелень. Ноги сто лет не бриты. Когда-то ее левое плечо было крупнее правого — последствия тренировок, — теперь они одинаковые, сутулые, мускулатура съежилась, заплыла жиром. И все же Джоне казалось, что в Ханне еще таятся силы. Теперь он взял бы над ней верх в армрестлинге, но это — с недавних пор.
Она съежилась, подставляя спину и пряча грудь, словно от девичьей стыдливости. Джона хорошо помнил тот момент, когда Ханна в его глазах утратила пол: когда ее в первый раз на глазах Джоны унимали санитары. Она лягалась, плевала, дергалась и вопила, и вдруг он понял, как Ханна похожа на младенца-переростка. Похоть несовместима с подобной беспомощностью, была бы извращением. Всякое желание исчезло навеки, раз — и ушло.
А ведь — горько и сладостно вспоминать — ее младенческое доверие, младенческая ласковость более всего и привлекали Джону. Огромные рыбьи глаза и как она вжималась в его тело, ища тепла и защиты. И до того, как ее недуг стал явным, Джона привык чувствовать себя ее покровителем. После того как рос младшеньким в семье, где его мнение никто не принимал всерьез, он с готовностью сделался супергероем Ханны.
Они познакомились в Мичигане. Свел их Ланс: его мать дружила с Венди Рихтер, и, когда Ханна осенью 1998 года вернулась в Анн-Арбор — пропустила семестр после смерти матери (Венди скончалась от рака груди), Ланс решил утешить девушку, представив ей клевого новичка. Потом Ханна признавалась Джоне, что не решилась огорчить Ланса, указав ему на оксюморон: новичок не может быть «клевым». Он тебе понравится, он тоже из Нью-Йорка.
Спасибочки, сказала Ханна. Детишки с Восточного побережья вечно кучкуются, а она предпочитала держаться сама по себе.
Спасибочки, сказал Джона. К тому времени они с Лансом были знакомы всего месяц, но уже достаточно близко, чтобы Джона усомнился в его талантах свахи.
Но Ланс допекал их обоих, и на Хэллоуин Джона явился в «Скиперс», разговорился там с широкоплечей черноволосой девчонкой, вскоре они решили, что в клубе чересчур шумно, и вот уже они целовались снаружи, а потом писали друг другу полтора десятка электронных писем в день и не успели оглянуться, как его сестра уже именовала их парочкой.
Со стороны и впрямь парочка, хотя задним числом Джона счел бы это выражение неточным. Не парочка, а полное поглощение. Ханна растворилась в нем. Одинокая, застенчивая, она предпочитала всецело отдаваться чему-то одному. Такая сосредоточенность привела ее в софтболл — тот вид спорта, где весь мир сходится в точку, движешься вдоль прямой, и твои руки — концы отрезка. И теперь с маниакальным упорством спортсменки Ханна обрушила на Джону свою привязанность — густую, как джем, острую до боли.
Задним числом он мог также усомниться в серьезности их отношений. Они были молоды, теперь-то он другой, заржавел. Невинная, доверчивая Ханна, безудержная оптимистка. Теперь он считал это наивностью — но ведь в том числе и потому, что наблюдал ее распад, хронометрировал одну будничную трагедию за другой. Если бы он мог совершить путешествие во времени, увидеть ее там нынешним своим взглядом… но он не мог совершить путешествие во времени, такого путешествия никто не совершал, а сидеть тут и гадать «что, если бы» не имело никакого смысла — и он не будет этим заниматься.